Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве
Подождите немного. Документ загружается.

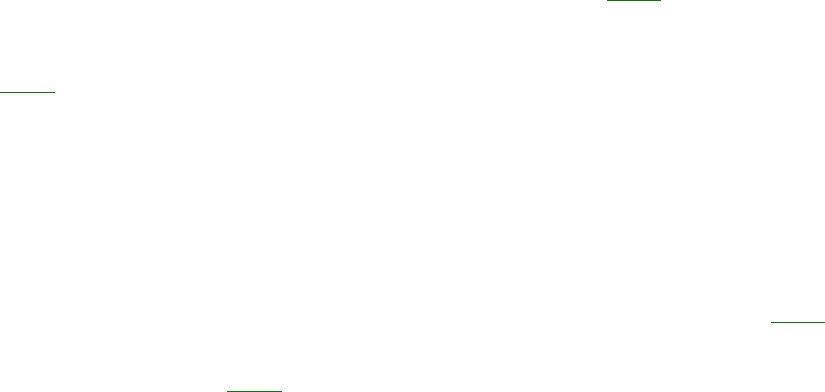
зависит от формы сделки, из которой возникло уступаемое требование. Такой взгляд можно обозначить
термином теория зависимости (формы одной сделки от формы другой). Теорию зависимости можно без
преувеличения назвать господствующей в русской цивилистической литературе*(262). С ней конкурирует
взгляд, не имеющий специального наименования, в соответствии с которым форма договора цессии
признается подчиняющейся общим правилам Гражданского кодекса о форме сделок и о форме
договоров. Большинство сторонников этого взгляда олицетворяли собой время действия ст. 128 ГК
РСФСР 1922 г.,*(263) которая и в самом деле устанавливала, что "уступка требования и перевод долга
должны быть совершены, поскольку в законе нет специальных указаний, в форме, установленной для
договоров вообще". Но поскольку буквально тут же следовало "специальное указание": "уступка
требования или перевод долга, вытекающих из договора, совершенного в письменной форме, во всяком
случае, должны быть облечены в такую же форму". Как видим, "теория общего правила" по ГК РСФСР
1922 г. оказывалась органически соединенной с теорией зависимости: общие правила работали только
тогда, когда речь не шла о требовании, возникшем из письменного договора, т.е. подлежала
субсидиарному применению наряду с теорией зависимости.
Рассмотренным теориям - об определении формы договора цессии по правилам
законодательства о форме сделок вообще и в зависимости от формы сделки, послужившей основанием
возникновения уступаемого требования - традиционно противостояла теория письменности*(264) -
взгляд, согласно которому всякий договор сингулярной сукцессии обязательно должен быть совершен,
как минимум, в простой письменной форме, а цессия требований из нотариально удостоверенных
сделок - и вовсе в нотариальной форме*(265).
Представляется, что именно теория письменности должна быть расценена как наиболее удачная
и отвечающая потребностям прочности гражданского оборота.
Основным соображением в пользу этого заключения является отсутствие у договора
сингулярной сукцессии каких-либо внешних проявлений, которые могли бы быть доказаны показаниями
свидетелей или документами. Если передача вещи может быть доступна восприятию свидетелей, то
передача прав, не обставленная торжественным символическим обрядом - никогда. Передача вещи
влечет внешне видимое уменьшение имущества передавшего и увеличение имущества получившего
вещь; передача права, напротив, никаких подобных последствий не имеет. Наконец, заключение в
устной форме, скажем, договора купли-продажи, если и создаст в будущем неопределенность
отношений, то только между сторонами, в то время как совершение в устной форме договора
сингулярной сукцессии может вылиться в будущем в неопределенность правового положения третьего
лица - должника, не участвующего в этой сделке.
Допуская возможность совершения договора сингулярной сукцессии в устной форме
законодатель тем самым предполагает возможным возникновение затруднений в доказывании факта
заключения и условий подобных договоров. Исключая же такую возможность и допуская только
письменную форму договора сингулярной сукцессии, законодатель эти трудности отсекает.
В пользу теории письменности договора сингулярной сукцессии может быть высказано также и
следующее соображение. В доказывании факта и условий сингулярной сукцессии могут быть
заинтересованы не только стороны данного договора, но и третье лицо - должник. Так, должник,
произведший исполнение новому кредитору, заинтересован в том, чтобы иметь возможность доказать,
что исполнение это было надлежащим, то есть, в том, чтобы иметь возможность доказать наличие
договора сингулярной сукцессии. Без представления доказательств совершения уступки требования
должник вправе не только не исполнять кредитору новому, но и вправе задержать исполнение кредитору
прежнему. Поскольку интересы должника и интересы кредиторов прямо противоположны друг другу,
следует признать, что требование должником письменных доказательств совершенной уступки не только
не лишено оснований, но и заслуживает уважения со стороны закона. Действительно, недобросовестные
кредиторы вполне могут вступить в сговор и отказаться от своих прежних утверждений о якобы
состоявшейся уступке после того, как новый кредитор получит исполнение. При наличии же письменного
подтверждения уступки кредиторы такой возможности практически лишаются.
Единственным предвидимым нами возражением против принятия теории письменности в
качестве общего правила о форме договора сингулярной сукцессии является соображение о том, что
требование письменности формы может стеснить гражданский оборот. Но при ближайшем его
рассмотрении соображение это оказывается вовсе лишенным оснований. Договоры об уступке
требований между гражданами из сделок, на сумму менее 10 минимальных размеров месячной оплаты
труда, а также требований, возникших из оснований, иных, чем сделки, в настоящее время практически
не встречаются. Что же касается договоров уступки требований между юридическими лицами, то
таковые, как правило, облекаются в письменную форму по принципу зависимости от формы основной
сделки, ибо уступка требований, возникших из иных оснований, чем сделки, в их деятельности также
встречается крайне редко. Иными словами, получается, что фактически договоры сингулярной
сукцессии и без того почти не заключаются в устной форме; не просто основной, но практически -

единственной их формой является форма письменная. Встав на позиции теории письменности,
законодатель тем самым только подтвердит фактически и сложившееся общее правило.
Таким образом, общим законодательным правилом о форме договора сингулярной сукцессии
должно быть правило о письменности его формы. Теория зависимости должна применяться только к
договорам уступки требований, возникших из сделок, заключенных в форме, более строгой, чем
письменная.
Каковы последствия несоблюдения законодательного предписания о письменной форме
договора сингулярной сукцессии? Опять-таки по причине отсутствия специальных законодательных
предписаний по данному вопросу следует руководствоваться нормами общими, содержание которых
таково.
1) Несоблюдение простой письменной формы сделки, по общему правилу, не влечет ее
недействительности, а только лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки
и ее условий на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК). Именно это правило и должно применяться
как общее при определении последствий несоблюдения простой письменной формы договора
сингулярной сукцессии.
2) Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность только в
случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон (п. 2 ст. 162 ГК). В отношении именно
договора цессии таких случаев в законе не указано; в отношении же сделок определенных родов и видов
необходимо обратить внимание на норму п. 3 ст. 162 ГК, устанавливающую недействительность
внешнеэкономической сделки, совершенной с нарушением простой письменной формы. Следовательно,
договор сингулярной сукцессии, относящийся к категории внешнеэкономических сделок, должен быть
совершен в простой письменной форме под угрозой его недействительности.
Кроме того, заслуживает внимания норма ст. 390 ГК, допускающая принятие цедентом на себя
поручительства за должника перед цессионарием. Нормой ст. 362 ГК установлено, что договор
поручительства должен всегда облекаться в письменную форму под страхом его недействительности.
Следовательно, договор уступки требования с условием о поручительстве цедента перед цессионарием
за должника должен быть совершен в простой письменной форме под угрозой его недействительности.
3) Вопрос о том, будет ли недействительным договор сингулярной сукцессии требования из
сделки, несоблюдение простой письменной формы которой влечет ее недействительность (например, из
тех же самых внешнеэкономических сделок (п. 3 ст. 162 ГК), соглашений о неустойке (ст. 331), договоров
о залоге (п. 2 и 4 ст. 339), поручительстве (ст. 362), предварительного договора (п. 2 ст. 429) и др. - см.
еще ст. 550, 560, 651, 658, 820, 836, 940, 1017 и 1028 ГК), должен решаться, по нашему мнению, в
положительном смысле, несмотря на отсутствие прямого указания об этом в законе. Иными словами,
договоры уступки требования из договоров, для которых законом установлена обязательность простой
письменной формы под страхом недействительности, также должны совершаться в простой письменной
форме и также под страхом их недействительности.
В пользу этой точки зрения мы могли бы высказать лишь политико-правовое соображение.
Действующее законодательство этой позиции обосновать не позволяет, говоря о зависимости договора
сингулярной сукцессии от основного договора только в вопросах самой формы, но не последствий ее
несоблюдения. Но если встать на законодательную позицию, то мы получим следующее. Создавая
правоотношения посредством заключения, например, кредитного договора, его участники подвергаются
более строгим последствиям несоблюдения требования о простой письменной форме договора, нежели
лица, создающие новые правоотношения посредством уступки требования из уже существующего
кредитного договора. Банк, ставший кредитором по кредитному договору посредством его заключения,
рискует оказаться участником ничтожной сделки при несоблюдении ее простой письменной формы. А
банк, ставший кредитором посредством приобретения требования из уже заключенного кредитного
договора, подобному риску не подвергается даже в случае нарушения простой письменной формы
договора уступки требования. В чем юридический смысл подобной разницы в правовом положении
первоначального и нового кредиторов? Нет такого смысла, а, следовательно, толкование нормы ст. 389
ГК должно быть расширительным, а не буквальным, т.е. подразумевать зависимость договора
сингулярной сукцессии от основного договора не только в вопросах формы (о чем, собственно, и говорит
статья), но также и в вопросах последствий ее несоблюдения.
В пользу расширительного, а не буквального толкования данной нормы свидетельствует также и
ее предписание о необходимости нотариальной формы уступки в случае, если уступаемое требование
возникло из нотариально удостоверенной сделки. При буквальном толковании получается, что договор
уступки требования, совершенный с нарушением этого правила, остается действительным, ибо в статье
также не сказано о том, что таковой должен быть совершен в нотариальной форме и с последствиями ее
несоблюдения.
4) Несоблюдение нотариальной формы сделки в случаях, когда ее обязательность установлена
законом (см. ст. 185, 187, 339, 349, 584, 883*(266), 1124) или соглашением сторон, влечет ее

недействительность (п. 1 ст. 165 ГК). Следовательно, несоблюдение установленного законом правила о
необходимости совершения договора сингулярной сукцессии требования, возникшего из нотариально
удостоверенной сделки, в нотариальной письменной форме, влечет ничтожность договора сингулярной
сукцессии.
5) Несоблюдение (в случаях, установленных законом) требования о государственной
регистрации сделки также влечет ее недействительность (п. 1 ст. 165 ГК). Иначе говоря, договоры
уступки требования из договоров, для которых законом установлена обязательность их государственной
регистрации под страхом недействительности*(267), подлежат государственной регистрации под
страхом их недействительности, если иное не будет установлено законом (п. 2 ст. 389 ГК). В ином
случае (т.е. когда требование о государственной регистрации договора есть, но указания на
недействительность как последствие его несоблюдения нет) применяется общее правило п. 3 ст. 433 ГК,
согласно коему "договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента
его регистрации, если иное не установлено законом". Следовательно, если имеет место договор
сингулярной сукцессии требования из договора, подвергнутого государственной регистрации, но в
отношении которого законом не установлено страха его недействительности по мотиву отсутствия
государственной регистрации, то такой договор без его государственной регистрации не считается
заключенным.
ГК установлено, что "уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем
индоссамента на этой ценной бумаге" (п. 3 ст. 146, п. 3 ст. 389 ГК). Буквальное толкование этих
предписаний позволило ряду ученых прийти к совершенно ложному выводу о том, что индоссамент - это
не более, как особенная форма договора сингулярной сукцессии, так называемая "передаточная
надпись"*(268). В действительности, термином "индоссамент" обозначается не только надпись о сделке,
но и, прежде всего, сама сделка, хотя и приводящая к сингулярному обязательственному
правопреемству, но с договором цессии ничего общего не имеющая. К сожалению, большинство
современных авторов, не специализирующихся на вопросах теории ценных бумаг, ошибочно полагают,
что индоссамент представляет из себя особую разновидность договора уступки требования*(269).
Вопросу о правильности этого мнения и действительном соотношении сделок цессии и индоссамента
будет уделено соответствующее место в следующем параграфе настоящей главы.
г) Содержание договора
Содержание договора сингулярной сукцессии (активной цессии, уступки требования), как,
впрочем, и содержание всякого договора, составляют его условия. Российским законодательством не
установлено, какие именно условия являются существенными для наличности и действительности
договора сингулярной сукцессии. Из этого (с точки зрения практики - весьма прискорбного)
обстоятельства, нужно сделать вывод, что единственным существенным (с точки зрения закона)
условием данного договора является условие о его предмете (как и для всех договоров, см. об этом ч. 2
п. 1 ст. 432 ГК).
Предметом договора сингулярной сукцессии может быть субъективное обязательственное право
или право требования. При делимости предмета обязательства - предметом уступки может быть как
полное требование (в отношении всего предмета обязательства), так и его часть. При всем том
негативном отношении к сделкам уступки частей требования, какое периодически продолжает являть
нам и по сию пору российская арбитражная практика, мы должны еще раз констатировать, что в уступке
части требования нет ничего незаконного или противоестественного. Больше того, Гражданский кодекс
(ст. 384 ГК), постановляя, что "...право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том
объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права" лишь в том случае, "если
иное не предусмотрено законом или договором", можно сказать, прямо позволяет кредиторам в их
цессионных соглашениях "дробить" делимые требования в целях их уступки на любое количество частей
любого размера - лишь бы наименьшая часть каждого, образуемого таким способом нового требования,
не выходила бы за пределы делимости его предмета.
Не подлежит никакому сомнению, что предмет договора сингулярной сукцессии (активной
цессии) должен быть индивидуально определен. Вступая в договор, влекущий возникновение для него
какого-либо требования, цессионарий не может позволить себе беспечность в вопросе о том, что это за
требование. Индивидуализация требования достигается при условии индивидуализации пяти его
основных составляющих: (1) предмета требования (что можно требовать); (2) активной стороны
(кредитора); (3) пассивной стороны (должника); (4) содержания требования (какие действия должник
обязан произвести с предметом требования) и (5) основания возникновения требования*(270). Так,
например, формулировка о том, что "предметом договора (сингулярной сукцессии) является требование
А. к Б. об уплате последним А. денежной суммы в размере N рублей, возникшее из договора такого-то"
вполне отвечает всем перечисленным выше требованиям. В ней индивидуализированы (1) предмет
требования - денежная сумма в размере N рублей; (2) активная сторона (кредитор) - это А.; (3)
пассивная сторона (должник) - это Б.; (4) содержание требования - уплата, т.е. передача денег от Б. к А.

и (5) основание возникновения требования (договор такой-то).
Перечисленные критерии - в основном необходимые, но не всегда достаточные условия для
индивидуализации того или иного требования. Бывает и так, что для индивидуализации конкретного
обязательственного права необходимо знать и о некоторых других его (дополнительных)
характеристиках. Так, например, если одно основание (допустим, один договор) породило несколько
одинаковых по размерам, но разных по юридическим свойствам требований, необходимо каким-то
образом разграничить эти требования друг с другом по иным качествам (6) - видовой принадлежности
требований. Так, если в вышеприведенном примере "договор такой-то" стал основанием возникновения
требований, с одной стороны, об уплате арендной платы в размере N рублей, с другой - о возмещении
убытков, причиненных повреждением арендованного имущества в том же размере, и, кроме того, еще и
требования об уплате выкупной цены предмета аренды (также в сумме N рублей), то, безусловно,
необходимо уточнить, какое именно из трех перечисленных требований является предметом уступки.
Может случиться и так, что в одном договоре будут соединены несколько требований с
одинаковым юридическим качеством, но с различными иными характеристиками, например, с
различными сроками возникновения, сроками или способами осуществления. Так, например, из
договора поставки продукции несколькими партиями одинаковой стоимости у поставщика возникает
несколько (по числу партий, на которые разбивается поставка) требований об уплате одинаковых
денежных сумм. Уступая одно или некоторые из них, но не все, поставщик обязан, по требованию нового
кредитора индивидуализировать предмет, что возможно сделать указанием на (7) основание (срок) его
возникновения (поставка такой-то партии - осуществленная в такую-то дату, оформленная
определенным транспортным документом и т.п.) и (или) срок осуществления.
Как быть, если индивидуализации требования не произошло? В этом случае, как нам
представляется, нужно исходить из следующего рассуждения. Индивидуализация предмета договора
активной цессии составляет непосредственный интерес цессионария, а не цедента. Цедент расстается с
требованием, почему ему глубоко безразлично его точное и полное описание. Цессионарий же
приобретает требование, которое ему в дальнейшем придется осуществлять. Этого он сделать не
сможет, если не объяснит должнику и суду, что же за требование он приобрел. Коль скоро цессионарий
(по беспечности, неграмотности или каким-то иным причинам) не настоял на индивидуализации
требования, являющегося предметом договора, то нет, значит, и никаких оснований заставлять других
лиц (в частности, цедента) заботиться об охране приобретенного цессионарием требования. Значит, в
случае возникновения спора между цедентом и цессионарием по вопросу о том, какое именно
требование или в какой части было предметом уступки, достоверными должны предполагаться
сведения, представленные цедентом. На цессионария же вполне логично возложить бремя
опровержения этой презумпции. Если цедент утверждает, что он не уступал цессионарию никакого
требования, а цессионарий не в состоянии этого утверждения опровергнуть, то, очевидно, факт
заключения договора уступки требования нельзя считать доказанным или, как выражается современная
арбитражная практика, договор цессии должен признаваться незаключенным. В литературе эта мысль
была высказана М.И. Брагинским, хотя и в несколько нестандартной форме: нельзя уступать права, не
являющиеся ни определенными, ни определимыми*(271). Естественно, нельзя, ибо если "нечто" не
является ни определенным, ни определимым, то это "нечто" вообще не является субъективным правом
и, следовательно, не представляет собой субстанции, которая могла бы быть предметом уступки.
Индивидуализация предмета договора цессии может иметь различную степень точности.
Подобно тому, как денежные купюры можно индивидуализировать как путем фиксации их серий и
номеров, так и помещением их в какой-нибудь кошелек или бумажник, также и с требованиями. Выше мы
приводили пример, когда надлежащая точность в обозначении предмета договора сингулярной
сукцессии обеспечивают сведения по числу позиций от пяти до семи. Но на практике нередко
встречаются случаи, когда оказывается достаточным и меньшее число известных признаков. Таковы,
например, ситуации, когда предмет договора сингулярной сукцессии формулируется как "все
требования, возникшие (имеющие возникнуть) из кредитного договора такого-то между А. и Б.". Здесь
содержатся определенные сведения только о сторонах обязательственного отношения, содержанием
которого являются искомые требования (А. и Б.) и основания их возникновения (кредитный договор
такой-то). Сведения по двум другим позициям определимы из норм указанного кредитного договора и
самого договора уступки - по тому, кто выступает в нем цедентом, можно узнать, какой именно комплекс
прав (кредитора или заемщика) он передает цессионарию. Возможно представить себе и ситуацию, в
которой предметом уступки является единственное требование (определенного рода или вообще),
связывающее в момент совершения уступки определенного кредитора с определенным должником.
Конечно, такие ситуации чаще будут встречаться в отношениях с участием граждан и, скорее всего,
окажутся лишены предпринимательской окраски (один коллега "перехватил" у другого несколько тысяч
рублей "до получки", один сосед помог другому с ремонтом квартиры, а с оплатой согласился обождать и
т.п.). Если никаких иных обязательственных отношений между данными лицами в момент уступки просто
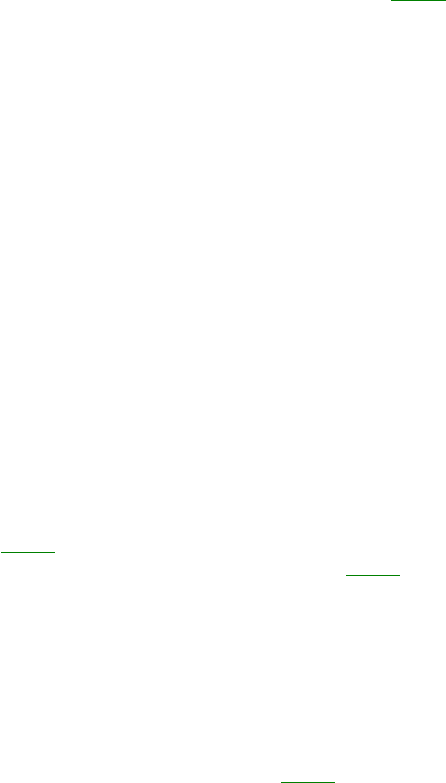
не было, то ясно, что о цессии иного требования, кроме одного-единственного, реально
существовавшего, речи быть не могло; никакой надобности в какой-то особенной его индивидуализации,
стало быть, и нет.
Уступая требование, цедент должен помнить, что одновременно он уступает и все связанные с
ним (дополнительные) права, в частности права, обеспечивающие исполнение, а также право на
неуплаченные (точнее - не набежавшие) проценты, если иное не предусмотрено законом или договором
(ст. 384 ГК). Мнение о подобном "подразумеваемом" предмете уступки является общепризнанным не
только в законодательстве и арбитражной практике, но и в научной литературе*(272). Очевидно, основой
ст. 384 ГК является аналогическое распространение на сферу оборота прав одного из принципов
оборота вещей, известного еще из римского права - accession cedit principal, т.е. принадлежность
следует судьбе главной вещи.
С описанным не следует смешивать случай уступки права требования денежной суммы, хотя бы
и возникшее в ходе реализации дополнительного обязательства, но к моменту уступки приобретшее
определенный размер. Таковы, например, требования об уплате определенной суммы штрафа,
неустойки или процентов, "набежавших" за определенный период. Подобные требования вполне могут
существовать независимо от других, т.е. имеют вполне самостоятельный характер и могут быть
"оторваны" от требования основного. Подобно тому, как главная вещь не следует за принадлежностью,
точно также и уступка дополнительных по происхождению, но самостоятельных по сути прав, не влечет
смену кредитора в основном обязательстве. Иная судьба у акцессорных обязательств с иным
предметом (например, из залога, обременения имущества арендного типа или обременения типа
security interest), а также - условных денежных обязательств (из договора поручительства, банковской
гарантии) и денежных обязательств с неопределенной суммой: права, составляющие содержание
таковых, действительно, не могут быть уступлены отдельно от прав, слагающих основное
обязательство.
Можно, конечно, спорить о законности того или иного способа договорного определения судьбы
дополнительных по происхождению, но самостоятельных по сути требований, но здесь есть тот "плюс",
что тем или иным образом, но определенность все же достигается. Сложнее с другим вопросом: какова
судьба права на набежавшие ("отвердевшие" в определенной сумме), но не выплаченные к моменту
совершения цессии проценты (неустойка, пеня, штраф, иные плоды и доходы) в случае умолчания об
этом в договоре? По этому вопросу возможны, разумеется, две точки зрения; обе они присутствуют в
литературе. Можно выдвинуть презумпцию сохранения права требования набежавших, но не
выплаченных процентов за цедентом*(273), а можно предполагать и обратное, а именно - что право на
набежавшие, но не выплаченные проценты переходит к цессионарию*(274). И хотя ст. 384 ГК не
проводит разницы между правами на набежавшие и будущие проценты, очевидно, давая повод к тому,
чтобы склониться ко второму взгляду, нам все-таки представляется правильной первая точка зрения.
Как уже указывалось требование "набежавших процентов" есть не более, как требование определенной
денежной суммы, существование и определение суммы которого не зависят от основного требования.
Требованием процентов оно остается только по происхождению, но по сути своей является требованием
определенной денежной суммы, имеющим независимое от уступаемого существование. На него,
следовательно, не распространяются принципы принадлежности и следования уступаемому
требованию. Допустима ли сингулярная сукцессия требования, которое на момент совершения договора
еще не возникло, но неизбежно должно возникнуть в будущем?*(275) С точки зрения современного
российского ГК, уступка будущих требований по общему правилу является недопустимой. Об этом
свидетельствуют, в частности, нормы п. 1 ст. 382 и ст. 384, которые говорят об уступке принадлежащего
кредитору требования, должного существовать ко времени перехода в определенном объеме и на
определенных условиях, т.е. об уступке существующего требования, а также - ст. 390,
регламентирующая вопросы ответственности цедента за действительность требования.
Каким должен быть теоретический ответ на этот вопрос?
В рамках концепции, допускающей признание субъективных прав объектами гражданских
правоотношений, этот ответ никак не может быть положительным. Во всяком случае, ни одной научной
работы, в которой обосновывалась бы объектоспособность будущих требований, нам неизвестно.
С точки же зрения наших взглядов на сущность уступки как один из производных способов
возникновения субъективных прав, ответ может быть двояким.
Понимая под производным такое возникновение обязательственных прав, которое происходит на
основе уже существующего требования и сопровождается его прекращением (производное
возникновение прав в собственном (узком) смысле слова), мы полагаем, что на поставленный вопрос
также должен быть дан отрицательный ответ. Если мы говорим о будущем (по отношению к известному
моменту) требовании, то мы признаем, что в данный определенный момент обсуждаемого требования
еще нет, оно не существует, отсутствует. В состоянии отсутствия требования отсутствует и
обязательственное правоотношение, в котором могла бы произойти замена кредитора, а значит,

отсутствуют и должник, и кредитор, т.е. двое из трех участников операции уступки и один из
контрагентов договора цессии (цедент) - кредитор, который мог бы быть заменен. Отсутствие же
цедента делает просто невозможным заключение договора цессии.
Такой ответ, однако, не объясняет норм п. 6 ст. 340 и п. 1 ст. 826 ГК, согласно которым будущие
денежные требования могут быть предметом залога (сделки, с совершением которой связывается
возникновение возможности отчуждения заложенного права, причем безотносительно к моменту его
возникновения), а также уступки, совершенной в рамках факторинга*(276). Последний институт никак не
может быть списан на особенности отечественного законодательства, поскольку практика уступки
будущей дебиторской задолженности с определенными родовыми и видовыми характеристиками (так
называемой оптовой уступки) не только является общепринятой в мировом масштабе, но и, более того,
представляет собой самую характеристическую черту операции факторинга, выражающую ее суть.
Факторинг - это не просто уступка денежных требований за деньги, а бесперебойное финансирование
финансовым агентом основной деятельности клиента, его избавление от проблем, вызываемых
платежеспособностью его покупателей и заказчиков. Это обстоятельство заставляет подойти к вопросу о
допустимости уступки будущих требований несколько иначе и, в частности, уточнить выведенное выше
понятие о производном приобретении субъективных прав.
Рассуждая о производном приобретении субъективных прав, мы всегда исходили из
предположения о том, что юридическим фактом - непосредственным основанием для производного
приобретения прав, является действие обладателя первоначального права (заключение договора или
совершение односторонней сделки); отсюда - иллюзия того обстоятельства, что основание для
производного приобретения прав всегда наступает после возникновения субъективных прав, которым
суждено стать основой (базой) для прав производного происхождения. Так, говоря о производном
приобретении права собственности (например, по договору купли-продажи между А. (продавцом) и Б.
(покупателем), всегда предполагают следующую жесткую последовательность фактов: (1) приобретение
права собственности на вещь продавцом (А.), (2) заключение договора купли-продажи и (3) передача
вещи (от продавца А. к покупателю Б.) и, следовательно, (4) переход права собственности на вещь от А.
(его прекращение у А.) к Б. (и возникновение у Б.). Непосредственное основание "перехода" права
собственности - передача вещи - немыслимо без действия продавца А. - субъекта - обладателя
первоначального права. Но что мешает признать существование юридических фактов, наступление
которых делает обсуждаемый юридический эффект (производное приобретение права) неизбежным
(автоматическим), т.е. не зависящим от воли и действий обладателя первоначального права? Если нет
ничего невозможного в совершении сделок под отменительными и отлагательными условиями (ст. 157
ГК), то препятствий для такого признания нет. Договор об уступке будущих требований будет подобен
сделке, осложненной отлагательным условием, с той только разницей, что таковое будет не случайным,
а конститутивным.
Вместе с тем распорядительный (абсолютно-правовой) эффект договора об уступке будущих
требований будет обладать существенной спецификой. Если юридический результат классической
уступки (цессии существующего требования) исчерпывается его прекращением в лице цедента с
последующим возникновением в лице цессионария (изменением принадлежности), то в случае цессии
будущего требования его необходимым образом предваряет иной, совершенно специфический
гражданско-правовой эффект: наделение (связывание) его контрагентов статусом будущего цедента и
будущего цессионария. Каждый из участников договора уступки будущих требований становится в
состояние связанности по отношению к другому участнику. Будущий цедент связывается перспективой
неизбежного прекращения субъективного права - предмета договора немедленно в момент его
возникновения; будущий цессионарий - перспективой неизбежного возникновения у него субъективного
права - производного по отношению к праву будущего цедента. Это состояние взаимной связанности
образует содержание совершенно специфического правоотношения и может быть разорвано
контрагентами посредством заключения договора, отменяющего договор уступки будущего требования.
Оно подобно состоянию связанности, обеспечивающей секундарное право с той лишь разницей, что
распорядительный эффект, связанный с переходом требования будет вызываться не действиями по
реализации секундарного права, а юридическим событием - фактом возникновения субъективного права.
Данная трактовка замечательно вписывается в предложенное выше понимание распорядительных
действий как актов, приводящих к изменению динамической составляющей правоспособности субъектов
гражданских правоотношений.
Разумеется, все сказанное выше имеет смысл и эффект лишь в том случае, если условия
договора уступки будущих требований сформулированы таким образом, чтобы они позволяли
однозначно судить о том, являются ли те или иные возникающие в ходе деятельности его сторон
требования предметом уступки или нет, причем уже в самый момент их возникновения (п. 1 ст. 826 ГК).
Это объясняется нормой п. 2 ст. 826, которая постановляет, что денежное требование, уступленное в
потенциальном (будущем) состоянии, считается перешедшим к финансовому агенту (цессионарию)
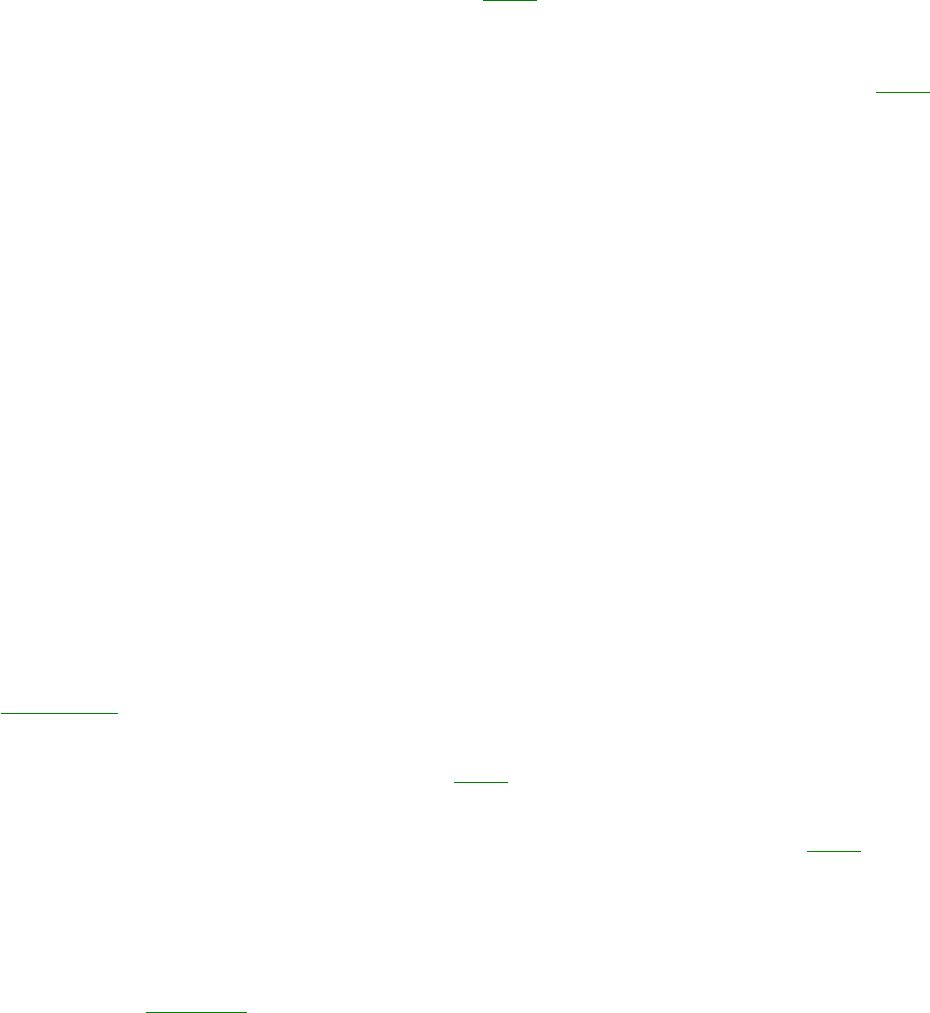
именно в момент своего возникновения (если только переход требования не обусловлен каким-либо
иным юридическим фактом). Формулировка данной нормы такова, что, на наш взгляд, не дает никаких
оснований для так называемой теории непосредственности, т.е. возникновения будущего требования
непосредственно у цессионария, минуя цедента. В свете п. 2 ст. 826 речь может идти именно о переходе
этого права к цессионарию, т.е. о его возникновении у цессионария не ранее, чем таковое возникнет и
прекратится в лице цедента (теория промежуточности)*(277).
От уступки будущих требований - прав, к моменту уступки еще не возникших - следует отличать
требования, которые в момент уступки уже существуют, но еще не могут быть осуществлены по причине
отсутствия необходимых для этого условий. Чаще всего в качестве такого условия выступает
определенный срок: его ненаступление не позволяет осуществить существующего требования*(278). С
уступкой таких требований - хотя бы и не осуществимых, но существующих - никаких проблем нет и быть
не может; к категории будущих такие требования не относятся.
Уступку будущих требований следует отграничивать от иных возможных случаев будущей
уступки (договор будущей уступки) требований, которая может иметь своим предметом как будущие, так
и реально существующие ко времени заключения договора требования, но условия которой, однако,
таковы, что связывают абсолютно-правовой эффект этой уступки с каким-то действием или событием,
которое может или должно наступить в будущем. Уступка, совершение которой стороны связывают,
скажем, с подписанием акта приема-передачи права или с уведомлением должника, будет будущей
уступкой, но совсем не обязательно уступкой будущих прав. В то же время уступка будущих требований,
как уже указывалось, всегда связывается, как минимум, с возникновением таковых в будущем. Это
означает, что уступка будущих прав - суть частный случай более широкого понятия будущей уступки.
Условие о встречном удовлетворении, эквиваленте, составляющем ближайшую причину
(основание) уступки требования, в договор сингулярной сукцессии помещать не обязательно, ибо он
относится к числу абстрактных сделок. Практика показывает, что предоставление эквивалента нередко
предшествует моменту перехода требования, являющегося предметом уступки, или даже происходит до
вступления в силу, а то и до заключения договора цессии. Это и понятно, ибо в случае договоренности
об обратной последовательности цедент фактически меняет одно право требования на другое. Сначала
у него было требование к должнику (к цессионару), а после цессии появилось требование об
эквиваленте к новому кредитору (к цессионарию). Естественно, что такой "обмен" имеет смысл только
тогда, когда цедент уверен в том, что кредитоспособность цессионария более высока, нежели
кредитоспособность должника по уступленному требованию. Такого рода договоры практикуются с
цессионариями - организациями, "специализирующимися" в области "выколачивания" (взыскания)
долгов. Получают распространение подобные договоры и у нас, о чем свидетельствует практика
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, отвергающая возможность совершения цессии под
условием выплаты цессионарием цеденту того или другого процента от фактически взысканных с
должника сумм. Подробнее о подобных договорах и отношении к ним российских арбитражных судов -
см. Приложение.
Из других условий договора сингулярной сукцессии следует отметить как существенное указание
на содержание договора. Обыкновенно это указание выражается словами "Цедент передает (уступает),
а Цессионарий принимает требование (такое-то)..."*(279). Было бы нелишним такое уточнение: "Цедент
передает (уступает) Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента (уступленное последним)
требование (такое-то)...". Без этого уточнения получается не договор, а констатация факта: цедент
передает право (неизвестно, кому), а цессионарий принимает право (неизвестно, от кого)*(280).
Несомненно, в интересах цессионария потребовать установления в договоре и условия о сроке и
порядке передачи ему цедентом документов, удостоверяющих наличность и действительность
обязательства, статус цедента в этом обязательстве, доказательства чистоты прав цедента. Не имея на
руках таких документов, цессионарий не сможет осуществить приобретенных им прав.
Очень важно обусловить, чтобы в число документов, подлежащих передаче, входили бы, в
частности, документы, опровергающие возможные возражения должника. Как мы показали в
предшествующем параграфе, должник не должен страдать от совершения сделки цессии без его
участия, а значит, такая сделка не должна ухудшать его положения. Поскольку нередко бывает сложно
предвидеть, какие же именно возражения, касающиеся отношений с цедентом, должник
противопоставит цессионарию, постольку и определить документы, подлежащие передаче цедентом
цессионарию, тоже бывает непросто. В этой связи целесообразно убедить цедента включить в договор
условие о том, что цедент обязан оказывать цессионарию любую затребованную им помощь в
опровержении возражений должника, основанных на отношениях последнего с цедентом, в том числе -
предоставлять необходимые документы по мере возникновения такой необходимости. Цедент, не
выполнивший этой обязанности, должен быть обязан договором к возмещению всех тех убытков,
которые понесет цессионарий из-за того, что цедент что-то не представил или о чем-то не предупредил
цессионария.
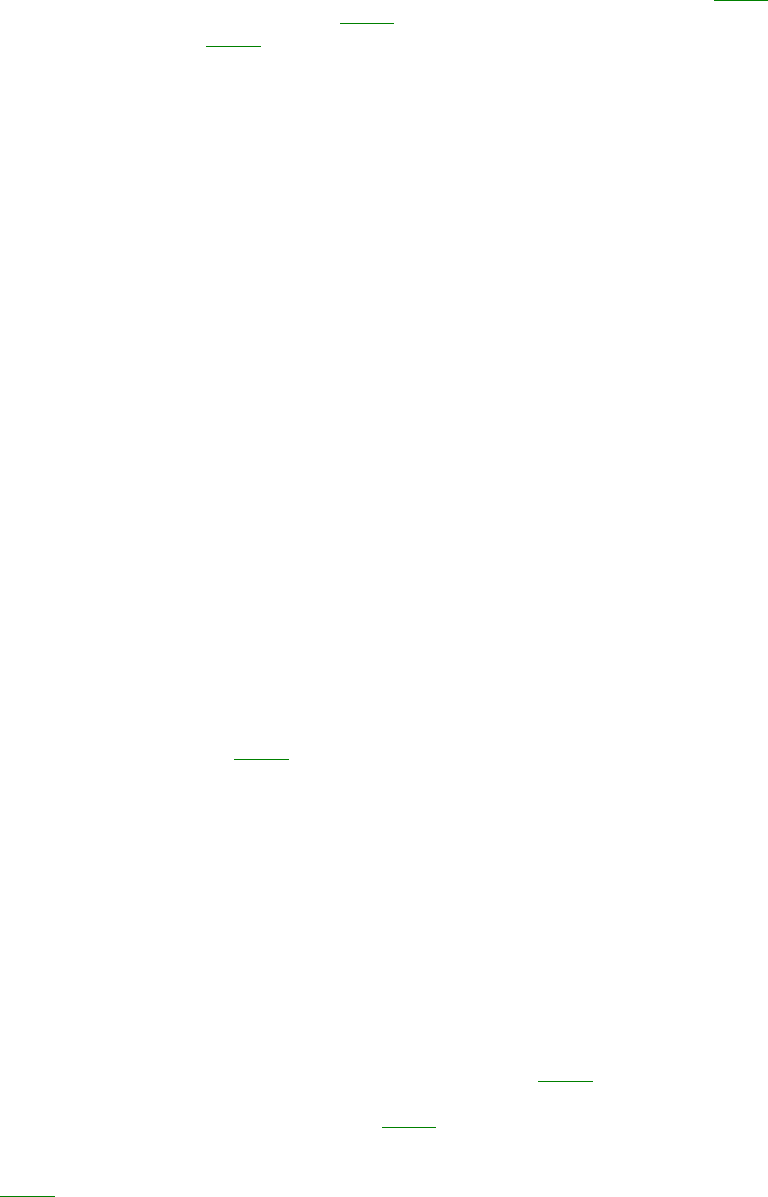
Наоборот, со стороны цедента вполне разумным и естественным было бы требование о том, что
цессионарий, не привлекший его цедента в процесс, завязавшийся из возражений должника, не
"позвавший" цедента "на помощь", должен сам принимать на себя бремя всех возникших вследствие
этого убытков.
Наконец, принципиально важным является условие о моменте перехода прав по договору
сингулярной сукцессии. Решение этого вопроса в теории встречает некоторые затруднения, результатом
чего является возможность нескольких различных точек зрения по этому вопросу, а именно: моментом
перехода права по договору сингулярной сукцессии является (1) момент заключения договора*(281); (2)
момент уведомления должника о совершенной цессии*(282); (3) момент, определенный по аналогии с
моментом перехода права собственности*(283); (4) момент составления особого акта передачи прав; (5)
момент исполнения цессионарием лежащих на нем обязанностей (по предоставлению встречного
удовлетворения за уступленное право или по передаче документов, удостоверяющих уступленное
право).
Какой из этих взглядов должен быть принят за общее правило?
Имея в виду, что требование - предмет цессии - не суть вещь, мы должны, в первую очередь,
отвергнуть точку зрения N 3, т.е. отказаться от намерения распространить на договор цессии правило ст.
223 ГК о традиции (передаче) как о моменте перехода права собственности на предмет договора (вещь).
Если проводить аналогию, то нужно ответить на вопрос: "А что же такое "передача права"? Какое
внешнее ее проявление следует почитать за передачу?" Мы полагаем, что внешнего проявления, иного,
чем соглашение сторон, в какой бы форме оно не было достигнуто - в форме ли самого договора
сингулярной сукцессии или в форме отдельного к нему "приемо-сдаточного" акта, - быть просто не
может. Такой постулат объясняется элементарным соображением - общественной, идеальной природой
всякого правового явления, в том числе и субъективного права требования, входящего в содержание
обязательства. Задача сторон договора сингулярной сукцессии - "привязать" момент перехода права
требования к одному из "соглашений" как непосредственно ("требование считается переданным в
момент подписания настоящего договора"), так и в осложненной форме (например: "через десять дней
после исполнения обязанности по оплате уступаемого по настоящему договору требования"). Это
означает, что при отсутствии специального условия о моменте перехода права требования его следует
считать переданным (прекратившимся в лице цедента и возникшим у цессионария) с момента
заключения договора цессии, т.е. автоматическую правильность первой из перечисленных выше
позиций. Из приведенных примеров отступления от этого общего правила видно, что как второй, так и
четвертый, и пятый способы определения момента перехода права могут быть предусмотрены тем или
иным конкретным договором цессии.
Основания, которые сделали господствующим мнение о незначимости уведомления или
согласия должника для определения момента совершения цессии, на наш взгляд, достаточно очевидны.
Во-первых, цессия не может ухудшать положения должника. Во имя реализации этого принципа п. 3 ст.
382 ГК исполнение должником, не уведомленным об уступке, обязательства первоначальному кредитору
признается надлежащим. От отсутствия уведомления об уступке требования должник никак не страдает.
А во-вторых, должник, интересы которого нарушены актом цессии, имеет право оспаривать его
основание (сам договор сингулярной сукцессии), несмотря даже на то, что он не является участником
этого договора (см. выводы предыдущей главы и материалы современной арбитражной практики).
Руководствуясь этими принципами, законодательство считает достаточным пассивное участие должника
в акте цессии. Активное же участие должника, выражающееся в подписании им договора сингулярной
сукцессии, выражении согласия на его совершение, признании своего долга перед цессионарием и иных
подобных формах, является, по общему правилу, факультативным и имеет специальные юридические
последствия, о которых мы расскажем ниже, при рассмотрении вопроса о правах должника по
отношению к цессионарию.
В современной литературе защитником позиции, согласно которой моментом перехода
обязательственного права по цессии является момент уведомления должника об уступке, выступил О.А.
Колесников. Ознакомление с его монографией позволяет установить, что защищаемая им позиция и
используемая аргументация отталкиваются от одного-единственного момента - от различения понятий
уступки и перехода требования. То, что цедент уступил право, еще само по себе не означает, что оно к
цессионарию реально перешло - вот отправной тезис всех рассуждений этого автора. По его
выражению, с момента своей уступки цедентом и до момента перехода к цессионарию
обязательственное право (требование) находится в некоей "буферной зоне"*(284), в которой положение
цессионария является то ли не вполне определенным, то ли не вполне крепким (укрепленным), каким
является статус классического кредитора по обязательству*(285). Эта неопределенность (непрочность)
усматривается О.А. Колесниковым в принципе, согласно которому должник, не осведомленный об
уступке, может произвести исполнение цеденту без риска признания этого исполнения ненадлежащим
(см. п. 3 ст. 382 ГК*(286)). Доводы, подкрепляющие его позицию, ученый находит даже в работах тех
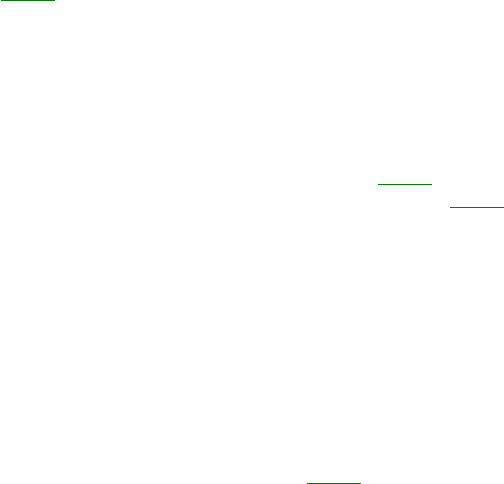
авторов, которые традиционно считаются сторонниками классического взгляда (о моменте заключения
договора цессии как моменте перехода обязательственного права). Наконец, основываясь на широко
известных внутренних противоречиях российского законодательства по вопросу о моменте и основаниях
приобретения права собственности по договору, с одной стороны, и на положениях французской
правовой системы - с другой, О.А. Колесников и сделал свой главный вывод: договор уступки
требования имеет значение только для отношений участвующих в нем сторон, но не обязателен ни для
кого из третьих лиц (не производит абсолютно-правового воздействия). Абсолютно-правовой
(распорядительный) эффект уступки (переход права), т.е. обязательность уступки для всех посторонних
лиц (включая должника), наступает не в момент заключения договора уступки, а в момент уведомления
о совершенной уступке должника.
Оценивая этот взгляд*(287), необходимо сказать следующее.
О.А. Колесников весьма скрупулезно, придирчиво и усидчиво изучил классическую русскую и
советскую литературу обязательственного права (Д.И. Мейер, И.Б. Новицкий, И.М. Тютрюмов, Б.Б.
Черепахин, М.А. Юртаева-Ривель). Его ознакомление с нею можно было бы даже назвать тонким, если
бы то, что было им выбрано оттуда в качестве косвенных доказательств правильности его позиции, не
оказывалось бы на поверку либо неудачным словоупотреблением, либо не вполне адекватной авторской
интерпретацией выбранных им высказываний. Самыми яркими примерами первого рода являются,
конечно, положения о том, что цедент и цессионарий рассматриваются по отношению к должнику как
некая единая (кредиторская) сторона, представленная двумя лицами*(288), а также высказывание о том,
что уведомление должника об уступке имеет "правоукрепляющее значение"*(289). Ясно, что ни тому ни
другому положению не следует придавать больше значения, чем они в действительности имеют - более,
чем значение метафоры или образа. Ну а наиболее выпуклыми случаями неправильной интерпретации
чужих теорий и высказываний являются, с одной стороны, противопоставление О.А. Колесниковым
статуса "обладателя права как имущества" статусу "кредитора как участника обязательства", а с другой -
сведение им понятия о принадлежности права к понятию о возможности его реального осуществления.
Нет особой нужды опровергать необоснованность обоих тезисов, такой попытки или, напротив,
доказывать в общем очевидные истины о том, что, во-первых, нельзя быть обладателем требования
(права), не будучи участником правоотношения, элементом которого является это самое требование, а
во-вторых, что принадлежать право может одному лицу, но осуществляться другим. В итоге выходит, что
все то, что Олег Александрович (с немалым трудом, коему нельзя не воздать должного!) собрал в
качестве свидетельств "внутренней противоречивости" классического воззрения и "двойственности"
точек зрения почтенных цивилистов, его отстаивавших*(290), ни о чем подобном вовсе не
свидетельствует. Практически вся теоретическая аргументация О.А. Колесникова в действительности
оказывается чисто словесными схоластическими операциями, не поднимающимися до уровня понятий.
Аргументация к законодательным противоречиям (да еще и не в самом интересующем нас
вопросе, а лишь в несколько схожей области) и, уж тем более, к системе французского права, ясное
дело, самостоятельного значения не имеет и иметь не может. Противоречия - основание для того, чтобы
подвергнуть сомнению то или другое мнение, которое вызывает таковые к жизни, но вовсе не основание
для того, чтобы опереть на них мнение противоположное. Апелляция к праву Франции столь же
бессмысленна, как и защита традиционной доктрины, основанная на положениях, скажем, права
Германии или Швейцарии. В России действует российское право и именно из его положений нужно
исходить, осуществляя догматические и поверяя теоретические умопостроения.
Аргумент, согласно которому договор не создает прав и обязанностей для третьих (не
участвующих в нем) лиц, сам по себе безусловно верен, но что же он доказывает? Только то, что
договор сам по себе не может получить абсолютно-правового действия; чтобы это произошло,
необходимо, чтобы подобное юридическое значение за договором (или иным юридическим фактом)
признал гражданский закон. В случае с договором уступки требования - единственным (!) внешне
видимым для всех фактом существования и уступки обязательственного права - Гражданский кодекс РФ
именно так и поступил, что вытекает из его норм, содержащихся в п. 2 и 3 ст. 382, п. 1 ст. 385, ст. 386 и
некоторых других. Вероятно, стоило бы сказать об этом прямо, подобно тому, как Кодекс поступил в
вопросе о моменте перехода права собственности по договору, но что бы это дало? Исследование О.А.
Колесникова показывает, что оспорить можно все и всегда - было бы желание!
Содержательным соображением, которое О.А. Колесников считает решающим аргументом в
свою пользу, является пресловутая "непрочность" положения нового кредитора до уведомления.
Действительно, до момента уведомления должника об уступке цессионарий находится в таком
положении, когда он не имеет возможности принудить должника, исполнившего обязательство
ненадлежащему лицу (цеденту), к его повторному исполнению. Но что же становится причиной такого
положения? Разве тот факт, что требование все еще не принадлежит цессионарию? Ничуть не бывало! -
причина эта состоит исключительно в вине (бездействии) самого цессионария, не озаботившегося о
реализации собственного интереса - не уведомившего должника о переходе обязательственного права.

Вообще же если допустить, что О.А. Колесников прав и требование следует считать
перешедшим к цессионарию не ранее пресловутого уведомления об уступке, то не странно ли, что ГК
почти не уделяет внимания этому самому уведомлению? Единственное, что можно о нем узнать - так это
то, что оно должно быть письменным (п. 3 ст. 382); но и это "должно" имеет лишь относительное
действие. Не странно ли, что законодатель ни словом не заикнулся о том, кто и как делает такое
уведомление? Достаточно ли для должника простого письма хотя бы и знакомого ему кредитора о том,
что таковой больше не кредитор и кредитором является кто-то третий? Судя по подпункту 3 п. 1 ст. 327
ГК, допускающего возможность спора по вопросу о том, кто является кредитором в обязательстве, - нет,
недостаточно. Тогда что нужно приложить к уведомлению? Очевидно, доказательства уступки
(перехода) права (п. 1 ст. 385 ГК). Но какие это должны быть доказательства? Какие доказательства
должник мог бы счесть достаточными для того, чтобы произвести исполнение новому кредитору, не
рискуя в последующем понуждением к повторному исполнению в пользу прежнего кредитора или даже
третьего лица, "доказательства" приобретения права которым должник по тем или иным причинам
однажды отверг? Это лишь небольшая часть чисто практических вопросов, которые остаются без
ответов, прими мы концепцию О.А. Колесникова.
Таким образом, в настоящее время мы не видим оснований для пересмотра прежде
разделявшейся позиции по вопросу о моменте перехода уступаемого требования. Таковым является
момент заключения договора цессии. А как мы уже говорили в предшествующем параграфе, моментом
заключения (вступления в силу) данного договора следует считать момент его совершения (в частности
- подписания). И хотя нормы ГК не содержат специальных постановлений на этот счет,
сформулированный выше вывод имеет свое нормативное обоснование в виде п. 1 ст. 432 и п. 1 ст. 433
ГК. Согласно первой из них договор считается заключенным если между сторонами в требуемой в
соответствующих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Внешне достижение такого соглашения выражается в получении оферентом акцепта своей оферты, а на
практике - в подписании договора обеими сторонами. Естественно, что никаких препятствий для того,
чтобы в самом договоре был бы установлен иной специальный срок его вступления в силу, отличный от
времени подписания, в законодательстве не существует.
§ 3. Правоотношения из договора уступки требования (цессии)
Правоотношения, возникающие из договора сингулярной сукцессии, традиционно разделяются
на две группы: (1) отношения между кредиторами - старым и новым, т.е. отношения между самими
участниками договора - цедентом и цессионарием и (2) отношения между кредиторами (цедентом и
цессионарием с одной стороны) и должником - лицом, не участвующим в договоре цессии, но
оказывающимся под его непосредственным влиянием - с другой. Как уже указывалось выше, традиция
противопоставления должника сразу обоим участникам договора уступки не должна служить базой для
далеко идущих выводов в том, например, смысле, что до некоторого момента требование является
"уступленным, но не перешедшим". Такое рассмотрение является просто удобным и вовсе не исключает
необходимости отдельного изучения отношений должника с цедентом и должника с цессионарием. То и
другое - это два различных по содержанию, основаниям возникновения и динамики, а также периоду
существования, отношения, объединяемые в единый вид исключительно с позиции одного лишь
должника, но не с какой-либо "чистой" (объективной) точки зрения. Последовательно рассмотрим обе
этих группы правоотношений.
а) Права цессионария и обязанности цедента
С момента совершения договора сингулярной сукцессии у цедента возникают, следуя
предписаниям ст. 385 российского ГК, всего лишь две обязанности перед цессионарием: (1) обязанность
передать документы, удостоверяющие уступленное требование; (2) обязанность сообщить сведения,
имеющие значение для его осуществления. Из ст. 390 можно вывести своеобразный законодательный
"намек" и на третью обязанность цедента - (3) обязанность возместить убытки цессионарию в случае,
если уступленное им требование окажется по каким-то причинам недействительным. Наконец опять же
из 390 статьи ГК можно сделать вывод об обязанности цедента (4) отвечать за неисполнимость
обязанности, корреспондирующей цедированному требованию, в силу принятого им поручительства за
цессионара. Естественно, что договорами цессии, не содержащими условия о поручительстве, данная
обязанность устанавливаться для цедента не может.
Перечисленным обязанностям корреспондируют соответствующие права нового кредитора
(цессионария): (1) право требования передачи документов, удостоверяющих приобретенное право
требования; (2) право требования сообщения сведений, имеющих значение для осуществления этого
требования; (3) право требования возмещения убытков при признании приобретенного требования
недействительным и (если было условие о поручительстве цедента за цессионара) также - (4) право
