Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв 3 тт. Том 2. Игры обмена
Подождите немного. Документ загружается.

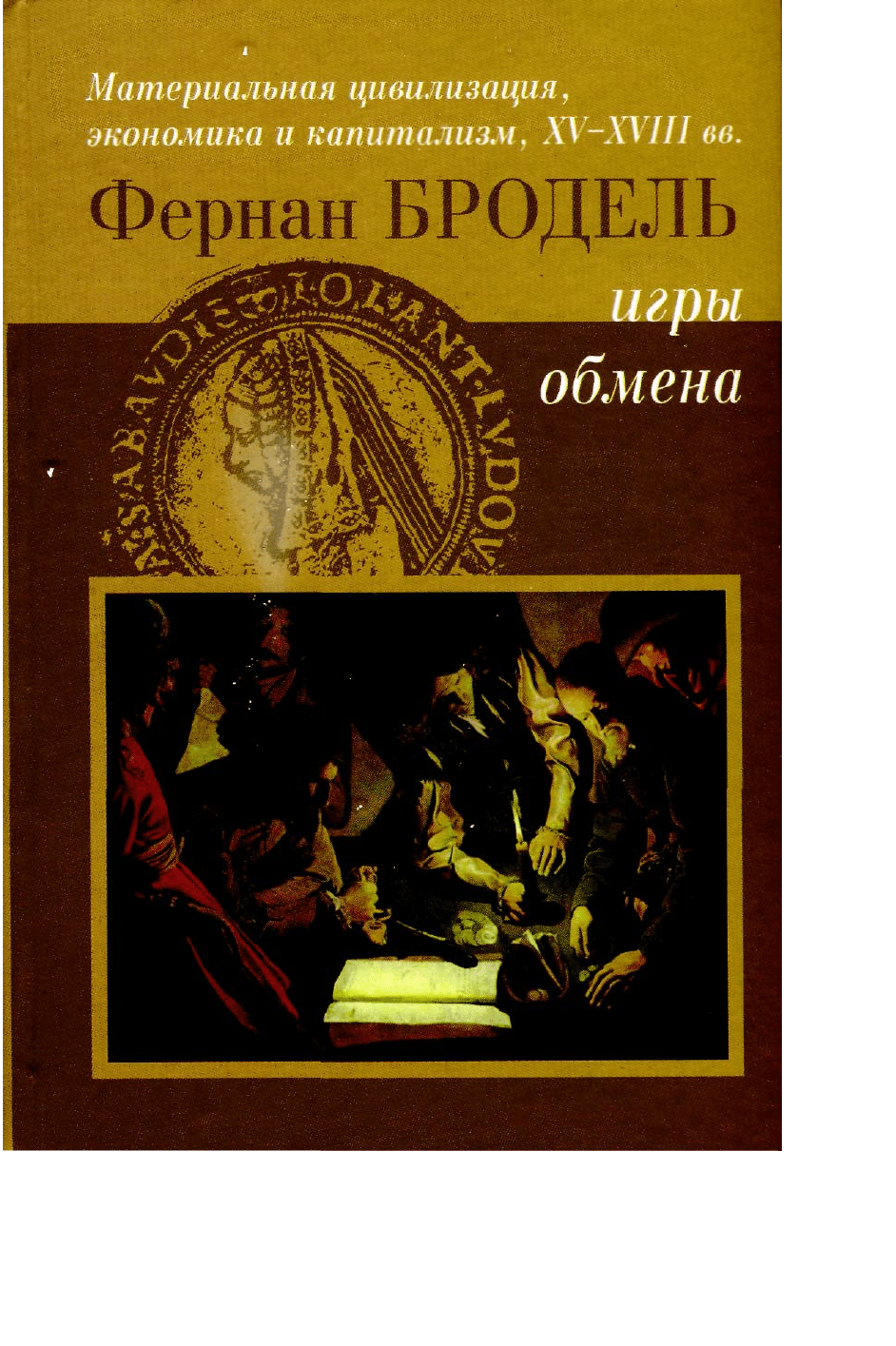
Fernand BRAUDEL
Civilisation materielle, economic et capitalisme, XV
e
-XVIIP siecle
tome 2
LES JEUX DE L'ECHANGE
ARMAND COLIN

Фернан БРОДЕЛЬ
Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.
том 2
ИГРЫ ОБМЕНА
Перевод с французского
Вступительная статья и редакция
доктора исторических наук
Ю.Н.АФАНАСЬЕВА
МИР
Москва 2006
УДК 94(4+6+7+8}
ББК63.3(0)4+(0)51
Бро88
Ouvrage est realise dans le cadre du programme d'aide a la publication Pouchkine avec le soutien du Ministere des Affaires Etrangeres
francais et de lAmbassade de France en Russie
Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства
Франции в России
Fernand Braudel
Civilisation materielle, economic et capitalisms, XV
e
-XVHI
e
siecle T. 2. Les jeux de 1'echange
Редакция доктора исторических наук,
профессора Ю, Н. Афанасьева Перевод доктора исторических наук Л. Е. Куббеля
Бро88
Бродель Ф.
Материальная цивилизация и капитализм. Т. 2. Игры обмена / 2-е изд.; пер. с фр. Л.Е, Куббеля. — М.: Издательство
«Весь Мир», 2006. — 672 с.
ISBN 5-7777-0358-5
«Игры обмена» — это сложный мир экономических коммуникаций. Фернан Бродель исследует различные уровни
коммерческой деятельности — труд разносчиков, торговлю на дальние расстояния, работу международных бирж и
кредитных учреждений. Он прослеживает, как их сложное взаимодействие влияло на общество, социальную иерархию и
sic.ibie цивилизации. Одна из главных задач Броделя — сопоставление рыночной экономики и капитализма,
определение точек их соприкосновения, степени независимости и характера противоборства.
УДК 94(4+6+7+8) ББК 63.3<0)4
+
(0)51
В оформлении обложки использована картина Жоржа де Латура «У ростовщика» (ок.1641, Львовская галерея искусств)
ISBN 5-7777-0358-5
© Armand Colin, 1986; 4
е
edition © Издательство «Весь Мир», 2006
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ......................................... xiii
Diana 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА................................ i
Европа: механизмы на нижнем пределе обменов................. 3
Обычные рынки, такие же, как сегодня................... 4
Города и рынки........................................ 5
Рынки множатся и специализируются .................... 6
Городу приходится вмешиваться ......................... 11
Лондонский случай.................................... 15
Лучше всего было бы подсчитать......................... 17
Истина английская, истина европейская.................. 23
Рынки и рынки: рынок труда............................ 24
Рынок — это граница, и граница подвижная............... 29
Ниже рынка .......................................... 32
Лавки................................................ 34
Специализация и иерархизация идут своим чередом ........ 40
Лавки завоевывают мир ................................ 41
Причины подъема..................................... 43
Избыточная активность разносчиков..................... 46
Была ли торговля вразнос архаична?...................... 50
Европа: механизмы на верхнем пределе обменов ................ 52
Ярмарки, старое, без конца переделываемое орудие......... 53
VI ОГЛАВЛЕНИЕ
59
Города празднуют
Эволюция ярмарок

Ярмарки и кругооборот .................................
Закат ярмарок ......................................... 62
Хранилища, пакгаузы, склады, амбары .................... 64
Биржи ............................................... 67
Амстердам — рынок ценных бумаг ....................... 71
В Лондоне все начинается заново ........................ 77
Есть ли необходимость отправляться в Париж? ............. 80
Биржи и деньги ....................................... 82
А что же мир за пределами Европы? .......................... 84
Рынки и лавки везде ................................... 85
Варьирующая площадь простейших
рыночных ареалов .................................. 90
Мир мелких торговцев или негоциантов? .................. 90
Банкиры -индусы ...................................... 94
Мало бирж, но зато ярмарки ............................ 96
Была ли Европа на равных с остальным миром? ............ 102
Заключительные гипотезы
Глава 2. ЭКОНОМИКА ПЕРВД ЛИЦОМ РЫНКОВ
125
Купцы и кругооборот торговли............................... 126
Движение туда и обратно ............................... 126
Кругообороты и векселя................................ 129
Невозможно замкнуть кругооборот — невозможно дело ..... 130
О затруднительности возвратного этапа................... 131
Сотрудничество купцов................................. 135
Сети торговых связей, разделение на зоны :
и завоевание их для торговли ......................... 139
Армяне и евреи........................................ 141
Португальцы и Испанская Америка: 1580—1640 гг. .......... 146
Сети конфликтующие, сети исчезающие.................. 148
Меньшинства-завоеватели.............................. 151
Торговая прибавочная стоимость, предложение и спрос........... 153
Торговая прибавочная стоимость......................... 154
Спрос и предложение: первопричина..................... 158
Спрос сам по себе ..................................... 163
Предложение само по себе.............................. 166
ОГЛАВЛЕНИЕ VII
У рынков своя география................................... 170
Фирмы на своем пространстве........................... 170
Городские пространства ................................ 175
Сырьевые рынки...................................... 177
Драгоценные металлы.................................. 182
Национальные экономики и торговый баланс................... 191
«Торговый баланс»..................................... 191
Цифры, нуждающиеся в истолковании.................... 193
Франция и Англия до и после 1700 г....................... 196
Англия и Португалия................................... 198
Европа Восточная, Европа Западная...................... 201
К глобальным балансам ................................ 203
Индия и Китай........................................ 207
Определить место рынка ................................... 210
Саморегулирующийся рынок............................ 211
Сквозь многие века.................................... 212
Может ли быть свидетелем нынешнее время? .................. 216
Глава 3. ПРОИЗВОДСТВО, ИЛИ КАПИТАЛИЗМ В ГОСТЯХ ... 229
Капитал, капиталист, капитализм............................ 230
Слово «капитал»....................................... 231
Капиталист и капиталисты.............................. 234
«Капитализм» — очень недавнее слово.................... 236
Реальность капитала ................................... 238
Капиталы основные и капиталы оборотные................ 240

Рассмотрим капитал в сети расчетов...................... 242
Интерес анализа по секторам............................ 246
Земля и деньги............................................ 248
Предварительные условия капитализма................... 249
Численность, инертность,
производительность крестьянских масс ................ 251
Нищета и выживание .................................. 252
Длительная временная протяженность
не исключает изменения............................. 253
На Западе — еще не умерший
сеньориальный порядок ............................. 256
В Монтальдео......................................... 260
VIII ОГЛАВЛЕНИЕ
Преодолевать препоны................................. 263
Окраины в сердце Европы .............................. 264
Капитализм и вторичное закрепощение................... 264
Капитализм и американские плантации................... 269
Плантации Ямайки .................................... 275
Вернемся в сердце Европы.............................. 277
Вблизи Парижа: Бри во времена Людовика XIV ............ 279
Венеция и ее материковые владения (Terra Ferma) .......... 281
Римская Кампания в начале XIX в.:
случай, отклоняющийся от нормы..................... 284
Тосканские усадьбы исполу (poderi) ...................... 287
Зоны, продвинувшиеся вперед, были в меньшинстве........ 289
Случай Франции ...................................... 290
Капитализм и предпромышленность .......................... 293
Четырехчастная модель................................. 293
Действительна ли схема Буржена за пределами Европы?..... 297
Не было разрыва между сельским хозяйством
и предпромышленностью............................ 300
Промышленность — добрый гений....................... 302
Неустойчивые размещения.............................. 303
Из деревень в города и из городов в деревни ............... 305
Существовали ли образцовые
отрасли промышленности?........................... 307
Купцы и ремесленные цехи ............................. 310
Паломничество (Verlagssystem)........................... 312
Система паломничества в Германии ...................... 316
Рудники и промышленный капитализм................... 317
Рудники Нового Света ................................. 321
Соль, железо, каменный уголь........................... 322
Мануфактуры и фабрики ............................... 324
Ванробэ в Абвиле...................................... 330
Капитал и счетоводство.....................'-............. 332
О промышленных прибылях ............................ 335
Закон Уолтера Дж. Хоффмана (1955)...................... 338
Транспорт и капиталистическое предприятие................... 343
Сухопутные перевозки ................................. 343
Речные перевозки ..................................... 350
На морях............................................. 355
Бухгалтерские истины: капитал и труд.................... 362
Скорее отрицательный итог................................. 366
ОГЛАВЛЕНИЕ IX
Глава 4. КАПИТАЛИЗМ У СЕБЯ ДОМА ..................... 383
На вершине торгового сообщества............................ 384
Торговая иерархия..................................... 384
Специализация — только внизу.......................... 386
Торговый успех........................................ 390
Лица, предоставляющие капитал......................... 393
Кредит и банк......................................... 397
Деньги либо прячутся, либо находятся в обращении ........ 402

Капиталистические выбор и стратегия ........................ 407
Капиталистический дух................................. 407
Торговля на дальние расстояния,
или главный выигрыш............................... 409
Обучаться, овладевать информацией...................... 414
«Конкуренция без конкурентов»......................... 419
Монополии в международном масштабе .................. 423
Неудавшаяся попытка установления монополии:
рынок кошенили в 1787 г. ............................ 428
Коварство монеты..................................... 431
Исключительные прибыли,
исключительные отсрочки платежей................... 435
Товарищества и компании .................................. 440
Товарищества: начало эволюции......................... 440
Коммандитные товарищества ........................... 444
Общества акционерные................................. 446
Мало продвинувшаяся эволюция ........................ 449
У крупных торговых компаний были предшественники...... 450
Тройное правило ..................................... 451
Английские компании.................................. 454
Компании и конъюнктура .............................. 457
Компании и свобода торговли........................... 460
Снова трехчастное деление ................................. 461
Глава 5. ОБЩЕСТВО, ИЛИ «МНОЖЕСТВО МНОЖЕСТВ» .... 473
Социальные иерархии...................................... 477
Множественность обществ.............................. 478
Бросим взгляд по вертикали:
ограниченное число привилегированных............... 481
ОГЛАВЛЕНИЕ
Социальная мобильность............................... 487
Как уловить перемену? ................................. 489
Синхронность социальных конъюнктур в Европе........... 492
Теория Анри Пиренна.................................. 493
Во Франции: джентри или дворянство мантии? ............ 496
От городов к государствам: просто роскошь
и роскошь показная................................. 503
Революции и классовые бои............................. 508
Несколько примеров................................... 512
Порядок и беспорядок.................................. 517
Ниже нулевой отметки ................................. 519
Выйти из ада.......................................... 526
Всепоглощающее государство ............................... 528
Задачи государства..................................... 528
Поддержание порядка.................................. 530
Затраты превышают поступления: обращение к займам...... 533
Кастильские хурос и асьентос ........................... 535
Английская финансовая революция: 1688-1756 гг........... 538
Бюджеты, конъюнктуры и национальный продукт.......... 542
Поговорим о финансистах .............................. 547
От откупщиков к Королевским откупам................... 550
Экономическая политика государств: меркантилизм........ 556
Незавершенное государство перед лицом
общества и культуры ................................ 561
Государство, экономика, капитализм ..................... 566
Не всегда цивилизации говорили «нет»........................ 568
Каждому своя доля в культурной диффузии:
мусульманская модель............................... 568
Христианский мир и товар: раздоры из-за ростовщичества ... 573
Равнозначно ли пуританство капитализму?................. 579
Ретроспективная география многое объясняет ..'........... 582
Равнозначен ли разуму капитализм?...................... 585
Новый образ жизни: Флоренция Кватроченто.............. 590
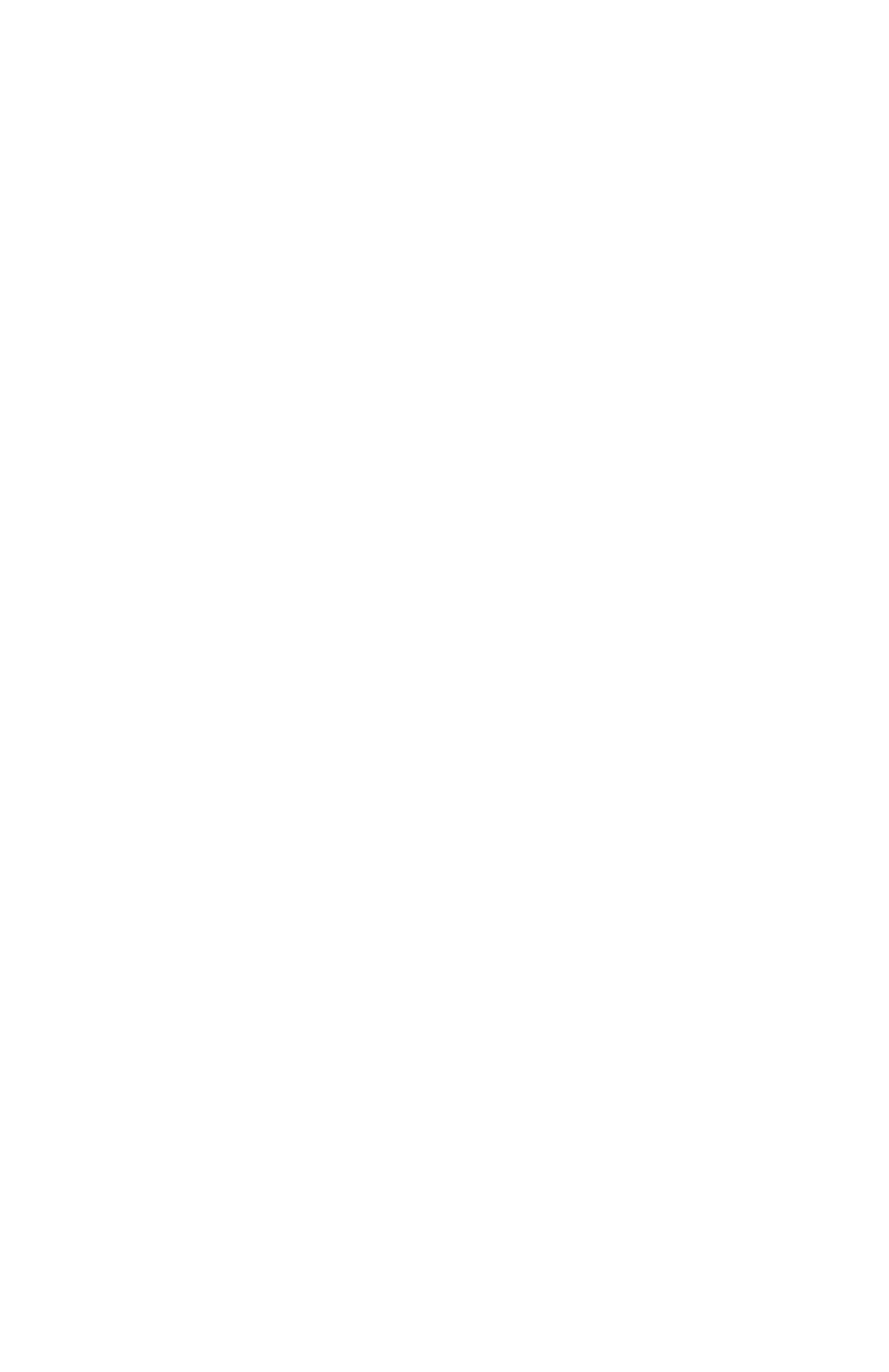
Другое время, иное видение мира........................ 593
Капитализм за пределами Европы............................ 593
Чудеса торговли на дальние расстояния................... 594
Некоторые доводы и догадки Нормана Джекобса........... 597
Политика, и еще более общество......................... 605
И чтобы закончить........................................ 627
Список графиков.............;..
Список карт и схем..............
Указатель имен.................
Указатель географических названий
629 630 631 642
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПР — Архив внешней политики России
«Annales E.S.C.» — «Annales: Economies, Societes, Civilisations»
A.E. — (Ministere des) Affaires Etrangeres
A.N.— Archives Nationales
A.d.S. Firenze — Archivio di Stato di Firenze
A.d.S. Geneva — Archivio di Stato di Geneva
A.d.S. Lucca — Archivio di Stato di Lucca
A.d.S. Napoli — Archivio di Stato di Napoli
A.d.S. Venezia — Archivio di Stato di Venezia
A.V.P.— Archives de la Ville de Paris
B.N.— Bibliotheque Nationale
PRO - Public Records Office
ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов
ПРЕДИСЛОВИЕ
Если бы все обстояло просто, я сказал бы, что настоящий том исследует «этажи», лежащие
непосредственно над первым — этажом материальной жизни, который был предметом
изложения в предшествовавшем томе,— а именно: экономическую жизнь, а над нею —
деятельность капитализма. Такой образ дома в несколько этажей довольно хорошо передает
реальное положение вещей, если он и выходит за пределы их конкретного значения.
Между «материальной жизнью» (в смысле самой элементарной экономики) и экономической
жизнью располагается поверхность их контакта. Это не сплошная плоскость, контакт
материализуется в тысячах неприметных точек — рынках, ремесленных мастерских, лавках...
Такие точки суть одновременно и точки разрыва: по одну сторону лежит экономическая
жизнь с ее обменами, деньгами, с ее узловыми точками и средствами более высокого уровня
— торговыми городами, биржами и ярмарками, по другую — «материальная жизнь», не-
экономика, живущая под знаком неотвязно ее преследующей самодостаточности. Экономика
начинается с порогового уровня меновой стоимости.
В этом втором томе я старался проанализировать всю совокупность механизмов обмена,
начиная с простейшей меновой торговли и вплоть до самого сложного капитализма (включая
и его). Основываясь на сколь только возможно внимательном и беспристрастном описании, я
попробовал «ухватить» закономерности и механизмы, своего рода всеобщую экономическую
историю (как есть всеобщая география). Или же, если вы предпочитаете иной язык, построить
типологию, или модель, или даже грамматику, способную по крайней мере определить смысл
нескольких
XIV ПРЕДИСЛОВИЕ
ключевых слов, нескольких очевидных реальностей. Однако без того, чтобы упомянутая всеобщая история
претендовала на совершенную точность; без того, чтобы предлагаемая типология была бы
всеохватывающей, а тем более — полной; без того, чтобы модель в самомалейшей степени могла быть
формализована и верифицирована; и без того, чтобы грамматика давала бы нам ключ к экономическому
языку или речи экономики (если предположить, что таковые существуют и что они в достаточной степени
остаются одними и теми же во времени и в пространстве). В общем, речь шла о том, чтобы добиться
вразумительности, рассматривая те сочленения, те формы эволюции и, в не меньшей мере, те колоссальные
силы, которые поддерживали традиционный порядок и то «косное насилие», о котором говорит Жан-Поль
Сартр. А значит — об исследовании на стыке социального, политического и экономического круга явлений.
Чтобы идти таким путем, не существовало иного метода, помимо наблюдения — наблюдения
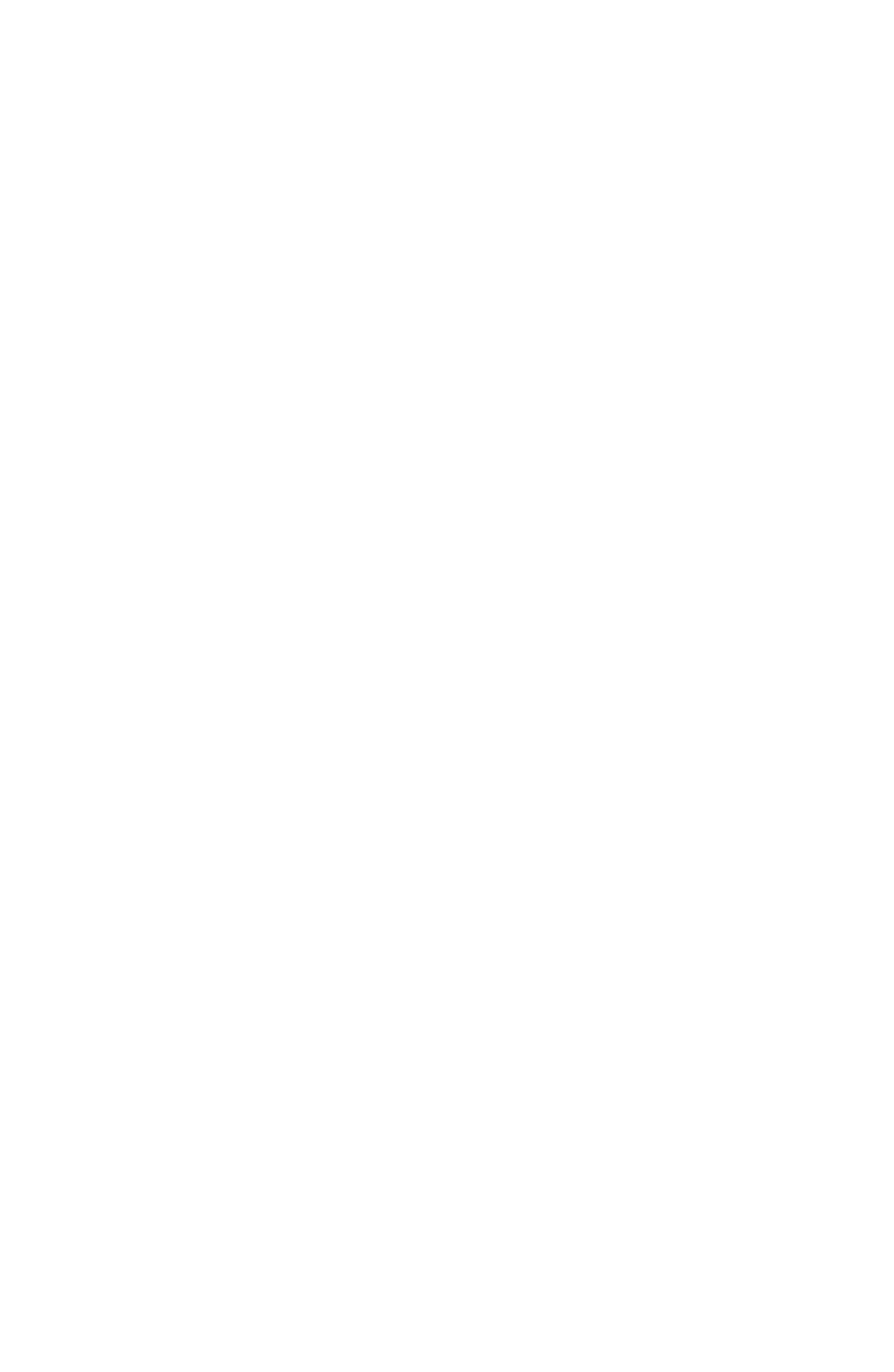
непрестанного, изнуряющего зрение; помимо обращения к разнообразным гуманитарным наукам плюс
систематического сравнения, сопоставления опыта, имеющего одну и ту же природу, не слишком опасаясь,
как бы при таких необходимых сопоставлениях между довольно малоподвижными системами анахронизм
их не сыграл с нами дурную шутку. Это тот сравнительный метод, который более прочих рекомендовал
Марк Блок и которым пользовался я в соответствии с концепцией длительной протяженности. При
нынешнем уровне наших познаний нам настолько доступны многие данные, сравнимые во времени и
пространстве, что возникает впечатление, будто не просто сопоставляешь опыт, рожденный волею случая,
но почти что сам ставишь эксперимент. Таким вот образом я и построил книгу на полпути между историей,
первоначальной ее вдохновительницей, и другими науками о человеке.
Что я беспрестанно встречай в ходе такого сличения модели с итогами наблюдения, так это упорное
противостояние между нормальной и зачастую рутинной экономикой обмена (в XVIII в. сказали бы
естественной) и более высокой, усложненной экономикой (ее бы в XVIII в. назвали искусственной)*. Я
убежден, что такое разделение вЛолне ощутимо, что и действующие силы, и люди, их действия и характер
мышления, «мен-тальность», не одни и те же на этих разных этажах. Что встречающиеся на определенных
уровнях правила рыночной экономики, какими описывает их классическая экономическая наука, намного
реже действовали в своем обличье свободной конкуренции в верхней зоне — зоне расчетов и спекуляции.
Там начиналась «теневая зона», сумрак, зона деятельности посвященных, которая, я считаю, и лежит в
основе того, что можно понимать под словом «капитализм». А последний — это накопление могущества (он
строит обмен на соотношении силы в такой же и даже в большей мере, нежели на взаимности
потребностей), это социальный паразитизм,
ПРЕДИСЛОВИЕ XV
является он неизбежным или нет, как и множество других явлений. Короче, имелась иерархия торгового
мира, даже если — как, впрочем, в любой иерархии — верхние этажи не могли бы существовать без
нижележащих, на которые они опирались. Не будем, наконец, забывать, что под самой зоной обменов то,
что я за неимением лучшего выражения назвал материальной жизнью, образовывало на протяжении
столетий Старого порядка самый толстый слой из всех.
Но не сочтет ли читатель спорным — еще более спорным, чем это противопоставление разных этажей
экономики,— употребление мною для обозначения самого верхнего этажа слова капитализм] Этот термин
— капитализм — появился в своей законченной и ярко выраженной форме несколько поздно, лишь в начале
XX в. Бесспорно, что на всю его сущность наложило отпечаток время его подлинного рождения в период
1400-1800 тт. Но относить его к этому периоду — не будет ли это тягчайшим из грехов, в какой только
может впасть историк — грехом анахронизма? По правде сказать, меня это не слишком беспокоит.
Историки придумывают слова, этикетки, чтобы задним числом обозначать свои проблемы и свои периоды:
Столетняя война, Возрождение, гуманизм. Реформация... Мне нужно было особое слово для этой зоны,
которая не является настоящей рыночной экономикой, но зачастую полной ее противоположностью. И
неотразимо привлекательным оказывалось как раз слово «капитализм». Так почему бы не взять на
вооружение это слово, вызывающее столько ассоциаций, забыв обо всех горячих спорах, какие оно
возбуждало и возбуждает еще сейчас?
В соответствии с правилами, действующими при построении любой модели, я в этом томе осторожно
продвигался от простого к сложному. То, что бросается в глаза при первом же взгляде на экономические
общества прошлого,— это то, что обычно именуют обращением или рыночной экономикой. И,
следовательно, в первых двух главах — «Орудия обмена» и «Экономика перед лицом рынков» — я занялся
описанием рынков, торговли вразнос, лавок, ярмарок, бирж.,. Разумеется, со множеством деталей. И
попытался вскрыть правила обмена (ежели такие существуют).
Следующие две главы — «Производство, или Капитализм в гостях» и «Капитализм у себя дома» — выходят
за пределы [сферы! обращения, касаются запутанных повсюду проблем производства. Они также уточняют
смысл этих принятых нами решающих в споре слов — капитал, капиталист, капитализм,— что было
необходимо. И наконец, они пытаются разместить капитализм по секторам: такого рода «топология» должна
обнаружить его пределы и по логике вещей раскрыть его природу. Тогда-то мы и подойдем к самому пику
наших затруднений (но не к завершению наших трудов!).
И последняя глава, «Общество, или "Множество множеств"», вне сомнения, наиболее необходимая, она и в
самом деле пытается поместить
XVI ПРВДИСЛОВИЕ
экономику и капитализм в общие рамки социальной действительности, вне которой ничто не может обрести
своего полного значения.
Но описывать, анализировать, сравнивать, объяснять — это означает чаще всего выходить за пределы
исторического повествования, это означает пренебрегать непрерывным временем истории или разрывать его
как бы по своей прихоти. А ведь время это существует. И мы вновь обретем его в третьей, и последней,
книге этого труда — «Время мира». Таким образом, на страницах настоящего тома мы окажемся на
предварительном этапе, где время в его хронологической непрерывности не соблюдается, а используется в
качестве средства при наблюдении.
Это тем не менее отнюдь не упростило мою задачу. По четыре, по пять раз я переписывал главы, которые вы
прочтете. Я их обсуждал в Коллеж де Франс и в Практической школе высших исследований, писал — и за-
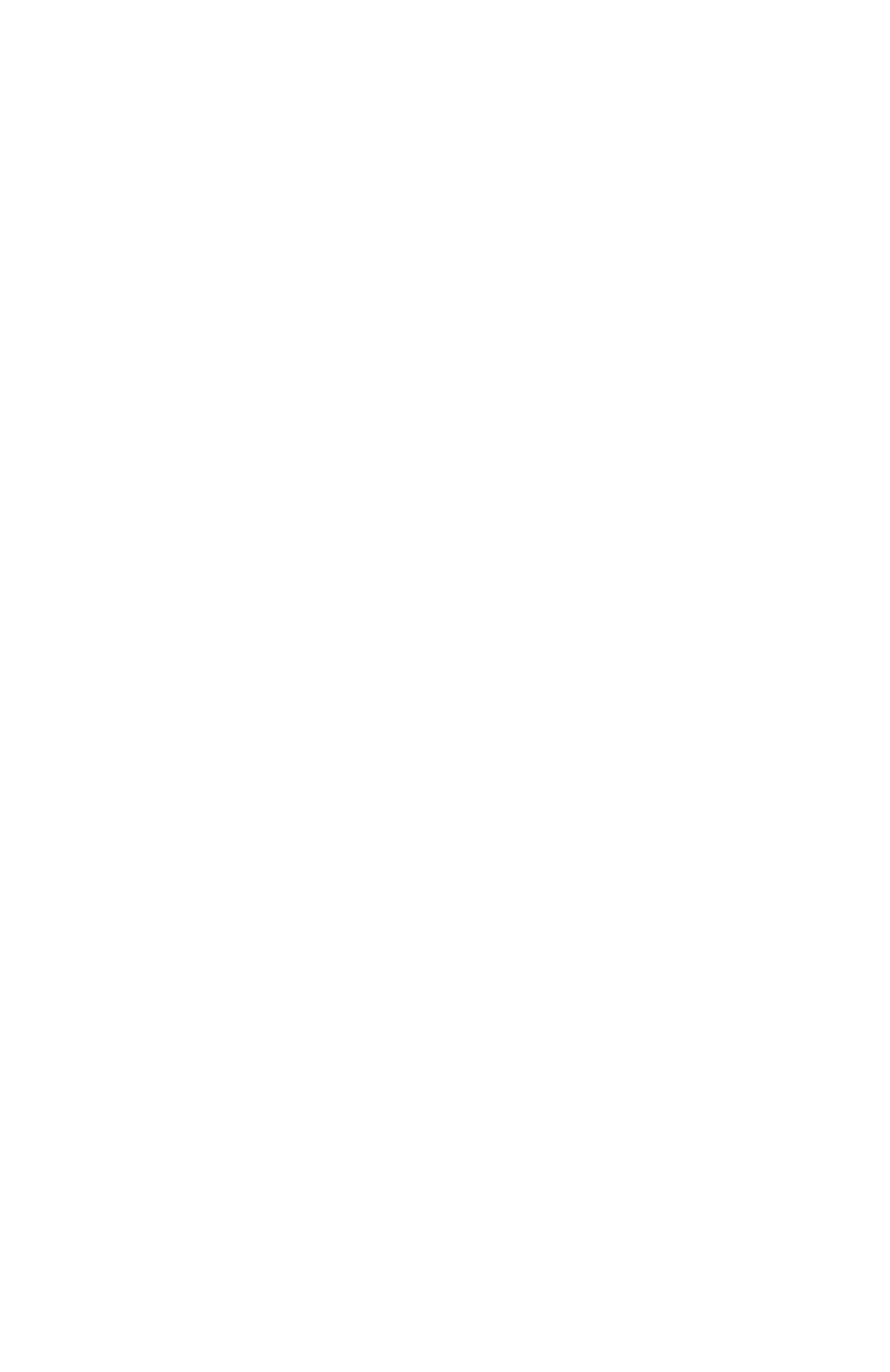
тем переписывал от начала до конца. Один из друзей Анри Матисса, который ему позировал, рассказал мне,
что тот имел обыкновение по десять раз снова и снова начинать свои рисунки, день за днем выбрасывая их в
корзину, чтобы остановиться только на последнем, где находил наконец, как он думал, чистоту и простоту
линий. К несчастью, я не Анри Матисс. И я даже не уверен, что последний вариант моего текста будет
самым ясным, наиболее соответствующим тому, что я думаю или пытаюсь думать. Чтобы утешиться, я
повторял себе изречение английского историка Фредерика У. Мейтленда (1887), гласящее, что «простота—
не отправная точка, а цель»
2
, порой же, при определенном везении, завершающий момент.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Accarias de Serionne J. Les Interets des nations de I'Europe developpes relativement аи commerce. 1766 (в частности, с. 270).
2
Maitland F. W. Domesday book and Beyond. (2nd ed.), 1921, p. 9. «Simplicity is the outcome of technical subtlety; it is the goal, not
the starting point». :
Глава 1 ОРУДИЯ ОБМЕНА
На первый взгляд экономика — это две огромные зоны: производство и потребление. В первой все
начинается и возобновляется, во второй все завершается и уничтожается. «Общество, — говорит Маркс, —
не может перестать производить, так же как оно не может перестать потреблять»
1
. Истина общеизвестная.
Прудон говорил почти то же самое, когда утверждал, что единственная очевидная цель человека — работать
и есть. Но между двумя этими мирами втискивается третий, тонкий, но живой, как речушка, и тоже
узнаваемый с первого взгляда: обмен, или, если угодно, рыночная экономика. На протяжении столетий,
которые изучаются в этой книге, она несовершенна, прерывиста, но уже навязывает себя — и она
определенно революционна. В рамках целого, которое упорно тяготеет к рутинному равновесию и выходит
из него разве только для того, чтобы снова к нему же возвратиться, она представляет зону перемен и но-
ваций. Маркс ее обозначает как сферу обращения
2
— выражение, которое я по-прежнему продолжаю
считать удачным. Несомненно, слово «обращение», пришедшее в экономику из физиологии
3
, охватывает
слишком много вещей сразу. Если верить Ж. Шеллю, издателю полного собрания сочинений Тюрго
4
,
последний подумывал о том, чтобы написать «Трактат об обращении», где шла бы речь о банках, системе
Лоу, кредите, денежном курсе и торговле, наконец, о роскоши, т. е. почти обо всей экономике, как ее тогда
понимали. Но разве термин «рыночная экономика» не приобрел сегодня также расширительный смысл,
который бесконечно превосходит простое значение обращения и обмена?
5
Итак, три мира. В первом томе этого труда мы отвели главную роль потреблению. В последующих главах
мы займемся обращением. Очередь
Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА
трудных проблем производства наступит последней
6
. Не то чтобы можно было бы оспаривать мнение
Маркса или Прудона о них как о важнейших. Но наблюдающему в ретроспективе, а именно таков историк,
трудно начинать с производства — области запутанной, которую нелегко очертить и которая еще
недостаточно описана во всех своих деталях. Напротив, обращение обладает тем преимуществом, что легко
доступно наблюдению. В нем все подвижно и говорит об этом движении. Шум рынков безошибочно
достигает наших ушей. Право же, без всякой похвальбы, я могу увидеть купцов-негоциантов и
перекупщиков на площади Риальто в Венеции около 1530г. из того же окна дома Аретино, который с
удовольствием ежедневно созерцал это зрелище
7
. Могу войти на Амстердамскую биржу 1688 г. и даже
более раннюю и не затеряться там — я едва не сказал: играть на ней, и не слишком бы при этом ошибся.
Жорж Гурвич сразу же возразил бы мне, что легко наблюдаемое рискует оказаться ничтожным или
второстепенным. Я не так в этом уверен, как он, и не думаю, что Тюрго, взявшийся за весь комплекс
экономики своего времени, был бы совершенно не прав, выделив обращение. И потом, генезис капитализма
жестко привязан к обмену — разве это не заслуживает внимания? Наконец, производство означает
разделение труда и, значит, обязательно обрекает людей на обмен.
Впрочем, кому бы пришло в голову действительно преуменьшать роль рынков. Даже простейший рынок —
это излюбленное место спроса и предложения, место обращения к услугам ближнего, без чего не было бы
экономики в обычном понимании, а только жизнь, «замкнутая» (по-английски «встроенная», embedded) в
самодостаточности, или не-экономика. Рынок — это освобождение, прорыв, возможность доступа к иному
миру: возможность всплыть на поверхность. Деятельность людей, излишки, которые они обменивают, мало-
помалу проходят через этот узкий пролом, поначалу с таким же трудом, с каким проходил через игольное
ушко библейский верблюд. Затем отверстия расширились, число их возросло, а общество в итоге сделалось
«обществом со всеобщим рынком»
8
. В конечном счете и, значит, с запозданием; и в разных областях это
никогда не случалось ни одновременно, ни в одной и той же форме. Следовательно, не существует простой
и прямолинейной истории развития рынков. Здесь бок о бок сосуществуют традиционное, архаичное, новое
и новейшее. Даже сегодня. Конечно, легко набрать наглядные картинки, но их невозможно точно соотнести
друг с другом. И это относится даже к Европе, случаю привилегированному.
Не связана ли эта в некотором роде наводящая на размышления трудность также и с тем, что поле нашего
наблюдения, время с XV по XVIII в., все еще недостаточно по своей продолжительности? Идеальное поле
наблюдения должно бы было простираться на все рынки мира с момента их зарождения до наших дней. Это
огромная область, которую в недалеком прошлом вознамерился со страстью иконоборца объяснить Карл
Поланьи
9
.
ЕВРОПА: МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ
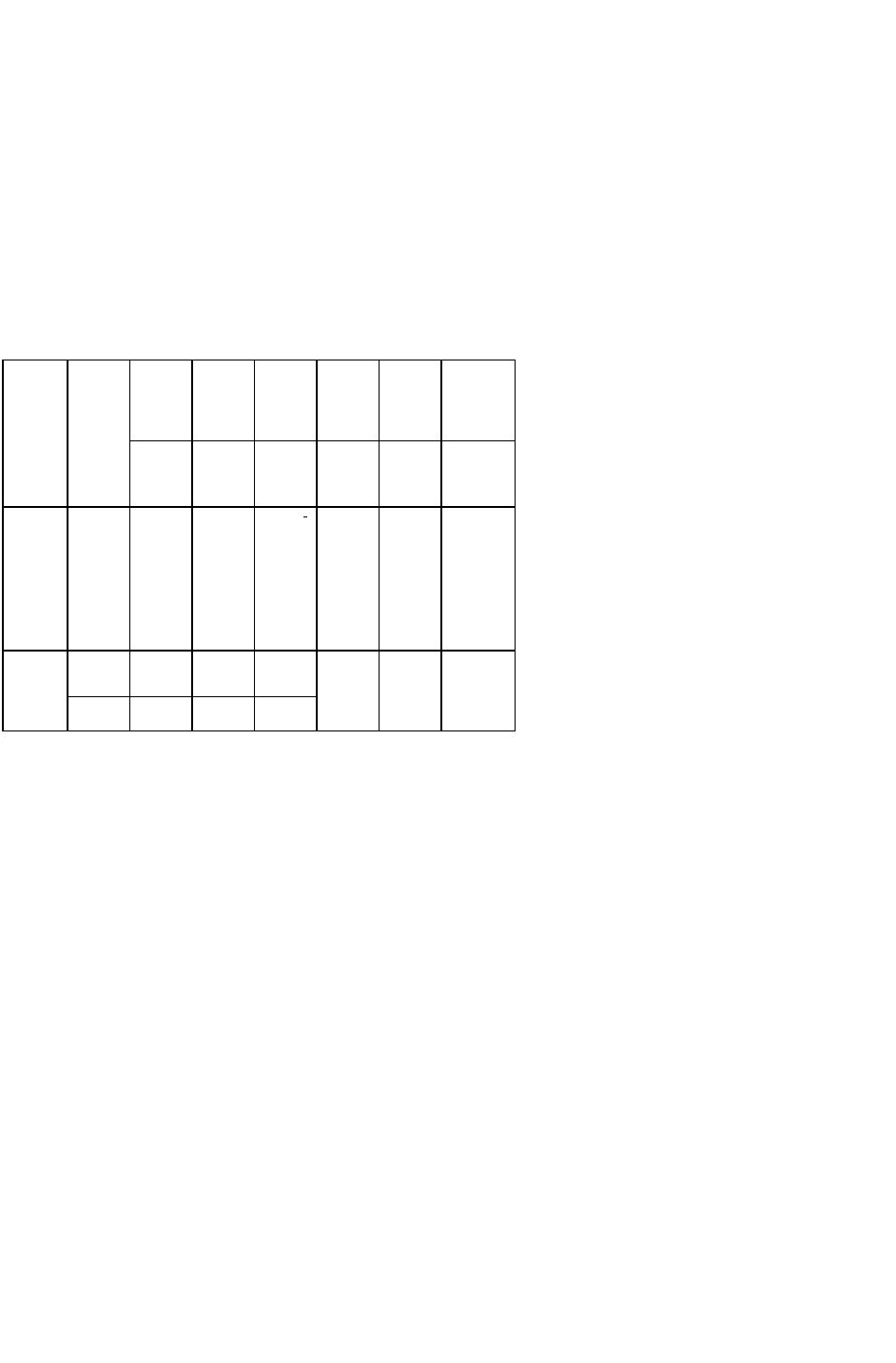
Но охватить одним и тем же объяснением псевдорынки древней Вавилонии, потоки обмена первобытных
жителей сегодняшних островов Тробри-ан и рынки средневековой и доиндустриальной Европы — да
возможно ли это? Я вовсе не убежден в этом.
Во всяком случае, мы не будем с самого начала замыкаться в рамках общих объяснений. Мы начнем с
описания. Для начала — Европы, главного свидетеля, которого мы знаем лучше других. А затем — не-
Европы, ибо никакое описание не подвело бы нас к начаткам заслуживающего доверия объяснения, если бы
оно не охватывало весь мир.
ЕВРОПА:
МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ
Итак, прежде всего Европа. Еще до XV в. она элиминировала самые архаичные формы обмена. Цены,
которые мы знаем или о существовании которых догадывались, — это начиная с XII в. цены
колеблющиеся
10
: доказательство того, что наличествуют уже «современные» рынки и что они, будучи
связаны друг с другом, могут при случае наметить очертания систем, связей между городами. В самом деле,
практически только местечки и города имели рынки. В редчайших случаях деревенские рынки сущест-
вовали еще в XV в.
11
, но то была величина, которой можно пренебречь. Город Запада поглотил все, все
подчинил своим законам, своим требованиям, своему контролю. Рынок сделался одним из его механизмов
12
.
Л
----------
ица ль
д
. —
•*
пшен -*
фасо *
овес -•
ячме
*ь
i
' А \
-
J
,
.--*
— __ ------- ^
У S
i
1
' Sf'
s 's яг
s"
/\
1
V
'Г'
—
У
65 1170 1175 1180 1185 1190 1195
1200 12
Раннее развитие колебаний цен в Англии
По данным Д.Л. Фармера: Farmer D.L. Some Prices Fluctuations in Angevin England. — «The Economic History Review», 1956-1957, p. 39.
Отметим совпадающий польем цен на разные зерновые вслед за плохим урожаем 1201 г.
Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА
ОБЫЧНЫЕ РЫНКИ, ТАКИЕ ЖЕ, КАК СЕГОДНЯ
В своей простейшей форме рынки существуют еще и сегодня. Они самое малое получили отсрочку, и в
определенные дни они на наших глазах возрождаются в обычных местах наших городов, со своим
беспорядком, своей толчеей, выкриками, острыми запахами и обычной свежестью продаваемых
съестных припасов. Вчера они были примерно такими же: несколько балаганов, брезент от дождя,
нумерованное место для каждого продавца, заранее закрепленное, надлежащим образом
зарегистрированное, за которое нужно было платить в зависимости от требований властей или
собственников
13
; толпа покупателей и множество низкооплачиваемых работников, вездесущий и
деятельный пролетариат: шелушилыцицы гороха, пользующиеся славой закоренелых сплетниц,
свежеватели лягушек (лягушек доставляли в Женеву
14
и Париж
15
целыми вьюками на мулах),
носильщики, метельщики, возчики, уличные торговцы и торговки, не имеющие разрешения на
продажу своего товара, суровые контролеры, передающие свои жалкие должности от отца к сыну,
купцы-перекупщики, крестьяне и крестьянки, которых узнаешь по одежде; буржуазией в поисках
покупки, служанки, которые, как твердят богачи, большие мастерицы присчитывать при закупках
(тогда говорили «подковать мула»)
16
, булочники, торгующие на оптовом рынке хлеба, мясники, чьи
многочисленные лотки загромождают улицы и площади, оптовики (торговцы рыбой, сыром или
сливочным маслом
17
), сборщики рыночных пошлин... И наконец, повсюду выложены товары: куски
масла, кучи овощей, сыры, фрукты, рыба, с которой стекает вода, дичь, мясо, которое мясник разде-
лывает на месте, непроданные книги, страницы которых служат для завертывания товара
18
. А кроме
того, из деревень привозят солому, дрова, сено, шерсть и даже пеньку, лен — вплоть до домотканых
холстов.
Если этот простейший рынок, оставаясь самим собою, сохранялся на протяжении столетий, то
наверняка потому, что в своей грубой простоте он был незаменим, принимая во внимание свежесть

поставляемых им скоропортящихся видов продовольствия, привозившихся прямо с близлежащих
огородов и полей. А также принимая во внимание его низкие цены. Ибо простейший рынок, где
продают главным образом «из первых рук»
19
, есть самая прямая и самая наглядная форма обмена, за
которой легче всего проследить, защищенная от плутней. Самая ли она честная? «Книга ремесел»
Буало, написанная около 1270 г.
20
, настойчиво твердит об этом: «Ибо есть резон, чтобы съестные
припасы попадали прямо на открытый рынок и можно было бы видеть, доброго ли они качества и чест-
но ли изготовлены или нет... ибо к вещам... продаваемым на открытом рынке, имеют доступ все: и
бедный и богатый». В соответствии с немецким выражением это торговля из рук в руки, глаза в глаза
(Hand-in-Hand,
ЕВРОПА: МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ
Auge-in-Auge Handel
21
), прямой обмен: все, что продается, продается тут же; все, что покупается,
забирается тут же и оплачивается сразу же. Кредит почти не играет роли между рынками
22
. Этот очень
старый тип обмена практиковался уже в Помпеях, в Остии или Тимгаде Римском*, да и веками,
тысячелетиями раньше: свои рынки имела Древняя Греция, они существовали в Китае классической
эпохи, как и в фараоновском Египте и в Вавилонии, где обмен был столь ранним явлением
23
.
Европейцы расписывали красочное великолепие и устройство рынка «в Тлальтеко, что прилегает к
Теночтитлану (Мехико)»
24
, и «упорядоченные и контролируемые» рынки Черной Африки, порядок на
которых вызывал у них восхищение, невзирая на скромные масштабы обменов
25
. А в Эфиопии истоки
рынков теряются во мраке времен
26
.
ГОРОДА И РЫНКИ
Городские базары обычно бывали раз или два в неделю. Для их снабжения требовалось, чтобы у
деревни было время произвести и собрать продовольствие и чтобы она смогла отвлечь часть своей
рабочей силы для поездки на рынок (что поручалось преимущественно женщинам). Правда, в крупных
городах рынки обнаруживали тенденцию к тому, чтобы стать ежедневными, как то было в Париже, где
в принципе (а часто и фактически) они должны были функционировать лишь по средам и субботам
27
.
Во всяком случае, действуя с перерывами или постоянно, эти простейшие рынки, связующее звено
между деревней и городом, из-за своего числа и своей непрестанной повторяемости представляли
самый крупный из всех знакомых обществу видов обмена, как это заметил Адам Смит. К тому же и
городские власти прочно взяли в свои руки их организацию и надзор за ними: для городов это был
жизненно важный вопрос. А это ведь были «ближние» власти, скорые на расправу, на регламентацию,
— власти, которые жестко контролировали цены. Если на Сицилии продавец запрашивал цену, хоть на
«грано» превышавшую установленный тариф, его запросто могли послать на галеры! Такой случай и
произошел в Палермо 2 июля 1611 г.
28
В Шатодёне булочников, в третий раз уличенных в нарушении
правил, «нещадно сбрасывали с повозки перевязанными, как колбасы»
29
. Такая практика восходила к
1417 г., когда Карл Орлеанский дал городским магистратам (эшевенам) право досмотра (визитации)
пекарей. Только в 1602 г. община добьется отмены такого наказания.
Но надзор и разносы не мешали рынку расширяться, разрастаться по воле спроса, укореняться в самом
сердце городской жизни. Посещаемый
* Тимгад — древний город с Северной Африке, основан при императоре Траяне в 100 г. н. э. — Примеч. пер.
Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА
в определенные дни рынок был естественным центром общественной жизни. Именно там люди встречались
друг с другом, договаривались, поносили друг друга, переходили от угроз к обмену ударами. Именно здесь
зарождались инциденты и затем судебные процессы, выявлявшие пособников; здесь случались довольно-
таки редкие вмешательства стражи, эффектные, несомненно, но и осторожные
30
. Именно здесь
распространялись политические и иные новости. В 1534 г. на рыночной площади в Фекенхэме, графство
Норфолк, открыто критиковали действия и планы короля Генриха VHP
1
. Да и на каком английском рынке не
услышишь пылкие речи проповедников? Налицо была восприимчивая толпа, готовая на любые дела, даже
на добрые. Рынок был также излюбленным местом для заключения сделок и устройства семейных дел. «В
XV в. в Джиф-фони, в провинции Салерно, мы видим по нотариальным реестрам, что в рыночные дни,
помимо продажи съестных припасов и изделий местного ремесла, наблюдался повышенный против
обычного процент заключенных договоров о купле-продаже земельных участков, долгосрочных ипотечных
операциях, дарениях, брачных контрактов, составления описей приданого»
32
. Все ускоряется благодаря
рынку, даже сбыт в лавках {что достаточно логично). Так, в Ланкастере, в Англии, в конце XVII в. Уильям
Стаут, который держал там лавку, нанял дополнительного приказчика «на рыночные и ярмарочные дни»
(«on the market and fair days»)
33
. Это, вне сомнения, было общим правилом. Естественно, при условии, что
лавки не бывали официально закрыты в дни рынка или ярмарок, как это случалось во многих городах
34
.
Доказательством тому, что рынок находился в самом сердце целого мира отношений, может служить сама
мудрость пословиц. Вот несколько примеров: «Все продается на рынке, кроме молчаливой осторожности и
чести»; «Покупая рыбу в море [т. е. до ее вылова], рискуешь получить только ее запах»
35
. Ежели ты
недостаточно знаком с искусством покупать или продавать — что же, «рынок тебя научит». На рынке никто
не бывает один, посему «думай о себе самом и думай о рынке», т. е. о других. Итальянская поговорка
