Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество
Подождите немного. Документ загружается.


«опрокидывании» всего социального мира, дело ограничивается наведением порядка при дворе.
Жестокость стихийных крестьянских выступлений, вызванных отчаянием и жаждой
справедливости, как бы оправдывалась в сознании крестьянства умеренностью политических
требований. В характере этих требований и предлагаемой модели властных отношений крестьян-
ским сознанием воспроизводился традиционный образ патриархальной крестьянской семьи с
хозяином-отцом во главе. Крестьянская пословица «Хороший хозяин — хорошее хозяйство»
становилась основанием всей политической программы крестьянства. «Локальный» крестьянский
мир создавал образ «большого» общества по аналогии с малым.
Эту идеологию в период массовых крестьянских выступлений активно поддерживали и
старообрядцы, вообще очень чутко реагировавшие на идейные «перепады» крестьянского
массового сознания. Для некоторых старообрядческих толков, занимавших наиболее активную
позицию и возводивших идею «брани» с антихристом в свой символ веры, любые формы протеста
были оправданы. В этой борьбе они не гнушались использовать и веру крестьян в доброго царя, не
брезгуя, как известно, собственным «изготовлением» такового, как в случае с Емельяном
Пугачевым, представленным под именем Петра III. Все наиболее крупные крестьянские движения
XVIII в. так или иначе связаны с активным участием в них старообрядцев. Однако
преобладающим в староверии, особенно после опыта подавления крестьянских войн и
выступлений, все же оставалось «колонизационное» течение. А его влияние на окраинах империи
было абсолютным в силу преобладания в сознании тамошнего крестьянства именно
«колонизационной» тенденции.
Наступление феодализма неизбежно сопровождалось бегством от него тех, кто мог бежать, и там,
где было куда бежать. Таким образом и происходило заселение Русского Севера, Востока, Юго-
востока и Юга. Поэтому наибольшее распространение и наиболее широкий эмоциональный
отклик на протяжении всего XVIII в. получали сюжеты, относящиеся к типу легенд о так
называемых, «далеких землях». Массовое бегство крестьян, мечтавших освободиться от
непосильной тяжести государственных поборов и крепостной зависимости, находило
идеологическую санкцию в повествованиях о якобы уже существующих островках крестьянского
благоденствия.
Такого рода легенды имеют естественные основания в любых социальных условиях, так как
коренятся они, прежде всего, в психологических факторах (конкретнее — в обыденном
представлении
о том, что «там хорошо, где нас нет»). Эти сюжеты находят массу аналогий и исторических
параллелей у разных народов. В русских условиях при наличии резервных пространств, слабо
освоенных окраинах и неопределенности государственных границ легенды о далеких землях
обретали значение вполне реальных факторов исторического процесса. Легенды о «граде Игната»,
о чудесной крестьянской стране Даурии, о Беловодье и им подобные широко распространялись в
крестьянской среде, вызывая неизменный интерес и глубокие размышления.
Наибольшую популярность имела легенда о Беловодье, сложившаяся, по-видимому, где-то к
концу XVIII в. Прослеживается непосредственная связь распространения легенды о Беловодье с
деятельностью чрезвычайно своеобразной крестьянской религиозно-анархической организации —
сектой «бегунов», или «странников».
28
В сочинениях основоположников «бегунства» Евфимия и
Никиты Кисилевых изложено учение секты. Общее старообрядческое представление о начале со
времен Никона «века антихристова» доводилось «бегунами» до крайности. В их учении
воплощением антихриста объявлялись не только царь и никонианская церковь, но и все
правительственные законы и установления: налоги и поборы, рекрутчина, армия, деньги, семья,
паспорта, ревизии (переписи податного населения). Все государство представлялось воплощением
власти антихриста. Согласно «Разглагольствованиям Евфимия» (1784г.), окончательное
установление власти антихриста («седмиглавого») связано с воцарением Петра I, «понеже егда
при описи раздроби народ на разные чины и расположи дань подушную, потом же и землю
размежева и купечествующих отдели, да не причаливается им седмигривенный, и сим
разделением, яко язычников содея друг на друга ратоборствовати, межи бо яко границы чуждым
землям устави...».
29
Согласно этим представлениям, реформы, осуществленные при Петре, были
причиной разделения общества на классы и возникновения всех общественных зол.
Показательным является толкование герба Российской империи в одной из бегунских рукописей:
«Орел от тяжести людских беззаконий крылья свои опустил и держит он не скипетр и державу,
крестами увенчанные, как прежде во время благочестия, а змей антихристовых».
30

Единственная возможность избавиться от антихристовой порчи — порвать все общественные
связи и бежать из мира. «Бегство от „начальства", от помещика, из армии возводилось „бегунами"
в степень религиозного догмата, получало высшую по их представлениям, нравственную санкцию.
Бегуны отрицали современное им государство, не предлагая ничего взамен; подобно всяким
утопис-
443
там, они хотели выключиться из социальных закономерностей, образовать некий нефеодальный
островок в окружавшем их океане феодализма».
31
В отличие от так называемых мистических сект — духоборов, молокан и др., учивших, что
«царство Божие» находится «внутри нас» и его нужно всячески оберегать
32
, а не искать во
внешнем мире, что необходимо думать о самосовершенствовании и спасении собственной души и
т. д., «бегуны» по-крестьянски жаждали установления «царства божьего на земле». Одному из
основных своих тезисов — «града настоящего не имамы, а грядущего взыскуем» — они придавали
вполне реальное, практическое значение.
Наступление конца мира ожидалось со дня на день. Именно тогда должен был явиться Спаситель
на белом коне, сотворить брань с антихристом (в этой брани «бегуны» будут в первых рядах его
воинства) и установить тысячелетнее царство справедливости.
В будущем резиденция Спасителя должна была располагаться, видимо, исходя из соображений
мягкости климата и удаленности от современного царства антихриста, где-то на юге или юго-
востоке, по одной версии — чуть ли не в районе Каспийского моря. Многие бегуны стремились в
Астраханскую губернию, где селились в камышах, рыли землянки для того, чтобы оказаться
поближе к территории будущего «тысячелетнего царства». С этим сюжетом была связана одна из
популярных бегунских поговорок: «Коль захочешь в камыши, так паспорта не пиши, а захочешь в
Разгуляй (т. е. в Астрахань), и билет не выправляй».
33
Вместе с другими крестьянами «бегуны» бежали на малоосвоенные администрацией пограничные
окраины. Они принимали активное участие во все нараставшем ко второй половине XIX в. пе-
реселенческом движении. В новых местах порой удавалось устроить жизнь на общинно-
артельных, т. е. единственно справедливых, по крестьянским представлениям, началах. Эти
реальные социальные эксперименты вызывали многочисленные толки в народе, обрастали самыми
невероятными слухами и мнимыми подробностями об особенностях устройства счастливого
мужицкого царства, сопровождались разнообразными легендарными обстоятельствами. В
процессе фольклорной переработки реальные сведения смешивались с уже известными ранее
утопическими сюжетами и известными своим сокровенным характером топонимами. К этому ряду
относятся легенды о Млевских монастырях, Жигулевских горах и др. Придание сюжету
географической точности и описательной конкретности должно было свидетельствовать о
реальности сведений. Практичный и трезвый, в целом мало склонный к мистицизму крестьянский
ум должен был искать более реальные варианты осу-
ществления социальных (а вместе с тем и религиозных) чаяний и более реальных целей и
маршрутов бегства.
В ответ на эту потребность крестьянского сознания и появились многочисленные тексты
«Маршрутов» или «Путешественников», среди которых выделялась целая группа, указывающая
путь в легендарное Беловодье.
Маршруты, как правило, начинались от Москвы и вели через Казань, Екатеринбург и Тюмень до
Бийска и потом вверх по реке Катуни через Горноалтайский край. Разночтения начинались с опи-
сания способа преодоления Алтайских гор. В одном путеводителе предполагалось преодоление
Алтая с севера и запада, двигаясь до деревни Устьубы, расположенной при впадении реки Убы в
Иртыш, и далее — по долине реки Убы или какому-либо из ее притоков по направлению к
перевалу через Тигрецко-Коксуйский хребет. Преодолев его с запада на восток, предполагалось
затем долиной реки Коксу и Катуни достичь Уймона. Другой маршрут предлагал движение по
Иртышу через Устькаменогорск до Устьбухтармы и затем Бухтарминской долиной через какой-
нибудь из перевалов Катунского хребта до Уймона.
Следующая часть маршрута приобретала легендарный характер и вела неведомыми горными
проходами в «Китайское государство», через которое после 44 дней пути можно было попасть в
Беловодье. Географические названия этой части пути представляют одну загадку за другой:
«Губань» (Гоби?), «Бурат-река» (Буран на Черном Иртыше на полпути от озера Маркоколь и озера
Зайсан или перевал Бурхат между хребтами Сарымсакты и Тарбагатай?) или «Буран-река»,
«Кукания» (Кукпанский хребет?), «Кижская земля» (Кижи-Хем — приток Большого Енисея или

деревня Кижи за озером Байкал?) и т. п.
34
«Важно отметить, — пишет известный исследователь Беловод-ской легенды К.В. Чистов, — что
маршрут „Путешественника" совпадает с одним из традиционных в XIX в. направлений пересе-
ленческого движения из северной и средней части европейской России в Сибирь: Казань —
Екатеринбург — Тюмень — Бийск. Именно по этому пути <...>, отнимавшему от 6 до 18 недель,
катился все нараставший с 1860-х гг. поток переселенцев на Алтай и в др. районы Сибири. Так с
1866 по 1877 г. здесь прошло около 8 тыс. официальных переселенцев в Алтайский округ, а в
1882-1884 гг. их было уже более 58 тыс. В этом потоке около 20% составляли крестьяне северных
губерний Европейской части России. Следовательно „Путешественник", как и вся Беловодская
легенда, явился своеобразным поэтическим отражением этого процесса в сознании определенной
части русского крестьянства».
35
445
Известны попытки добраться во второй половине XIX в. до Беловодья и через Среднюю Азию.
Подробности маршрута, видимо, содержались в устной версии и поэтому еще менее определенны.
Подробно описывая путь в Беловодье, в конечной стадии маршрута «Путешественник» повествует
о тайном переходе от странноприимца к странноприимцу. Часто упоминая о «пещерах», «фа-
терах», в которых можно в случае нужды укрыться, документ вместе с тем сообщает весьма
краткие сведения о самой легендарной стране. И вся последующая литература, стремившаяся по
возможности привлечь к письменным источникам все существующие устные сведения, добавляет
мало нового.
Историография и обширная литература о Беловодской легенде повествуют о длительных поисках
Беловодья отдельными крестьянами и целыми крестьянскими группами, многие из которых после
первых неудач вновь и вновь пускались на поиски чудесной страны. Существует немало
документов, в которых содержатся подробные сведения о разборе местными администрациями
разных губерний, преимущественно восточных: Нижегородской, Томской, Тобольской,
Алтайского округа и др., дел о розыске беглых крестьян, а также поимки лжеучителей,
распространявших Беловодскую легенду.
36
Но сведения о самой легендарной стране весьма
скудны и, как правило, в неизменном виде перекочевывают из одного сочинения в другое.
Известно, что Беловодье расположено у «окияна-моря» в Опон-ском (или Японском) море на 70
островах, «а малых и исчислить невозможно». Оно покрыто густым вековым лесом: «Тамо древа с
высочайшими горами ровняются». Климат ее рисуется по-разному в разных редакциях: «Во время
зимы морозы бывают необычайные с расселинами земными». Представление о земле
благоденствия, как о стране, покрытой дремучими лесами, где стоят суровые морозные зимы,
могло возникнуть только в сознании крестьянства Русского Севера. В списках второй редакции,
происходящих, вероятно, из восточных губерний (в том числе с Урала), нет речи о морозах, но
зато говорится о горах: «А тамо леса темная, горы высокие, расселины каменные».
В полном соответствии с утопическим жанром «Путешественник» повествует о плодородии
земель и о богатстве жителей Беловодья: «А земные плоды всяки весьма изобильны бывают;
родится виноград и сорочинское пшено и другие сласти без числа, злата же и сребра и камения
драгого и бисеру зело много, ему же несть числа, яко и умом не постижимо». Образный ряд
Беловодской легенды во многом совпадает с более ранними образцами социально-утопического
творчества крестьян, например, в уже рассмотренном нами сюжете о рахманском острове.
446
Национальный состав Беловодья не принципиален для крестьянства и представляющих его
взгляды ревнителей староверия. Беловодье мыслится как страна, заселенная выходцами как из
России, так и из других (прежде всего, западных) стран («сирского языка» или «от пана гонимы из
своея земли», в другой редакции «от папы римского гонимы были из своей земли»). Но вот соци-
альный состав определен более конкретно. Беловодье мыслилось как сельская, крестьянская
страна: «Есть и люди и селения большие... А за рекой другое село». Это не значит, что в
крестьянском царстве нет городов. Их названия мы встречаем в «Путешественнике»: Скитай,
Кабан; возможно, были и другие. Но идеал отношений между разными слоями населения здесь
определенно отражал представление о крестьянском царстве Правды и Справедливости.
Беловодье запретно для царских чиновников, полицейских, судей, попов («никого к себе не
пущают»). Островное положение исключает войну («и войны ни с кем не имеют»), поэтому здесь
отсутствует солдатчина и рекрутчина. В Беловодье вообще нет никакой светской власти, вообще
никакой государственной организации: «светского суда не имеют». Единственная власть призна-
ваемая беловодцами, — духовная, которая мыслится в демократических (на протестантский лад)

формах народной «дешевой» церкви («и все служат они босы»).
В организационном плане Беловодье рисовалось как союз мелких, равных производителей с
прозрачной простотой внутренних отношений без какой-либо власти, стоящей над ними. Такое
устройство представлялось гарантией от всякой «татьбы», «воровства», «пакостей» или еще чего-
либо «противного закону», т. е. всякого гнета, насилия и организованного государством грабежа.
Духовенство здесь не официальное «никонианское», а свое, старообрядческое, сохраняющее
«древлее благочестие» и ведущее свою линию от каких-то восточных ветвей православия. Все
Беловодье мыслилось как страна, в которой живут по «божецкому закону».
37
Островное положение легендарной страны не случайно. Образ Острова является классическим
выражение идеи физической отстраненности, независимости от ненавистной антихристовой дей-
ствительности крепостнической России. Классические образцы «островных» утопий (как
народные, так и литературные) известны у всех народов. Поэтический образ острова,
выключенного из сферы действия дурных социальных закономерностей, получал в процессе
исторической жизни эпизодические подтверждения, способствовавшие закреплению его в
сознании народа. В России таковыми были Запорожская сечь, расположенная на острове Хортица,
монастырь на Соловецких островах — первый опорный пункт старооб-
447
рядчества, поселение казаков-некрасовцев на острове Майносе, «бе-гунский» скит на острове
Жилом на Топозере и т. д.
38
«Бегунская» версия Беловодской легенды не должна отвлечь нас от осмысления ее чисто
крестьянских корней. Несомненно, что бегунское движение было ответом на духовные
потребности крестьянства в его поисках выхода из условий крепостной зависимости и избавления
от власти феодального государства. Всплески «бегун-ства» совпадали с периодами роста
активности крестьянского движения в поисках свободных земель. «„Бегунство", — писал К.В.
Чистов, — переживало свои взлеты и затухания, совпадающие с общим ритмом крестьянского
движения. Особенно активным оно было в начале 20-х гг. XIX в., затем в 50-60-х гг. и в конце 70-х
— начале 80-х гг., причем в 60-е годы из секты выделяются т. н. „неплательщики", а в 70-80-е гг.
— „лучинковцы", в некоторых вопросах пошедшие еще дальше „бегунов". Неплательщики
возводили в религиозную догму неприятие реформы 1861 г.; „лучинковцы" требовали отречься от
всего, изготовленного слугами „антихриста", жгли лучины вместо свечей во время молений и т.
д.».
39
Примечательно, что в это движение были вовлечены, прежде всего, крестьяне окраинных районов
России: Севера, Сибири и Урала, т. е. тех, где сохранилась колонизационная традиция локальных
крестьянских миров. Утопическим идеалом здесь по-прежнему выступает классический,
традиционный крестьянский уклад, распространяемый теперь в масштабах «большого» общества.
Образ автономных локусов нашел отражение даже в представлении о Беловодье, разбросанном на
70, не считая мелких, островах. Складывается впечатление, что русская культура, не имея истори-
ческого наследия античной классики, создала в своем духовном мире собственный идеал
национальной классики. В отличие от полисного устройства европейской античности здесь
представлен классический аграрный ее вариант. Именно к этому образцу в период формирования
национального самосознания будет тяготеть русская общественная мысль и из него исходить в
процессе выстраивания социальных связей. Образ культуры и заложенные в ней поведенческие
стереотипы будут неизменно воспроизводиться на протяжении всего процесса модернизационного
развития России. Циклы легенд об «избавителях» и «далеких землях» завершают характеристику
основных направлений эволюции социальных воззрений крестьянства, проявляющихся во всех
сферах его социально-культурной и хозяйственной деятельности. Склонность к локализации
малых крестьянских миров выражает, на наш взгляд,
448
основную тенденцию аграрно-крестьянской традиции к непрерывному воспроизводству
альтернативных социальных локусов в пределах определенного цивилизационного (аграрного)
типа развития. В его основе лежат адаптивные механизмы аграрной культуры, интенциональная
установка крестьянского сознания на приспособление к конкретным природным условиям среды
обитания. Именно эта установка, исходящая из отношения к природе как матери и во многом
противостоящая онтологической концепции христианской антропологии, длительное время
препятствовала укоренению христианства на крестьянской почве. Христианство, возвышающее
человека над природой и прямо противопоставляющее человеческому (духовному) началу
природное (звериное) начало, изначально формировало установку на покорение природы, а не на
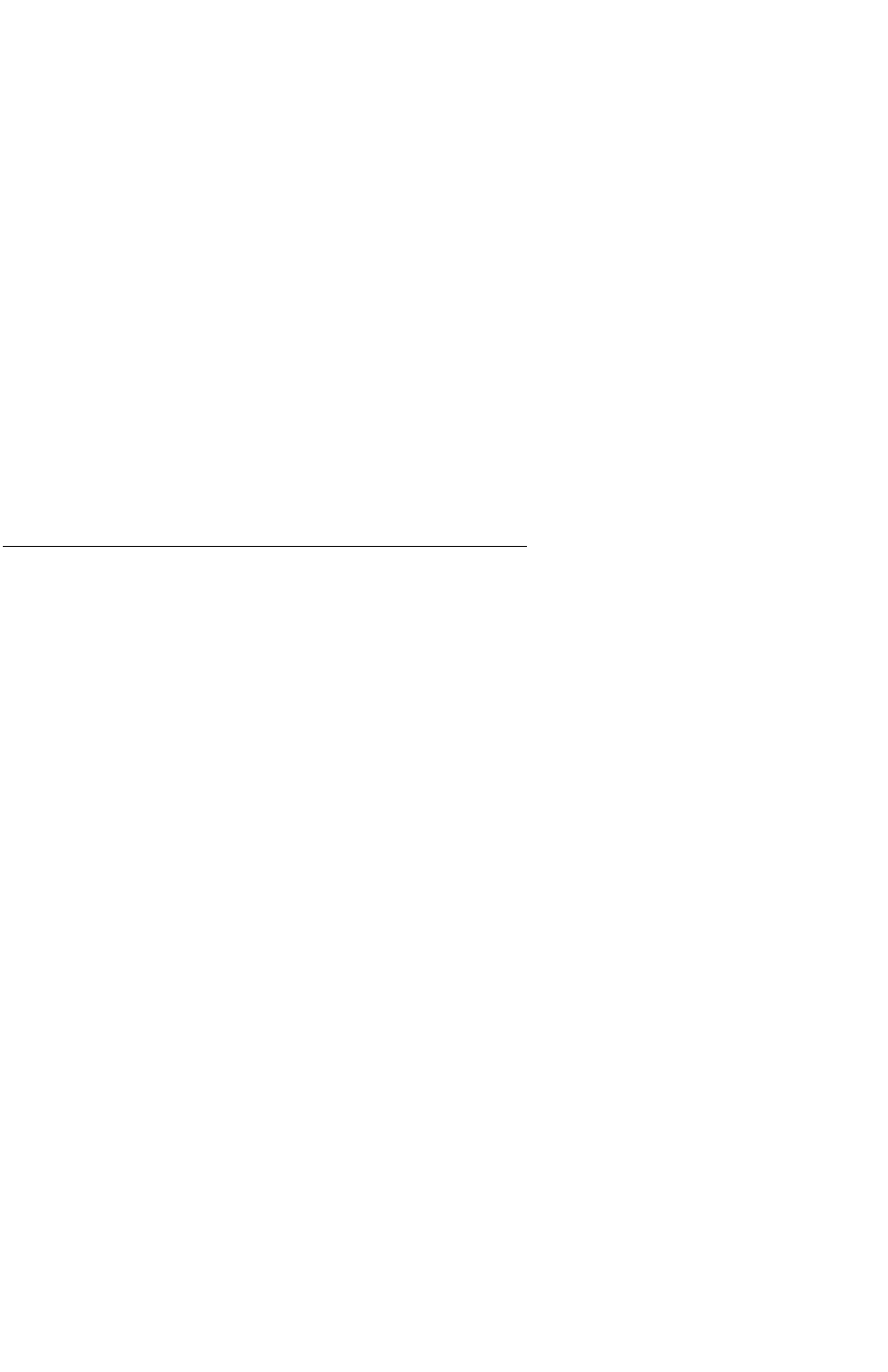
подчинение ей. Но даже став со временем частью крестьянской культурной традиции,
христианство не могло преодолеть органическую связь земледельца с природой как условие всего
его хозяйственно-культурного быта.
С этой первичной установкой крестьянского сознания связана необыкновенная чуткость
восприятия уникальной специфики локального пространства обитания, превращающегося в
органическую составляющую малого крестьянского космоса. Все здесь превращалось в объект
выстраивания внутренних связей и формирования все новых и новых образов локального
крестьянского космоса. Сюда входило и географическое положение, и климатические условия, и
природный ландшафт с характерной структурой почвенного состава, наличием или отсутствием
минеральных и лесных ресурсов, полезных ископаемых и т. п., флора и фауна, водные ресурсы и
характер их источников: река это или озеро, пруд или колодец. Самые невероятные комбинации
этих факторов в сочетании с характером привносимой аграрной традиции порождали разнообраз-
ные варианты утопий, формировали неповторимое своеобразие мифологических легенд и
сюжетов.
В природе крестьянской цивилизации заложена вечная тенденция к экспериментированию в
пределах определенного цивилизационного типа развития, в основе которого лежит непрерывный
социо- и культурогенез от самых истоков социально-эволюционного процесса. Его естественный,
стихийный характер столь же органично вызывает к жизни из недр аграрного развития различные
формы промыслово-предпринимательской деятельности, отливающиеся в социальные формы
торгово-ремесленных и городских центров, завязанных на сельскохозяйственную округу. Эти две
тенденции: воспроизводство первичных локусов и их промыслово-хо-зяйственная эволюция —
неизменно воспроизводятся в утопиях и
Глава 9. В поисках Китеж-града: крестьянская социальная утопия из этих тенденций выступает в качестве
фактора освоения пространства и превращается в основную линию социогенеза, другая —
культурогенеза и фактора развития. По существу, несмотря на свою взаимодополняемость, обе
тенденции противоположны друг другу, ибо одна стимулирует процесс развития, другая
ориентирована на отыскание новых пространственных ниш для транслирования экстенсивных
форм традиции. Однако примечательно то, что и та и другая тенденция включены в образно-
утопический ряд крестьянского сознания.
Со временем по ходу истории первая тенденция вытесняется интенсивными формами развития.
Окончательное возобладание факторов интенсификации по существу и знаменует развитие мо-
дернизационного процесса. Для государств с небольшими территориями этот процесс всегда был
менее болезненным, потому что потребности модернизации осмысливаются всем обществом прак-
тически одновременно. Для обширных стран, где возможности мо-дернизационного процесса
опосредуются условиями наличия территориальных возможностей для экстенсивного развития
(воспроизводства традиции), эта двойственность превращается в зону культурного разрыва.
В этом случае две тенденции превращаются в противоположные, способные стать предпосылкой
острого социального конфликта. Разные общественные группы могут обращаться за поиском
культурных образцов к разным источникам, а сфера развития, требующая глубоких перемен
традиционного общественного уклада, становится для массового традиционалистского сознания
сферой отторжения. Ощущение угрозы религиозно освященной традиции превращается в
ощущение конца света. Гибель традиции воспринимается как предвестие гибели мира и
цивилизации. Отношения между городом и деревней становятся культурной (знаковой) зоной
этого конфликта. И выстраивание связей между ними в русле цивилизационного процесса
выступает в качестве основной линии социального развития. На обеспечение ее направляются все
культурные силы общества: литература, искусство, общественные науки, государственная
политика и т. п. Характер этих связей мы и попытаемся рассмотреть в следующей главе.
ГЛАВА 1 О
ПУТЬ В ГОРОД: город и деревня в России
Что за страна! Бесконечная, плоская, как ладонь, равнина, без красок, без очертаний; вечные болота, изредка
перемежающиеся ржаными полями да чахлым овсом; там и сям, в окрестностях Москвы, прямоугольники огородов —
оазисы земледельческой культуры, не нарушающие монотонности пейзажа; на горизонте — низкорослые жалкие рощи и
вдоль дороги — серые, точно вросшие в землю лачуги деревень и каждые тридцать-пятьдесят миль — мертвые, как
будто покинутые жителями города, точно придавленные к земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы,
выстроенные только для маневров. Вот вам, в сотый раз, Россия, какова она есть.
А. де Кюстин. Николаевская Россия. 1839
...Рос-си-я. И мне, если хотите знать, представляется все это ужасное, необозримое пространство, все сплошь заваленное
снегом, молчаливое, а из снега лишь кое-где торчат соломенные крыши. И кругом ни огня, ни звука, ни признака жизни!
И вдруг, ни с того ни с сего, неизвестно почему — город.

А. Куприн. Мелюзга. 1907
А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половицы.
А. Городницкий
Деревня и город — два полюса, обозначающие основание и вершину цивилизационного процесса.
Отношения, разворачивающиеся между этими социально-культурными феноменами, явились
определяющим фактором общественного развития. Интенсивность обмена между ними, а также
его насыщенность и масштабы, характер образующихся при этом связей (властных,
экономических, правовых и т. п.) способны многое прояснить в специфике модернизаци-онных
преобразований. Характер этих процессов в значительной степени обусловлен исторически
сложившимися формами культурного диалога между городом и деревней.
451
Вся дальнейшая история Руси прошла под знаком последствий монгольского ига. Два с половиной
столетия иноземного владычества привели к архаизации социальной и экономической жизни
страны. С разрушением городов были не только прерваны общественные и хозяйственные связи,
налаживавшиеся веками, но и сама традиция городской жизни. Население, бежавшее из городов,
рассеялось по всей земле, скрывалось в северных лесах, селилось по берегам малых рек и озер,
вдали от основных водных магистралей. Века монгольского владычества привели к полной
архаизации и аграризации общества. Становление Московского государства фактически стало
рождением новой аграрной цивилизации, вынужденной начинать историю «с начала».
Природа русского города
Новый этап общественного развития протекал в условиях изоляции страны от мировых рынков.
Русь была отрезана от морских сообщений, традиционные южные торговые пути по Волге и Днеп-
ру перекрыты враждебными кочевниками. На севере доступ к Балтийскому морю блокировало
Литовское государство, захватившее значительную часть территории страны. Самые плодородные
южные районы оставались наименее заселенными из-за постоянной угрозы набегов кочевников.
Основные ресурсы население черпало в земледельческом освоении нечерноземного региона. В
этих условиях процесс образования городов оказался в полной зависимости от развития
земледелия.
Характеризуя специфику цивилизационного процесса в интересующем нас аспекте, мы можем
выделить условно два этапа гра-дообразования. Первый — вырастание города в условиях развития
аграрной среды, когда он не столько оказывает влияние на свое сельскохозяйственное окружение,
сколько сам является объектом влияния происходящих в деревне социально-экономических изме-
нений. На этом этапе город еще не выступает в качестве творца новых цивилизационных
ценностей. Его облик и характер остаются целиком связанными с традиционными ценностями
аграрного общества. На втором этапе — с укреплением города и его укоренением в аграрной среде
— городское развитие начинает приобретать собственные эволюционные тенденции,
соответствующие процессам буржуазной эволюции. Из пассивного объекта город превращается в
самостоятельный, активный субъект развития, оказывающего непосредственное влияние на
преобразование деревни, втягивающего ее в общественные отношения нового типа.
452
Историческое развитие средневековой России сопровождалось значительным ростом числа городов.
Если в середине XVI в. число русских городов, по подсчетам историков, достигало 160, то в середине
XVII в. их было уже 226, а в середине XVIII в. — 337.
1
При этом большинство городов находились в
начальной стадии становления. Значительное их число почти не имело посадского населения,
представляя собой приграничные города-крепости, населенные исключительно служилыми людьми.
Но были и такие, которые достигали весьма внушительных размеров. В XVII в. крупнейшими
русскими городами являлись Москва с населением 200 000 человек и Ярославль с населением свыше
15 000 человек. В то же время многие населенные пункты, не имевшие статуса города, по уровню
экономического развития и темпам роста населения могли соперничать с городами. Отдельные
промысловые села по численности проживающих в них жителей и тогда, и в последующем значитель-
но превосходили некоторые городские поселения. Речь идет, прежде всего, о торгово-промысловых и
посадских селах, таких, как Павлове, Иваново, Даниловское. Понятно, что влияние таких промысловых
центров на сельскую округу было более значительно, нежели некоторых городов.
Как мы уже говорили, возникновение городов шло различными путями. Первый из них —
естественный процесс вызревания города как центра ремесла и торговли в недрах аграрного развития
региона. Развитие товарных отношений и происходящее на этой основе отделение ремесла от
сельского хозяйства может считаться классическим путем образования города, становлению которого в
этих условиях часто предшествовало обретение населенным пунктом статуса промыслового села
вследствие интенсивного роста ремесленных занятий и постепенного превращения сельского хозяйства

в подсобную деятельность. К этому же типу могут быть причислены и города, возникшие изначально
как центры межрегиональной торговли, объединяющие более или менее обширные территории
вследствие их выгодного расположения на перекрестках торговых путей. Речь идет, прежде всего, о
крупных речных городах, например, Поволжья. Их торгово-промышленный характер определялся
первенствующим значением связей с другими городскими центрами, что и позволяло такого рода
городам оставаться сравнительно независимыми от аграрного окружения и осуществлять более
«агрессивную» политику в отношении деревни, превращаясь в центр активно развивающегося
сельского региона.
Вплоть до XVIII в. административно-правовых различий между городом и деревней практически не
существовало. Отношения между городом и прилегающей к нему сельской округой носили сти-
453
хийный характер, время от времени регулируемый отдельными правовыми актами частного
характера. В административной практике не существовало точных критериев, согласно которым
тот или иной населенный пункт мог считаться городом. Многие поселения городского типа
именовались «слободами», «околотками», «застеньями», «охабнями». Пожалуй, наиболее
распространенным в сознании общества и законодателей признаком обозначения городов было на-
личие крепостных стен, будь то древний детинец, опоясывающий центральную часть города, или
заново построенные крепостные стены городов приграничных засечных полос. Не существовало и
четко определенного правового статуса городского населения.
Характерной особенностью развитого русского города была сословная пестрота его жителей.
Дворы торгово-ремесленного населения соседствовали с дворами и усадьбами светских феодалов
и владениями монастырей. Повсюду в городах были рассеяны дворы и слободы «приборных»
служилых людей. Да и само торгово-ре-месленное население не было единым. Оно включало в
себя и купцов различных рангов, и ремесленников самых различных специальностей, и людей,
живущих работой по найму, и торгующих в городе крестьян, и многих других. Правовое
положение отдельных категорий городского населения определялось представляемыми им, так
сказать, явочным порядком сословными, а иногда личными или семейными правами и
привилегиями. Но правовой статус основной массы населения не был определен вовсе.
Аграрный город
В большинстве случаев граница между городом и деревней отсутствовала и в буквальном смысле.
Иногда было совершенно невозможно определить, где кончается город и начинается сельская
округа. Сложно представить себе русский город без окружавших его полей, садов, огородов,
обширных лугов и пастбищ. Некоторые города и внешним видом ничем не отличались от
окрестных сел. Дома в городах по сельской традиции строились деревянные и, как правило,
одноэтажные, на значительном расстоянии друг от друга. Между ними были разбиты сады и
огороды. Обширные пустоши превращались в летнее время в луга для выпаса скота, который
содержался едва ли не в каждом дворе. Существующее подворное обложение учитывало именно
такую специфику русских поселений. Большинство городского населения, имеющего торговый
или ремесленный промысел, в то же время продолжало по традиции заниматься сельским
хозяйством.
454
Территория более или менее крупных городов в XVII в. делилась на слободы или сотни,
воспроизводя фактически патриархальную систему деления (концы, углы, сотни и т. п.).
«Слободская организация, — как отмечал исследователь русского города Б.Н. Миронов, —
...позволяла сохранять патриархальность отношений между горожанами и в больших городах».
2
Средний русский город, таким образом, представлял собой вариант аграрного поселения где
значительная часть жителей сохраняла тесную связь с сельским хозяйством, т. е. занималась
помимо торгово-ремесленного промысла сельскохозяйственной деятельностью, а иногда и
исключительно ею.
Ситуация, характерная для большинства русских городов, не могла существенно измениться и в
XVIII в. несмотря на дальнейшее развитие отдельных городов и связанные с этим крупные ре-
формы в области городского управления. В пользу аграрной специфики русского общества ярко
свидетельствует интенсивно продолжавшийся в стране процесс образования городов из сельских
поселений.
Город — военный и административный пункт
Наряду с естественными социально-экономическими факторами огромное влияние на процесс
возникновения городов в России оказывали факторы военно-политического и административного
характера. Враждебное окружение и особенно угроза набегов многочисленных кочевых племен

вплоть до конца XVIII в. требовали от власти значительных усилий для защиты внутренних
районов страны. Этой цели служила практика строительства укрепленных линий с городами-
крепостями, выполнявшими сугубо военно-оборонительные задачи. На юге одной из таких линий
была расположена Белгородская черта укреплений (30-40-е годы XVII в.) с городами Романов,
Белоколодск, Костенек, Верхососенск и другими. На юго-востоке — Закамская черта (1652-1656) с
городами Ерык-линск, Новошешминск, Заинек, Новомензелинск, Мещелинск и Новая-Закамская
линия (1731). В Западной Сибири — Иртышская, Колывано-Воскресенская, Кузнецкая линии и т.
д. Как правило, возведение городов-крепостей следовало за освоением крестьянами южных и
восточных территорий, но часто предшествовало обширному колонизационному движению, лишь
создавая для него более благоприятные условия.
Продолжающаяся колонизация огромных территорий страны (всего черноземного региона,
среднего и южного Поволжья, Сиби-
455
ри и Дальнего Востока) обусловливала огромную роль городов-крепостей, призванных служить
защитой для крестьянского населения и административными центрами. Разрастаясь, подобные го-
рода часто сами начинали нуждаться в защите, и тогда перед ними, в степи, строились новые
крепости или «пригороды». Актуальность проведения оборонительных линий в степях диктовала
необходимость продолжения подобной практики (берущей начало с первых лет существования
Русского государства) вплоть до конца XVIII столетия.
Построенные города-крепости заселялись служилыми людьми разных категорий. Часто не имея
возможности выплаты денежного содержания, правительство шло на предоставление населению
окраинных городов земельных пожалований в окрестностях крепостей в размерах порядка 30-80
четвертей на двор для различных категорий с последующим зачислением их владельцев в
категорию пахотных солдат, однодворцев и т. п. В города, имеющие административное значение,
переселялась чиновная знать, также получавшая значительные земельные пожалования с
наделением их крестьянами, переводившимися нередко из дворцовых сел.
Подобное происхождение имеет значительная часть городов черноземного региона
3
, Заволжья
4
и
Сибири
5
. По мере отмирания военно-оборонительных функций с перенесением границы дальше на
юг и восток такие города оказывались населены феодально-чиновным и служилым населением,
связанным почти исключительно с земледельческим трудом. Многие из этих городов и до начала
XX в. оставались на положении аграрных поселений, а их жители часто смешивались с окрестным
крестьянским населением.
К числу факторов городского развития может быть отнесено особое административное назначение
многих населенных пунктов, которые в условиях низкой плотности населения и обширности
территорий получали статус городов исключительно в силу потребностей административного
управления регионом. Только в ходе губернской реформы 1775-85 гг. статус города получили 216
населенных пунктов. Понятно, что и после этого они продолжали развиваться в прежних
социальных и экономических условиях. Автор одного из многочисленных губернских описаний
середины XIX в. М. Баранович писал о судьбе таких городских центров: «При устройстве этих
городов руководились не указаниями промышленного и торгового развития местности,
обусловливающего необходимость городской жизни в том или другом пункте, а чисто
теоретическими соображениями об удобстве управления уезда, причем полагалось главнейшим
условием поместить город в центр уезда, дать ему герб, устроить его присутственные места и
заставить жителей сделаться
456
горожанами и ремесленниками. Для этого нередко уменьшалось даже количество городских земельных
угодий, но городская жизнь не развивалась, многие из городов этих, впоследствии упраздненные,
представляют в настоящее время простые деревни как по своему устройству, так и по внутренней
жизни населения. Желание создать искусственно городскую жизнь в городах объясняет настоящее
значение городов для промышленности края: большая часть их имеет связь с уездами только по
управлению; в промышленном же отношении многие села, иногда расположенные весьма недалеко от
городов, составляют важнейшие промышленные и торговые пункты».
6
По данным, имеющимся на начало XVIII в., из 336 русских городов только 200 имели посадское
население, остальные представляли собой крепости и остроги, заселенные исключительно служилыми
людьми. Естественно, что говорить в этих условиях о цивилизующей роли городов по крайней мере
преждевременно. Из 542 городов, насчитывавшихся в России в конце XVIII в., абсолютное
преобладание имели малые города с численностью до 5000 жителей — их насчитывалось 391, или 72%.
Средних городов с численностью населения от 5 до 25 тысяч человек было 147, и они составляли 27%.
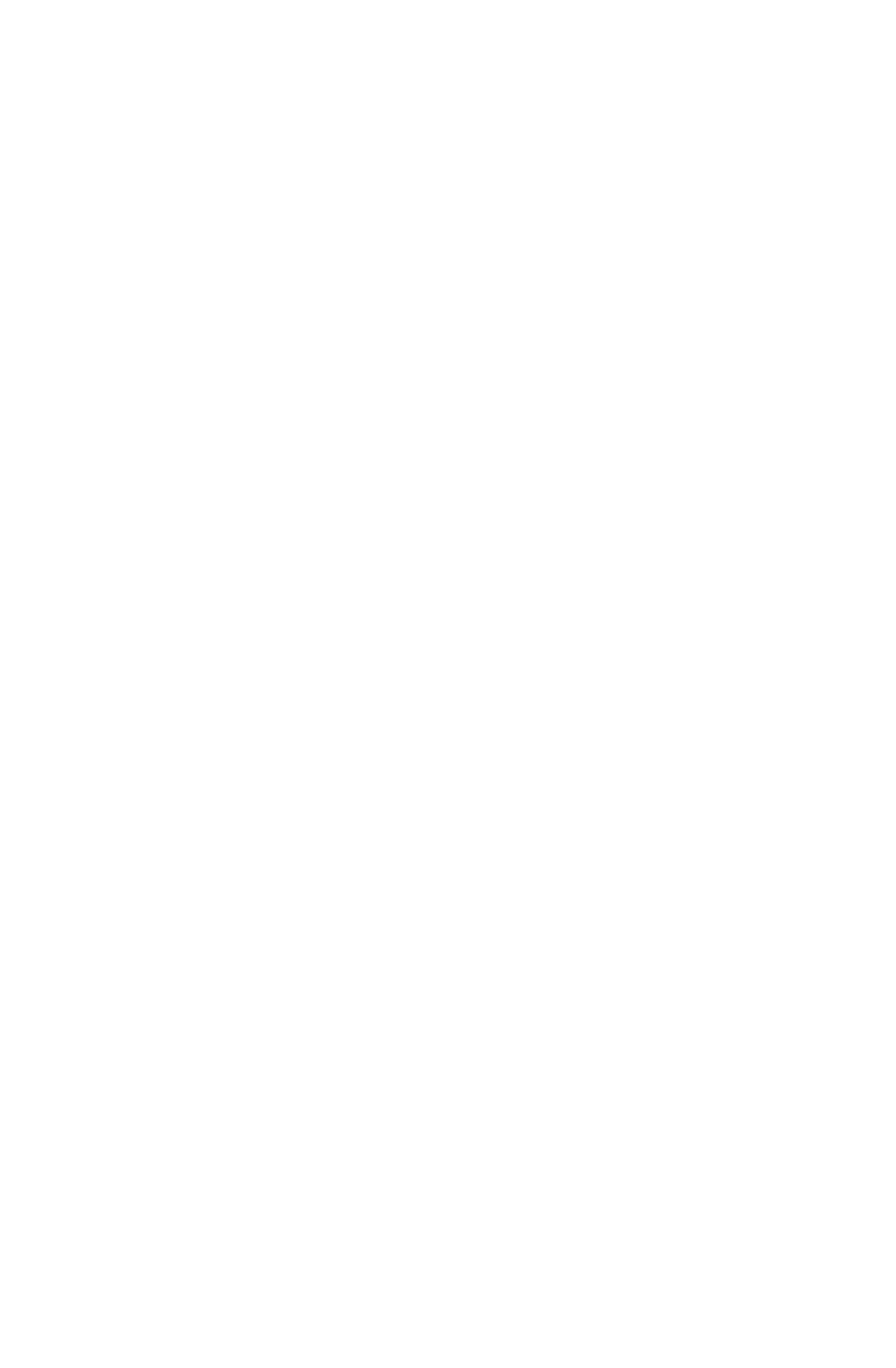
И только 4 города (0,7% от общего числа городов) имели число жителей, превышающее 25 000
человек. В подавляющем большинстве русские города едва отличались от более или менее крупных
сел, а зачастую и уступали некоторым селам по уровню социального и экономического развития.
Торгово-промышленный город
И тем не менее, с XVII в. городское развитие получает в результате разворачивающихся процессов
социально-экономического развития новые стимулы. Установление в стране мира после разгрома
польско-литовских интервентов привело к бурному расцвету ремесла и торговли. К середине столетия
в крупных городах появляется довольно большая прослойка собственников, владеющих
значительными капиталами. Особенности экономического развития России на этом этапе определяли
абсолютное преобладание в их доле торгово-ростовщического капитала. В таких крупных городах, как
Москва, Ярославль, Новгород, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Тверь доля таких собственников
составляла 10-17% всего посадского населения.
7
Остальная часть капиталов была сконцентрирована в руках мелких и средних владельцев,
представлявших различные катего-
457
рии городского служилого, ремесленного и крестьянско-промысло-вого населения. Свобода
крестьянского промысла на территории посадов была особенностью эпохи начала и середины XVII в.
Если учесть, что собственно горожане, приписанные к посадам, даже в крупных промышленных
центрах редко превышали половину всего населения города, а подавляющее большинство временно
проживающих составляли крестьяне, можно утверждать, что крестьянские капиталы успешно
конкурировали с капиталами горожан. Этому способствовали особенности существовавшей в то время
системы налогообложения, чрезвычайно обременительной для посадского населения. Основные налоги
с городского населения взимались посредством обложения сделок и предприятий торгово-про-
мышленного характера (таможенные пошлины, кабацкие сборы, пошлины с аренды, заклада, купли-
продажи имущества, с договоров о найме рабочей силы и т. п.), тогда как крестьянское население, не
приписанное к посадам, могло вести в городе торгово-промышленную деятельность в обход
посадского законодательства. Исследователями уже не раз отмечалось, что для торговых крестьян
платить феодальные подати было выгоднее, чем нести посадское тягло.
8
Поэтому распространенным
лозунгом посадских движений этого времени было требование, «чтобы всякие торговые и
промышленные люди были в государевом тягле и в слободах с ними вместе равно»
9
. Вслед за
Посадским строением 1649-1652 гг., упразднившим разделение городов на «черные» и «белые» слобо-
ды и уравнявшим налоговые тяготы всего посадского населения, в 1670-1680-е гг. правительством
принимается несколько решений о приписке к посадам пришлых людей, прежде всего крестьян. Пос-
ледним из таких актов было решение правительства от 19 октября 1688 г. о приписке всех
поселившихся на посадах до 17 декабря 1684 г. пришлых людей с зачислением их в посадское
сословие.
10
Таким образом, до начала XVIII в. население крупных русских городов продолжало активно
пополняться за счет наиболее активных и предприимчивых крестьян. Между городом и деревней
существовала взаимная связь, позволявшая им интенсивно развиваться, взаимно питая друг друга.
Развивался культурный диалог, проявлявшийся в различных формах обмена культурными и цивилиза-
ционными ценностями между особыми социальными средами в пределах традиционного общества.
Процесс этот не проходил безболезненно, что было причиной обострения отношений между город-
скими и сельскими общинами, и привело к подъему массовых городских движений в середине XVII в.
Как уже отмечалось, одним из основных требований горожан в них было законодательное регу-
лирование торгово-предпринимательской деятельности негородского
458
населения в пределах города. Помимо проблемы правового урегулирования отношений между
городом и деревней все большее значение в сознании общества приобретал фактор столкновения
традиционных ценностей с распространявшимися ценностями формирующегося буржуазного
уклада (о чем шла речь в предыдущей главе). Тем не менее, всеми условиями социально-
экономического развития закладывались основы будущего национально-культурного подъема.
Встреча с Европой и старая Россия
Новая страница в истории русского города была открыта с началом XVIII столетия. Реформами
Петра I и всем дальнейшим ходом исторического развития Россия была выведена из состояния
политической и культурной изоляции, активно включившись в историческую жизнь европейской
цивилизации. С этим временем связаны первые массовые вояжи русских за границу, впоследствии
превратившиеся в нечто напоминающее паломничество правоверных в Мекку. Тогда же
разворачивается широкое привлечение иностранцев на русскую гражданскую и военную службу.
Петр приглашает из-за границы различных специалистов, мастеров и ремесленников, деятелей

науки и искусства. Начинается активное знакомство русского общества с европейской культурой и
бытом, пробуждается интерес к гражданскому и политическому устройству западных стран.
«В западничестве, — как писал протоиерей Г.П. Флоровский о Петре, — он не был первым, не
был и одиноким в Москве XVII в.... Петр застает в Москве уже целое поколение, выросшее и
воспитанное в мыслях о Западе, если и не в западных мыслях... Новизна петровских реформ не в
западничестве, но в секуляризации».
11
Эта характеристика Г.П. Флоровского, автора труда «Пути
русского богословия», относится не только к антицерковной политике Петра I, но и к
пресловутому рационализму его политической программы, ибо модернизационная активность
Петра и его фанатическая ненависть к традиции основывалась на его поистине религиозной вере в
демиургическую мощь государства и властного разума.
В своем духоборческом (в отношении духовной традиции) и антинациональном (в отношении
национальной культуры) порыве Петр ведет себя как демиург. В его варварски-безоглядной дея-
тельности соединяются профанное и гениально-ургическое. Он совершенно буквально воспринял
усвоенную на Западе барочную (по сути своей метафорическую, гимнологическую) трактовку
государ-
459
ства как воплощения божественного разума, которая легла на русскую идеологическую почву с ее
апокалиптической идеей Москвы как Третьего Рима.
Говоря словами Флоровского, в петровских преобразованиях «изменяется самочувствие и
самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодовлении,
утверждает свою суверенную самодостаточность. <...> Государство утверждает себя самое как
единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого
законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать или быть государ-
ственным, и только государственное попускается и допускается впредь... Именно в этом вбирании
всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства", кото-
рое заводит и учреждает в России Петр...»
12
Такая радикальная трактовка государственной власти воспринята Петром именно на Западе. Здесь
она имела свои глубокие исторические основания, цивилизационные и культурные предпосылки.
Важную роль для самосознания европейца имело развитие научных знаний и просвещения. Из
традиции «розенкрейцерского просвещения» эпохи Ренессанса и Реформации европейское обще-
ство вынесло представление об исключительной роли науки. Наука и научное сообщество
образовывали свой самостоятельный мир внутри европейской цивилизации со своим языком
(латынью), своим набором нравственно-этических норм (кодексов, правил) и институциональных
форм (университеты, студенческие братства или землячества), своими правилами общения в
научной среде и т. д.
В науке нет различий между национальностями и конфессиями. Нацеленная на постижение
универсальной Истины, она располагает универсальным инструментарием и методологией
погружения в самые глубины и тайны мироздания, она призвана открывать законы Вселенной и
Мирового Разума. Накануне Реформации в многонациональной и многоконфессиональной Европе
именно наука выступила с претензией на рациональное обоснование религиозных (в частности,
конфессиональных) истин, обещая решить политическими средствами вековые споры между
конфессиями. Именно подъем науки и вера в ее могущество подготовили реформаци-онное
движение с его секуляризационными устремлениями.
Устремленность к Истине обещала науке возможность управления мировыми законами, их
регулирования во благо человечества. Это обещало грядущее преображение Мира, глобальные из-
менения в будущем жизни природы (райский сад, город-сад, «вертоград многоцветный»),
общества (многочисленные утопии типа «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона, «Аркадии» Сидни или
«Города
460
Солнца» Кампанеллы) и человека (совершенный мудрец или ро-зенкрейцервский гомункулус).
Это движение «предполагало преображение общества, в котором посвященные мудрецы
постепенно распространяют герметическое знание и основанные на нем принципы управления».
13
В своей ориентации на практику это течение вылилось, с одной стороны, в расцвет
рационалистической философии, вплоть до крайних форм материализма и экономизма, а с другой
— в идею «политической механики» и полицейского государственного мышления.
«...Так же, как рационалистическая философия была в значительной степени реакцией на
символическое, неоплатоническое в своих истоках, герметическое мышление предшествующей
