Хелд Д. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура
Подождите немного. Документ загружается.


8.2 Потребление природных ресурсов в Соединенных Штатах и Индии,
1991 472
8.3 Сравнительные уровни потребления ресурсов в промышленных
и развивающихся странах, 1986—1990 472
З,1 Цивилизующая и демократизирующая глобализация новейшего
времени: краткое резюме трех политических проектов 532
ВРЕЗКИ
B.i Исторические формы глобализации: основные параметры 24
1.1 Волны демократизации по Сэмюэлю Хангтингтону 54
1.2 Региональные межправительственные телекоммуникационные организации
7°
1.3 Модель Устава ООН 75
1.4 Комитеты и специализированные учреждения ООН 77
1.5 Транснациональная борьба за соблюдение прав человека 8о
1.6 Правила ведения войны 84 3-1
Открытость для торговли: экономические и дистрибутивные
последствия 191
4-1 Специальные термины финансовой глобализации 223
4-2 Теоретические представления о функционирование золотого
стандарта 229
4-3 Международные облигации 240
4-4 Фьючерсы, опционы, свопы 242
4-5 Паритет процентных ставок 254
4-6 Европейские валютные органы с 1979 г. 264
4-7 Стерилизация иностранной валютной интервенции 270
$.1 Британская Ост-Индская компания 28о
5-2 Модель «Бенеттона» 315
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга является результатом почти десятилетнего исследования и необычного
переплетения научных интересов.
В середине 8о-х гг. Дэвид Хелд и Энтони Макгрю часто и подолгу обсуждали изменение
природы и форм устоявшихся либерально-демократических национальных государств перед
лицом усиливающихся региональных и глобальных взаимосвязей. И как же часто результатом
этих бесед оказывалось взаимное непонимание! Дэвид Хелд, как правило, рассматривал мир
региональных и глобальных отношений как внешний по отношению к сфере политической
теории, тогда как Энтони Макгрю, будучи специалистом по вопросам международных отно-
шений, имел обыкновение подходить к внутренней политике как малозначительному
элементу межгосударственной системы. Целый ряд замечательно проведенных бесед и
дискуссий показал, что позиция ни одной из сторон, как она была представлена в дискуссии,
не способна адекватно отразить изменяющуюся природу политики в мире, элементы которого
стали куда более взаимосвязанными, и что подходы и концептуальный аппарат сторон,
участвовавших в диалоге, требуют совершенствования.
Затем последовала заявка на исследовательский грант в Совет по экономическим и
социальным исследованиям (ESRC). Предметом заявки была разработка концептуальной
схемы, позволяющей теснее увязать политическую теорию с теорией международных
отношений в изучении острых проблем, возникающих в результате изменения роли
современного государства. В частности, авторы ставили своей целью выяснить, насколько
глубоко регионализация и глобализация меняют природу мирового порядка и как этот новый
мировой порядок влияет на национальный суверенитет и автономию.
Исследование было профинансировано ESRC (грант № Rooo 23 339*)> и мы чрезвычайно
благодарны за возможность, которую предоставил нам Совет, так же как и за ряд ценных
указаний, сделанных несколькими анонимными рецензентами.
После того, как проект получил финансирование, беседы между Дэвидом Хел-дом и Энтони

Макгрю продолжились уже невзирая на междисциплинарные границы и затронули ряд
актуальных проблем, решение которых стало целью данного исследования. Дэвид Гольдблатт
обогатил проект своими знаниями основ социальной теории и проблем, связанных с
окружающей средой, а Джонатан Пер-ратон принял участие в работе над проектом в качестве
экономиста. Они оба внесли вклад в разработку концептуальной схемы проекта, как и в
каждый аспект исследовательской программы. Это была поистине коллективная работа,
результатом которой является синтез нашей совместно проведенной экспертизы. Множество
людей внесло свой вклад в работу над этой книгой. Анна Хант прекрасно отредактировала
огромную рукопись и внесла в нее некоторые поправки; Рэй Манне рисовал и копировал
карты и таблицы, проявляя исключительное терпение, когда ему приходилось сталкиваться с
фактом быстро меняющейся действительности; Ребекка Хант оказала нам неоценимую
помощь в деле создания ба-
зы данных для книги; Бренда Мартин чрезвычайно помогла нам на заключительных этапах
работы над проектом; Джулия Харсант, Сью Поуп и Джилл Мотли с исключительной
добросовестностью и заботливостью содействовали процессу публикации рукописи; Энн Бон
с необыкновенным терпением и усердием подготовила книгу к печати; Серена Темперли с
большим профессионализмом содействовала успешному прохождению книги через все стадии
производственного процесса, а Джейн Роуз помогла реализовать наши планы по привлечению
к книге внимания широкой читательской аудитории. Мы чрезвычайно благодарны всем этим
людям и многим коллегам, друзьям и членам семьи за оказанную нам поддержку, за советы и
(почти всегда!) конструктивную критику.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПЕК/АРЕС АСЕАН/ASEAN
БВС/BWS BMP/BIS
ВВП/GDP BMO/WMO
ВНП/GNP ВОЗ/WHO ВПП/WFP
ВПС/UPU ВТО/WTO ГАТС/GATS
ГАТТ/GATT
ГДР/GDR
EACT/EFTA
EBC/EMS
EC/EU
ЕЭС/EEC
И К АО/1CАО ИКТУ/ICTU
имко/imсо
КАФОД/CAFOD
МАГАТЭ/IAEA
MAP/IDA
Экономическое сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона/Asia-Pacific
Economic Cooperation Ассоциация государств Юго-Восточной Азии/Association of South East
Asian Nations
Бреттон-Вудская система/Bretton Woods system Банк международных расчетов/Bank for
International Settlements
Внутренний валовый продукт/gross domestic product Всемирная метеорологическая
организация/World Meteorological Organization
Валовый национальный продукт/gross national product Всемирная организация здоровья/World
Health Organization Всемирная продовольственная программа/World Food Programme
Всемирный почтовый союз/Universal Postal Union Всемирная торговая организация/World
Trade Organization Генеральное соглашение по торговле и услугам/General Agreement on Trade
and Services
Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле/ General Agreement on Tariffs
and Trade
Германская демократическая республика/German Democratic Republic
Европейская ассоциация свободной торговли/European Free Trade Association
Европейская валютная система/European Monetary System Европейский союз/European Union

Европейское экономическое сообщество («общий рынок»)/ European Economic Community
Международная организация гражданской авиации/ International Civil Aviation Organization
Международная конфедерация свободных профсоюзов/ International Confederation of Trade
Unions Межправительственная морская консультативная организация/International Maritime
Consultancy Organization Католический фонд зарубежного развития/Catholic Fund for Overseas
Development
Международное агентство по атомной энергии/International Atomic Energy Agency
Международная ассоциация развития//International Development Agency
МБРР/IBRD
МВФ/IMF
МЕРКОСУР/
MERCOSUR
MHK/MNC
MOT/ILO
МСП/SMEs
МСЭ/ITU
МФК/IFC
НАТО/NATO НАФТА/NAFTA
ОАГ/OAS OAE/OAU
ОАЭ/UAE ОБСЕ/OSCE
ООН/UN ОПЕК/OPEC
ОЭСР/OECD
ПЗИ/FDI CEATO/SEATO
СИТЕС/CITES
CEHTO/CENTO
СОПЕМИ/
SOPEMI
СПИД/AIDS
СЭВ/COMECON
ТПИС/TRIPS
ФАО/FAO
Международный банк реконструкции и развития/
International Bank for Reconstruction and Development
Международный валютный фонд/International Monetary Fund
Южноамериканский общий рынок/Southern Cone Common
Market
Многонациональная корпорация/multinational corporatin
Международная организация труда/International Labour
Organization
Малые и средние предприятия/small and medium-sized
enterprises
Международный союз электросвязи/International
Telecommunication Union
Международная финансовая корпорация/International
Finance Corporation
Североатлантический союз/North Atlantic Treaty Organization
Североамериканское соглашение о свободной торговле/North
American Free Trade Organization
Организация американских государств/Organization of
American States
Организация африканского единства/Organization of African
Unity
Объединенные арабские эмираты/United Arab Emirates
Организация по безопасности и сотруничеству в Европе/
Organization of Security and Cooperation in Europe
Организация объединенных наций/United Nations

Организация стран-экспортеров нефти/Organization of
Petroleum Exporting Countries
Организация экономического развития и сотрудничества/
Organization for Economic Cooperation and Development
Прямые зарубежные инвестиции/foreign direct investment
Организация договора Юго-Восточной Азии/South East Asia
Treaty Organization
Конвенция о международной торговле видами дикой
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения/
Convention on International Trade in Endangered Species
Организация Центрального договора/Central Treaty
Organization
Система постоянного контроля над миграцией/Systeme
d'observation permanente des migrations
Синдром приобретенного иммунного дефицита/Acquired
Immune Deficiency Syndrome
Совет экономической взаимопомощи/Council for Mutual
Economic Assistance
Соглашение ВТО о торговле правами интеллектуальной
собственности/Trade in intellectual property rights
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН/Food and Agriculture Organization
ФРГ/FRG Федеративная республика Германии/Federal Republic of
Germany ЮНЕП/UNEP Программа ООН по окружающей среде/United Nations
Environment Programme
ЮНЕСКО/ Организация ООН по вопросам образования, науки
UNESCO и культуры/United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization ЮНИДО/UNIDO Организация ООН по промышленному развитию/United
Nations Industrial Development Organization
ЮНИСЕФ/ Детский фонд ООН/United Nations Children's Fund
UNICEF
ЮНДП Программа развития ООН/United Nations Development
(ПPOOH)/UNDP Programme
ЮНКТАД/ Конференция ООН по торговле и развитию/United Nations
UNCTAD Conference on Trade and Development
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ В ПОРЯДКЕ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА
AIDS
АРЕС
ASEAN
BWS
BIS
CAFOD
CENTO
CITES
COMECON
EEC
EFTA
EMS
EU
FAO
FDI
FRG
GATS
GATT
GDP
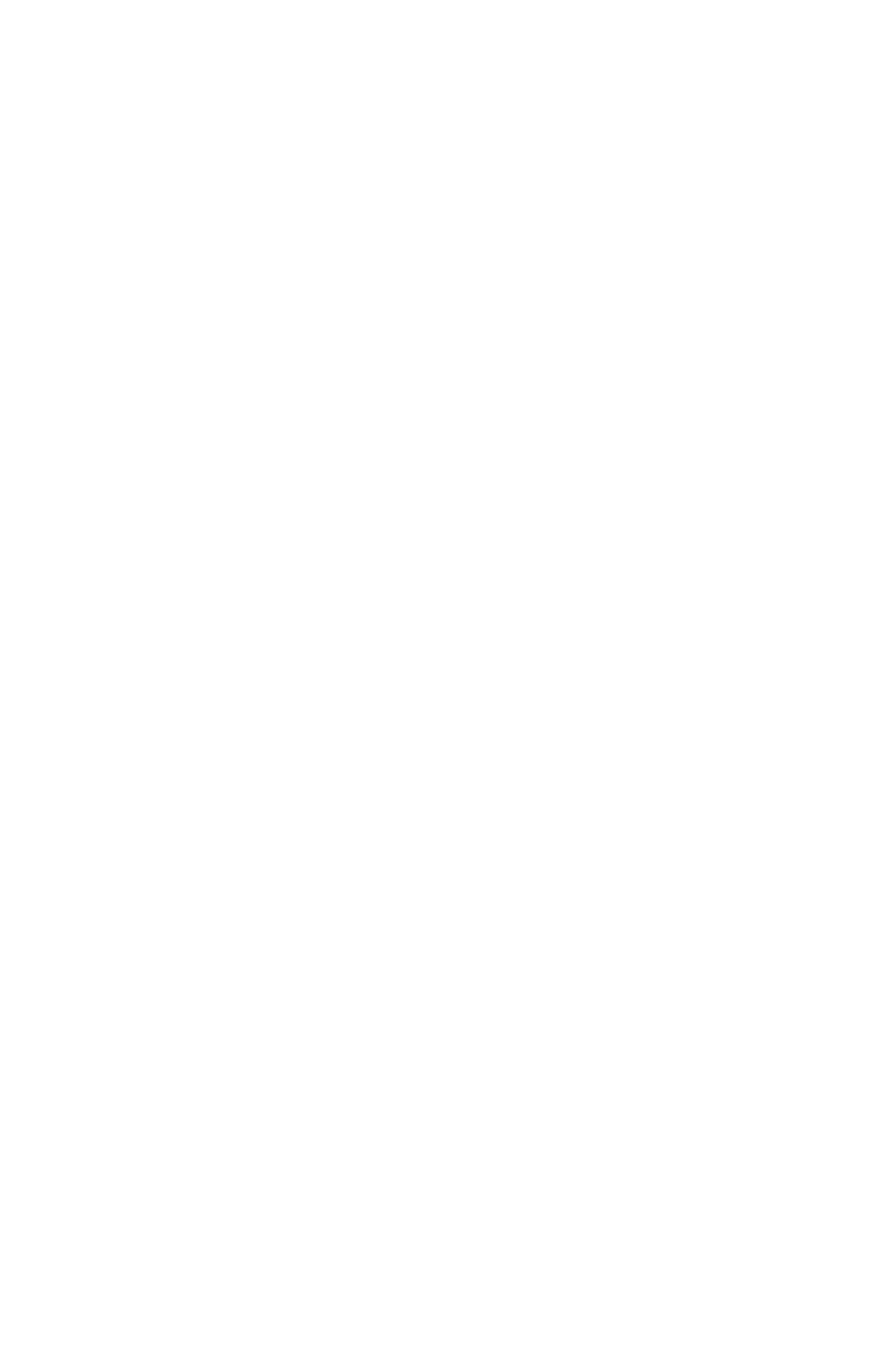
GNP
GDR
IBRD
IС АО
IAEA
ICTU
IDA
IFC
ILO
IMCO
СПИД
АПЕК
АСЕАН
БВС
БMP
КАФОД
СЕНТО
СИТЕС
СЭВ
ЕЭС
ЕАСТ
ЕВС
ЕС
ФАО
ПЗИ
ФРГ
ГАТС
ГАТТ
ВВП
ВНП
ГДР
МБРР
ИКАО
МАГАТЭ
ИКТУ
MAP
МФК
МОТ
ИМКО
IMF
ITU
MERCOSUR
MNC
NAFTA
NATO
OAS
OAU
OECD
OPEC
OSCE
SEATO
SMEs
SOPEMI
TRIPS
UAE
UN
UNCTAD

UNDP
UNEP
UNESCO
NICEF
UNI DO
UPU
WFP
WHO
WMO
WTO
МВФ
МСЭ
МЕРКОСУР
MHK
НАФТА
НАТО
ОАГ
OAE
ОЭСР
ОПЕК
ОБСЕ
CEATO
МСП
СОПЕМИ
ТПИС
ОАЭ
ООН
ЮНКТАД
ЮНДП (ПРООН)
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮНИСЕФ
ЮНИДО
ВПС
впп
воз
вмо
ВТО
ВВЕДЕНИЕ
Глобализация — одна из тех идей, о которых можно сказать, что пришло их время. Впервые
это понятие появилось в работах французских и американских авторов в 6о-х г. XX в., а
сегодня вошло во все основные языки мира (ср.: Modelski, 1972). Тем не менее, оно нуждается
в точном определении. В самом деле, глобализации грозит опасность превратиться в расхожее
клише нашего времени (если этого еще не случилось), стать расплывчатой идеей, которая
охватывает все — от мировых финансовых рынков до Интернета, — но которая мало что дает
для понимания современных условий человеческого существования.
И все же с помощью расхожих слов можно «ухватить» элементы живого опыта эпохи. В этом
отношении глобализация отражает широко распространенное представление о том, что мир
стремительно превращается в социальное пространство, в котором господствуют
экономические и технологические силы, и что изменения в одной части планеты могут иметь
далеко идущие последствия для судеб отдельных людей или сообществ на другом конце
земного шара. Для многих глобализация ассоциируется также с ощущением политического
фатализма и постоянной угрозы того, что подлинные масштабы современных социальных и
экономические изменений, по-видимому, превосходят способность национальных

правительств или граждан контролировать, оспаривать или оказывать сопротивление этим
изменениям. Иными словами, глобализация действительно накладывает ограничения на
национальную политику.
Наряду с обыденными рассуждениями о глобализации, отражающими некоторые аспекты
нынешнего «духа времени», ведутся (хотя еще довольно робко) и научные дискуссии по
поводу того, дает ли глобализация в качестве аналитического понятия что-то ценное для
поиска четкого понимания тех исторических сил, которые на заре нового тысячелетия
участвуют в формировании социально-политических реалий повседневной жизни. Несмотря
на обширную и все растущую литературу, не существует — что весьма удивительно — ни
убедительной теории глобализации, ни даже систематического анализа ее главных особеннос-
тей. Более того, некоторые исследователи глобализации прибегают к историческому
изложению, чтобы показать различие между преходящими и сиюминутными событиями и
теми тенденциями, которые свидетельствуют о возникновении новых условий, т. е. об
изменении природы, формы и перспектив человеческих сообществ. Осознавая недостатки
существующих подходов, авторы настоящего труда пытаются обосновать особый подход к
глобализации, который учитывал бы ее историческую подоплеку и вместе с тем опирался бы
на точную аналитическую схему. Такая схема будет представлена во Введении. В
последующих главах она используется для того, чтобы описать историю глобализации и
оценить ее результаты применительно к внутренней и внешней политике современных
национальных государств. В этом отношении введение предлагает методологические
основания, позволяющие ответить на вопросы, которым посвящено исследование в целом:
2
• Что такое глобализация? Как она должна быть выражена концептуально?
• Представляет ли собою современная глобализация некое новое состояние?
• С чем ассоциируется глобализация: с гибелью, возрождением или изменением
государственной власти?
• Устанавливает ли современная глобализация новые ограничения в политике? Каким
образом можно ввести глобализацию в рамки «цивилизации» и демократии?
Как вскоре станет ясно, перечисленные вопросы составляют суть множества споров и
противоречий, возникающих в ходе дискуссий о глобализации и ее последствиях. Ниже речь
пойдет о разных подходах к решению этих вопросов.
ДИСКУССИИ О ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Для начала глобализацию можно представить как процесс расширения, углубления и
ускорения мирового сотрудничества, затрагивающий все аспекты современной социальной
жизни — от культурной до криминальной, от финансовой до духовной. То, что компьютерные
программисты в Индии обслуживают в кратчайшие сроки и в реальном масштабе времени
своих нанимателей в Европе и США или что маковые плантации в Бирме могут быть связаны
с употреблением наркотиков в Берлине или Белфасте, все это примеры того, как благодаря
современной глобализации сообщества, находящиеся в одном конце мира, подключаются к
достижениям или событиям, происходящим на другом континенте. Однако признание данного
факта не исключает различных точек зрения относительно того, каково наиболее адекватное
концептуальное выражение глобализации, как охарактеризовать ее причинно-следственную
динамику и ее структурные последствия, если они есть. Обсуждение этих вопросов получило
широкий резонанс, и на сегодня можно выделить три школы, представителей которых мы
назвали гиперглобалистами, скептиками и трансформистами. Каждая из этих школ, пытаясь
понять и объяснить глобализацию, дает собственную оценку этому социальному феномену.
Для гиперглобалистов, например, таких, как К. Омаэ, современная глобализация означает
новую эру, отличительная черта которой состоит в том, что люди повсюду во все большей
степени попадают в зависимость от порядков, царящих на мировом рынке (Ohmae, 1990;
1995). Скептики — например, П. Херст и Дж. Томпсон — напротив, доказывают, что
глобализация — это на самом деле миф, за которым скрывается тот факт, что в рамках
мирового хозяйства все более и более выделяются три основных региональных блока, где
национальные правительства остаются очень сильными (Hirst and Thompson, 19963; 199бЬ).
Наконец, для трансформистов, главными фигурами среди которых являются Дж. Розенау и Э.
Гид-денс, современная глобализация представляется исторически беспрецедентной. С их

точки зрения, государства и общества во всех уголках земного шара испытывают глубокие
изменения по мере того, как пытаются адаптироваться к более связанному изнутри, но весьма
изменчивому миру (Giddens, 1990.1996; Rosenau, 1997).
Примечательно, что ни одна из этих трех школ не смыкается ни с одной традиционной
идеологией и ни с одним традиционным воззрением. Так, внутри лаге-
3
ря гиперглобалистов наряду с марксистскими можно обнаружить ортодоксально неолиберальные
взгляды на глобализацию, а концепции скептиков включают в себя как консервативные, так и
радикальные мнения о природе современной глобализации. Более того, в рамках каждой великой
традиции социальных исследований — либеральной, консервативной и марксистской — нет
единых представлений о глобализации как социально-экономическом феномене. Марксисты, объ-
ясняя глобализацию, обращаются к совершенно несовместимым понятиям, таким как, например,
расширение монополии капиталистического империализма или, наоборот, радикально новая
форма глобализированного капитализма (Callinicos et al., 1994; Gill, 1995; Amin, 1997).
Аналогичным образом, вопреки своим явно ортодоксальным неолиберальным исходным
позициям, Омаэ и Редвуд приходят к совершенно разным заключениям о динамике современной
глобализации и чуть ли не противоположным ее оценкам (Ohmae, 1995; Redwood, 1993)-
Гиперглобалисты, скептики и трансформисты демонстрируют широкое разнообразие интеллек-
туальных подходов и нормативных оценок. И все же, несмотря на такое разнообразие, любая из
этих перспектив отражает общую систему аргументов и заключений о глобализации с учетом ее
• концептуального оформления;
• причинной динамики;
• социально-экономических последствий;
• выводов, касающихся власти и управления;
• исторического пути развития.
Полезно подробнее рассмотреть наиболее типичные аргументы, выдвигаемые сторонниками
разных подходов, поскольку это прольет свет на фундаментальные положения, находящиеся в
центре споров о глобализации
1
.
АРГУМЕНТЫ ГИПЕРГЛОБАЛИСТОВ
Для гиперглобалистов глобализация означает начало новой эпохи человеческой истории, когда
«традиционные национальные государства становятся неестественными и даже невозможными
коммерческими единицами мировой экономики» (Ohmae, 1995. Р- 5; ср.: Wriston, 1992; Guehenno,
1995). Сторонники такого подхода используют преимущественно экономическую логику и, если
они стоят на позициях неолиберализма, приветствуют возникновение единого мирового рынка и
законов глобальной конкуренции как свидетельство человеческого прогресса. Гиперглобалисты
доказывают, что экономическая глобализация влечет за собой «денационализацию» экономики
путем установления транснациональных сетей производства, торговли и финансов. В этой
экономике «без границ» национальным правительствам отводится роль чуть ли не «приводных
ремней», обслу-
1. Подходы, рассматриваемые ниже, представляют собой общие краткие изложения различных точек зрения на
глобализацию: они не полностью характеризуют те или иные позиции и оставляют в стороне множество
различий, существующих между конкретными теоретиками. Цель изложения — подчеркнуть основные тенденции
и ошибочные направления в текущей полемике и литературе.
4
живающих мировой капитал, или, главным образом, всего лишь посреднических институтов,
обеспечивающих связь между все более крепнущими местными, региональными и
глобальными механизмами управления. Как пишет С. Стрейндж, «безликие силы мировых
рынков ныне более могущественны, чем государства, которым якобы принадлежит высшая
политическая власть... Уменьшение влияния государств находит отражение в том факте, что
власть все больше переходит к другим институтам и объединениям, к местным и
региональным органам» (Strange, 1996, р. 4; ср.: Reich, 1991). По мнению многих
гиперглобалистов, экономическая глобализация порождает новые формы социальной
организации, которые вытесняют и постепенно вытеснят национальные государства как
первичные экономические и политические образования мирового сообщества.
Внутри этой схемы существует значительное нормативное расхождение между
неолибералами, которые приветствуют победу автономии личности и законов рынка над
государственной властью, с одной стороны, и радикалами или неомарксистами, для которых

современная глобализация означает торжество деспотического глобального капитализма, — с
другой (ср.: Ohmae, 1995; Greider, 1997)- Но, несмотря идеологические разногласия,
приверженцы данного подхода единодушны во мнении, что глобализация — в первую
очередь, экономическое явление; что глобальная экономика все более интегрируется; что
требования глобального капитала обязывают все правительства соблюдать неолиберальную
экономическую дисциплину, так что политика является уже не «искусством возможного», а
лишь практическим навыком «рационального экономического управления».
Кроме того, гиперглобалисты утверждают, что экономическая глобализация создает новый
тип как победителей, так и терпящих поражение в глобальной экономике. Старое разделение
на Север и Юг все в большей степени становится анахронизмом, а новое, охватывающее весь
мир, разделение труда заменяет традиционную структуру «центр-периферия» на более
сложное устройство экономической власти. На этом фоне правительства должны, тем не
менее, «управлять» социальными последствиями глобализации или теми, кто, «оказавшись
позади, стремится не столько получить шанс двигаться вперед, сколько удержать других»
(Ohmae, 1995. Р- 64). Однако они обязаны учитывать и то, что в такой ситуации
демократические модели социальной защиты оказываются несостоятельными, а
государственная политика, направленная на достижение всеобщего благосостояния, сводится
на нет (J. Gray, 1998). Глобализацию связывают с растущей поляризацией между
победителями и побежденными в глобальной экономике. Но так не должно быть, поскольку,
как считают неолибералы, глобальное экономическое соперничество необязательно приводит
к нулевым результатам. Определенные группы внутри страны могут быть бесцеремонно
вытеснены в результате глобальной конкуренции, однако почти у всех стран есть
относительное преимущество в производстве тех или иных товаров, что впоследствии может
сыграть положительную роль. Неомарксисты и радикалы расценивают подобный опти-
мистический взгляд как необоснованный. Они убеждены, что глобальный капитализм создает
и усиливает структурное неравенство как внутри отдельной страны, так и между странами. Но
в конечном счете они разделяют вывод своих двойников-неолибералов, — согласно которому
традиционные методы социальной защиты становятся все более устаревшими и трудно
выполнимыми.
Среди элит и «работников умственного труда» новой глобальной экономи-
5
ки возникла негласная межнациональная «классовая» лояльность, скрепленная
идеологической привязанностью к неолиберальной экономической ортодоксии. У тех, кто в
настоящее время становится маргиналом, всемирное распространение идеологии потребителя
также вызывает новое ощущение идентичности, заменяющее традиционные культуры и стили
жизни. Глобальное распространение либеральной демократии еще больше укрепило
ощущение возникающей глобальной цивилизации с ее универсальными стандартами
экономической и политической организации. Этой «глобальной цивилизации» присущи
собственные механизмы управления мировой экономикой, будь то Международный
валютный фонд или законы мирового рынка, вследствие которых государства и народы во все
большей степени оказываются в подчинении у новых публичных и частных — глобальных
или региональных — властей (Gill, 1995; Ohmae, 1995; Strange, 1996; Сох, 1997).
Соответственно, многие неолибералы рассматривают глобализацию как предвестие первой
поистине глобальной цивилизации, тогда как для многих радикалов она представляет собой
первую глобальную «рыночную цивилизацию» (Perlmutter, 1991; Gill, 1995; Greider, 1997).
Таким образом, возникновение глобальной экономики, зарождение всемирных институтов
управления и повсеместное слияние культур гиперглобалисты интерпретируют как
неоспоримое доказательство появления абсолютно нового мирового порядка,
предвосхищающего конец национального государства (Luard, 1990; Ohmae, 1995; Albrow,
1996). Поскольку национальная экономика все в большей степени становится лишь
ответвлением межнациональных и глобальных потоков, противостоящих национальной
социально-экономической деятельности, полномочия и легитимность национального
государства ставятся под вопрос: национальные правительства все менее способны
контролировать то, что происходит внутри их собственных границ, или самостоятельно
удовлетворять требования своих граждан. По мере того, как институты глобального и

местного управления претендуют на все большую роль, суверенитет и автономия государства
все заметнее разрушаются. С другой стороны, условия, способствующие межнациональной
кооперации народов, расширению глобальных инфраструктур коммуникации и более
глубокому осознанию многочисленных общих интересов, никогда не были столь
благоприятны. В связи с этим очевидно возникновение «глобального гражданского
общества».
Экономическая и политическая власть, с точки зрения гиперглобалистов, удачно
денационализируются, и национальные государства, чего бы ни требовали интересы
внутренней политики, все больше становятся «разновидностью переходной организации для
управления экономическими процессами» (Ohmae, 1995> p. 149). На какую бы систему
взглядов — либеральную, радикальную или социалистическую — ни опирались аргументы
гиперглобалистов, все они рисуют глобализацию как нечто такое, что означает
фундаментальную перестройку «структуры человеческого действия» (Albrow, 1996, р. 85).
АРГУМЕНТЫ СКЕПТИКОВ
Сравнивая статистические данные, которые начиная с XIX в. характеризуют мировые потоки
товаров, инвестиций и рабочей силы, скептики приходят к выводу, что современный уровень
экономической взаимозависимости не является бес-
6
прецедентным в истории. Для скептиков глобализация означает интегрированную мировую
экономику, в которой преобладает «закон единой цены», а история в лучшем случае подтверждает
лишь углубление ее интернационализации, т. е. усиление взаимодействий между национальными
по преимуществу экономиками (Hirst and Thompson, 19960). Доказывая, что глобализация — это
миф, скептики опираются на исключительно экономическое представление о глобализации,
согласно которому она приравнивается в первую очередь к совершенно интегрированному
мировому рынку. По их мнению, достигнутый ныне уровень экономической интеграции ниже
этого «идеального типа» и менее значителен по сравнению с тем, что был в конце XIX в. (в эпоху
классического золотого стандарта). Отсюда скептики вправе сделать вывод, что степень
современной «глобализации» в целом преувеличена (Hirst, 1997)- По этой причине они считают
систему аргументов гиперглобалистов в корне несостоятельной и политически наивной,
поскольку она недооценивает способность национальных правительств регулировать
международную экономическую деятельность. Вне контроля со стороны национальных
правительств, обеспечивающих экономическую либерализацию, эта деятельность была бы менее
активной.
Большинство скептиков считает, что если текущие события о чем-то и свидетельствуют, так
только о том, что экономическая активность подвергается значительной «регионализации» по
мере того, как мировая экономика все больше сосредоточивается в рамках трех основных
финансовых и торговых блоков, таких как Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная
Америка (Ruigrok and Tulder, 1995; Boyer and Drache, 1996; Hirst and Thompson, 19960). Поэтому
по сравнению с классической эпохой золотого стандарта сейчас мировая экономика гораздо менее
интегрирована (Boyer and Drache, 1996; Hirst and Thompson, 19963). Скептики воспринимают
глобализацию и регионализацию как две противоположные тенденции. Д. Гордон и Л. Вейсс
приходят к выводу, что по своему географическому охвату нынешняя международная экономика
значительно менее глобальна, чем во времена мировых империй (Gordon, 1988; Weiss, 1988).
Скептики, кроме того, не разделяют мнения о том, что интернационализация предвосхищает
возникновение нового мирового порядка, При котором государство будет играть более скромную
роль. Они далеки от того, чтобы считать национальные правительства скованными требованиями
международного права, и указывают на их растущую роль в регуляции и активном содействии
экономической активности, пересекающей границы отдельных государств. Правительства — не
пассивные жертвы интернационализации, а, напротив, ее главные архитекторы. Так, например, Р.
Гилпин рассматривает интернационализацию в значительной степени как побочный продукт
инициированного Соединенными Штатами многостороннего экономического порядка, который по
окончании Второй мировой войны породил импульс к либерализации национальных экономик
(Gilpin, 1987). А. Каллиникос и его соавторы, занимая совершенно иную позицию, объясняют
недавнюю интенсификацию мировой торговли и зарубежных капиталовложений как новую фазу
западного империализма, в которую глубоко вовлечены национальные правительства в качестве
институтов власти монополистического капитала (Callinicos et al, 1994)-
