Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев
Подождите немного. Документ загружается.

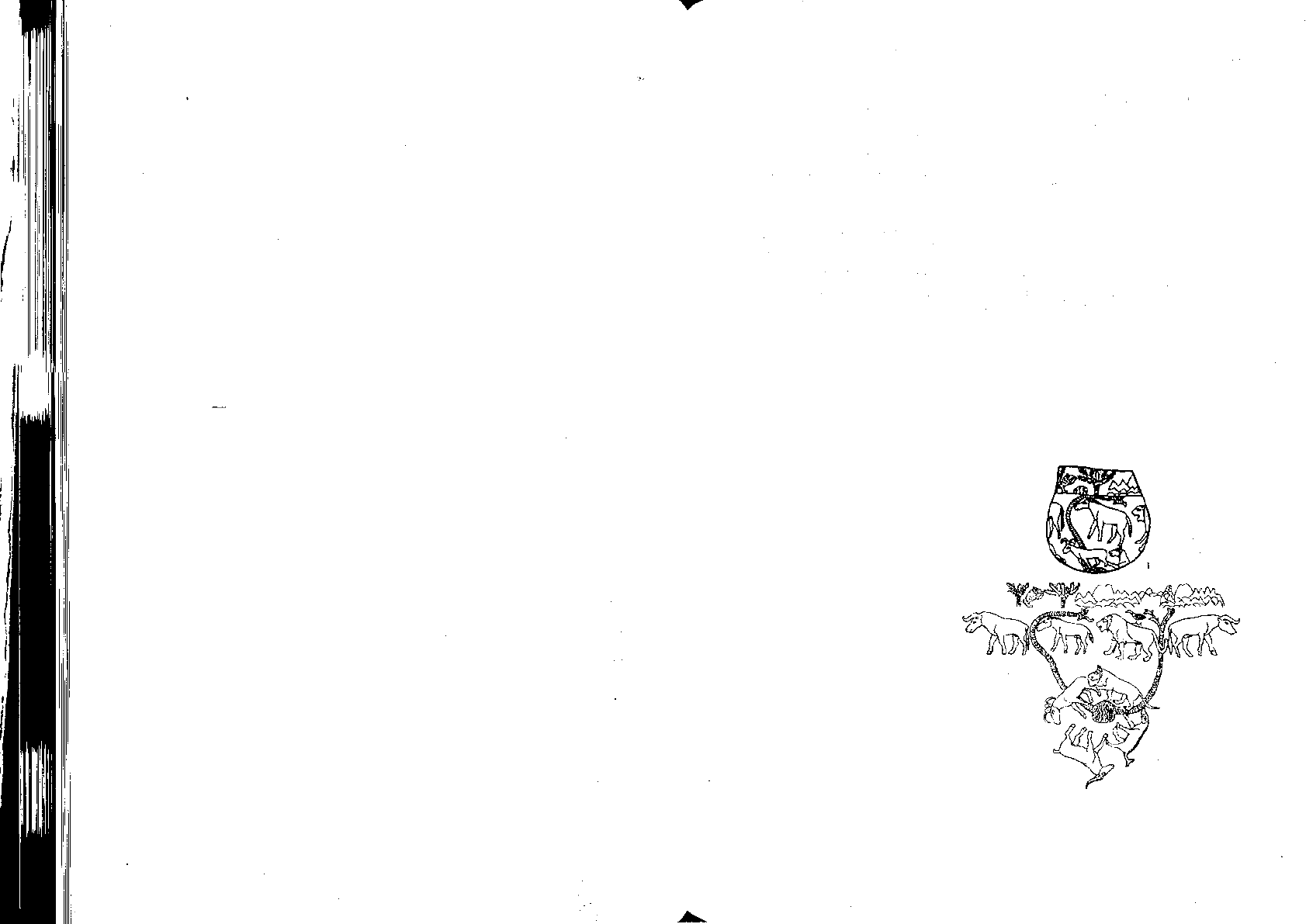
Да, это он пугает и заставляет недоумевать —
в его обличье есть что-то уродливое, жуткое.
Силы небесные! У всадника нет головы!
Эй, незнакомец!... Где это вы забыли свою голову?
Т. Майн-Рид. Всадник без головы.
1. Золото и красные кости. Экспедиция выехала из Ленинграда в Майкоп.
В прошлом Майкоп — заштатный городок царской России, затерянный в пред-
горьях Кавказа и мало кому известный. Ныне — центр Адыгеи. Но с конца'про-
шлого века археологи всего мира знают Майкопский курган. Он есть в энцикло-
педиях и учебниках. Раскопал его более ста лет назад петербургский профес-
сор Н. И. Веселовский, и сразу стало ясно, что открытие это выдающееся.
Курган превышал десять метров — це-
лая гора. Под ним — просторная яма, обши-
тая деревом и разгороженная на три части,
в каждой — по скорченному скелету. Одна
камера больше двух других. Скелет в ней
был буквально усыпан золо-
том. Чего тут только не было!
Сложная диадема с розетками,
россыпью колечки и множество
бляшек в виде львов и быков, два
золотых сосуда и четырнадцать
серебряных, некоторые с гра-
вированными изображениями;
золотые бычки с огромными ро-
гами и отверстиями в тулове для
насаживания на шесты; бусы —
бирюзовые, сердоликовые, золо-
тые. РОСКОШЬ царская (рис. 101, Рис. Ю1. Серебряный круглодонный кубок из
илл. 37, 38). Две другие камеры Майкопского кургана: прорисовка и развертка
/ п пг j г изображения (В. M. Массон и др. в «Очерках истории
победнее.
СССР»,
1956, с.
73-75)
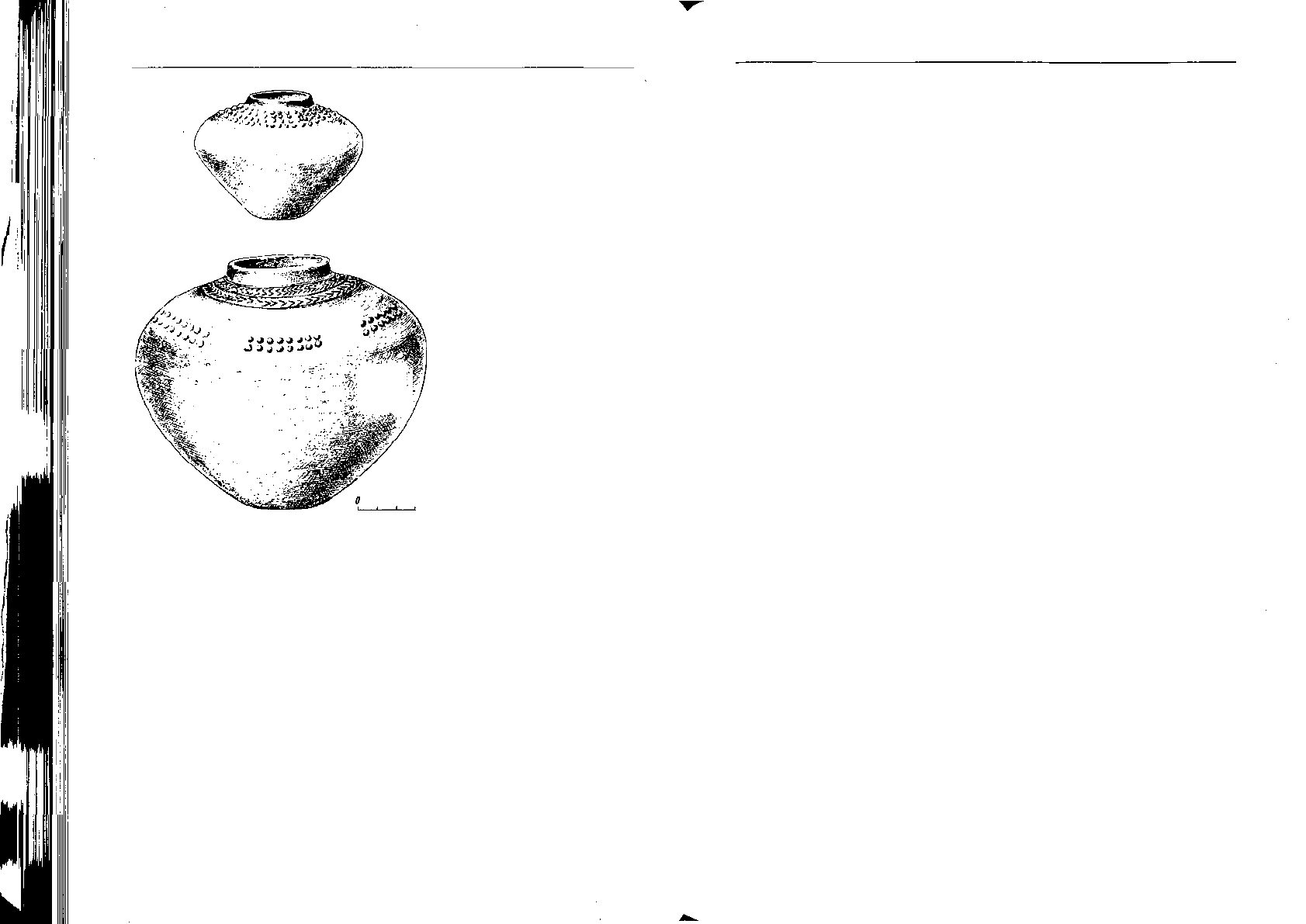
303
152 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Веселовский был архео-
логом старого закала — ис-
кал сокровища для музеев.
У него выработался опыт:
золото водится в царских мо-
гилах скифов, а скорченные
скелеты, окрашенные зачем-
то еще в древности охрой, —
более древние, бронзового
века, и золота при них не бы-
вает. Наткнувшись на крас-
ные кости, он сворачивал
раскопки и бесхитростно
отмечал в полевом журна-
ле: «Встречены окрашенные
кости, поэтому раскопки пре-
кращены». А тут — скелеты,
окрашенные красной охрой,
а золота — горы! Было от
чего прийти в изумление.
Зсм
Вместе с золотом и серебром
в кургане и бронзовые сосу-
ды, и топоры, и долота, и даже
каменные орудия — шлифо-
ванный топор, кремневые на-
конечники стрел. Такого у скифов не водилось. Зато железных вещей, для
скифов обычных, здесь не было ни одной. Веселовский понял, что открыл
царское захоронение более древнего времени.
В следующем году он раскапывал курган близ станицы Царской (ныне —
Новосвободная), тоже под Майкопом. Курган впечатляющий, почти такой же
высокий. А под ним — величественная каменная гробница, сооруженная из
огромных плит, с каменной перегородкой и отверстием в ней. В гробнице —
скорченный скелет, при нем — опять сокровища: золотые серьги и кольца,
золотые и серебряные булавки, бусы из хрусталя и сердолика, медные копья,
топоры, кинжалы и опять кремневые наконечники стрел (рис. 102). В то же
лето неподалеку был раскопан еще один курган с такой же гробницей.
Так вошла в науку майкопская культура. С течением времени к ней при-
бавлялись все новые памятники, хоть и не столь богатые. Постепенно обозна-
. чилась ее территория — в основном долина Кубани, Северо-Западный Кавказ.
Рис. 102. Сосуды из гробницы станицы Царской
(Новосвободной), по А. А. Формозову, 1965
I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321
321
В 1914 г. на лондонском Международном конгрессе археологов докла-
ды Б. В. Фармаковского и М. И. Ростовцева с анализом майкопских находок
вызвали сенсацию, и не только потому, что сами находки были чрезвычайно
эффектны. Археологов мира поразила широта кругозора и высокий уровень
исследований русских ученых. Фармаковский сравнивал фигурки бычков из
Майкопа с искусством хеттов, Ростовцев — с египетским. Очень многое тяну-
ло в Азию, но ведь подобные каменные гробницы характерны для Западной
Европы. Загадочная смесь.
2. Раздвоение. Крепость над ручьем Мешоко. Сокровища, найденные
в «Больших Кубанских курганах» (таково было первоначальное их наимено-
вание), — драгоценности царского обихода, уникальны. Точно таких нет ни-
где. Это очень затрудняло датировку. Где искать аналогии? В каком време-
ни? Одни считали, что Майкоп — это непосредственно предскифское время,
рубеж II—I тыс. до н. э. Другие — что это бронзовый век, то есть начало II
или конец III тыс. А виднейший авторитет, Ростовцев, обосновавшийся после
революции в Америке и ставший мировой величиной, заговорил о связи с до-
фараоновским Египтом — значит, о IV тыс. до н. э. Поверить в столь раннюю
дату было трудно.
Только в 1950 г. ленинградский археолог А. А. Иессен, скрупулезный
и основательный ученый, надежно установил, что Майкопский курган древ-
нее новосвободненских, а те — древнее II тыс.
В конце 1950-х гг. на реке Белой, у ручья Мешоко, начал раскопки по-
селения другой ленинградец, А. Д. Столяр. Там была обнаружена крепость май-
копской культуры — с культурным слоем, насыщенным обломками керамики,
земледельческими орудиями и костями животных (16 тысяч обломков костей).
Диких животных там было мало — всего 4% всех обломков, а если считать по
минимальному количеству особей, то 13%, остальные — домашние. В стаде пре-
обладала свинья — 52% особей, затем шел крупный рогатый скот — 28%, а мел-
кого рогатого скота — 17%. Конечно, по убойному весу и 28%, представленные
крупным рогатым скотом (не менее 119 коров), больше, важнее, чем 52%, пред-
ставленных свиньями (217 голов). Но всё же поголовье свиней внушительное.
Оно говорит о стойкой оседлости. Костей лошади не обнаружено вовсе.
Материалы этого поселения рисуют жизнь не царей, а простых «майкоп-
Цев», а значит, более основательно вписываются в общую картину развития
Северо-Западного Кавказа. Культурный слой мощный —• до 2 м. Представлены
оба этапа — ранний (эпохи Майкопского кургана) и поздний (эпохи Новосво-
бодной). В многолетних раскопах участвовал друг А. Д. Столяра — московский
археолог А. А. Формозов. Он проследил постепенное изменение культурного
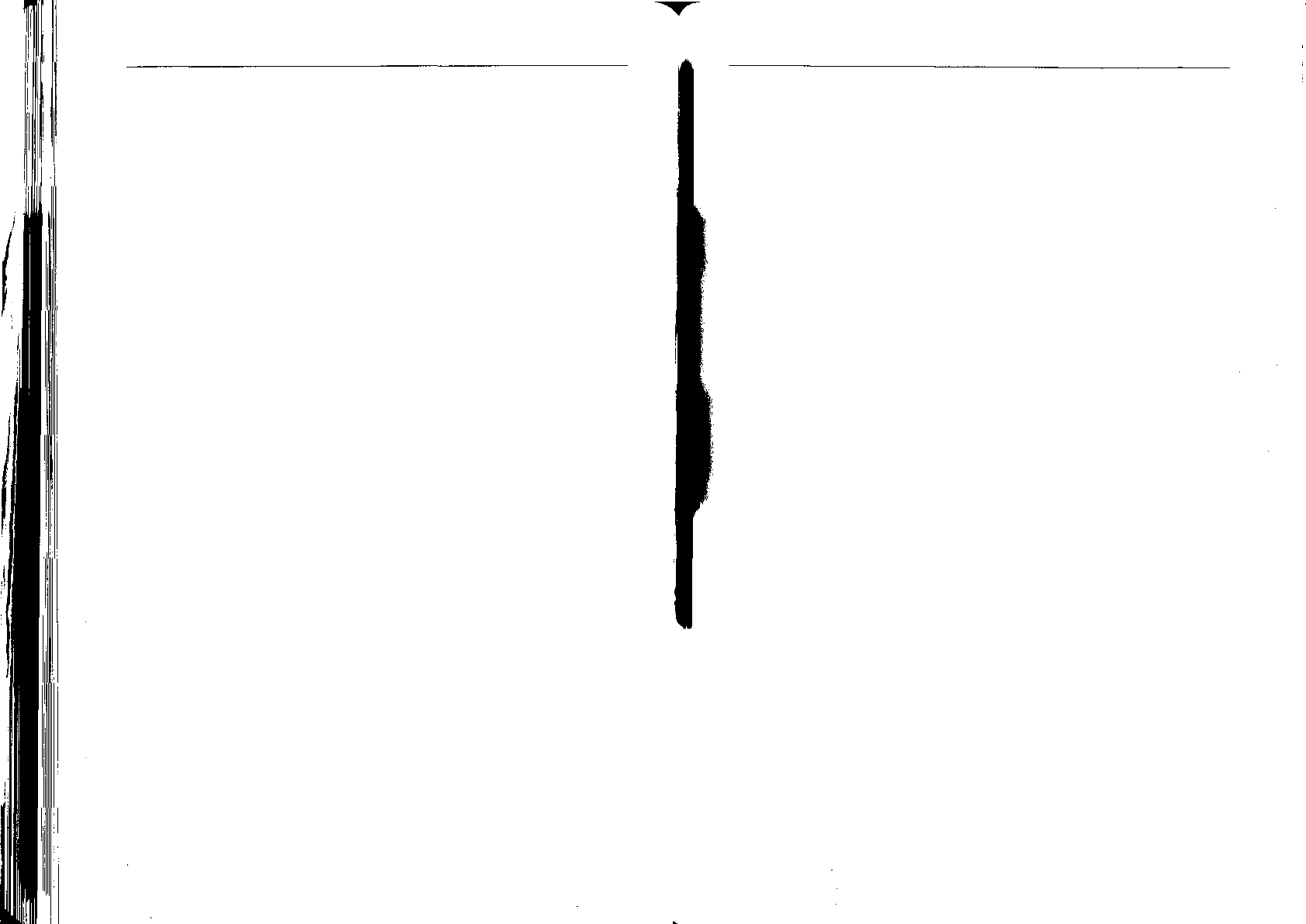
304
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
слоя, сравнил с другими памятниками Кавказа и, выпустив книгу, описал в ней
эволюцию майкопской культуры. Сам Столяр пришел к другому выводу: Май-
коп и Новосвободная представляют не два этапа одной культуры, а две раз-
ные культуры. В изменении культурного слоя есть перелом, новые типы вещей
не вырастают из предшествующих.
Это было важное наблюдение, но радикальность вывода, разрушавше-
го единство майкопской культуры, смягчалась тем, что Столяр обе культуры
считал местными, кавказскими. В каждой он находил наследие предшеству-
ющих культур этой местности. В соответствии с господствующими пред-
ставлениями, Столяр не верил в дальние переселения, искал местные корни
обеих культур. А местные корни всегда найдутся: в любом случае местное
население что-то передавало последующим поколениям, хотя бы и при-
шлым. Ведь пришельцы редко полностью изгоняли или уничтожали абори-
генов. Сложнее определить принесенное издалека и установить — откуда.
3.Каски идут на север. Когда речь заходила о майкопской культуре,
долго никто не отваживался поднять вопрос о ее приходе издалека, хотя
о том, что истоки ее не местные, писали многие. Одни исследователи назы-
вали это «заимствованием» — писали о топорах и драгоценной посуде из
Месопотамии, орудиях из Трои. Предполагалась либо торговля, либо культур-
ное влияние. Другие говорили о южном происхождении керамики и большей
части инвентаря, указывая на шумерский источник. Но слово «миграция» не
употреблялось. Оно было как бы табуировано.
Только в Абхазии местный исследователь, старик Л. И. Соловьев, в 1958 г.
высказал «сумасшедшую» идею о переселении кашков, или касков, — знамени-
тых соседей и врагов хеттов — с северного побережья Малой Азии на Кавказ и в
Причерноморье. Клинопись,созданная на востоке, передавала буквой ш звуке,
но хетты произносили это название «каски» — у них в языке не было звука «ш»
(как у греков). Как произносили это слово сами кашки-каски, мы не знаем.
Каски раз за разом совершали походы на юг против хеттов, даже взяли
хеттскую столицу. Почему не предположить, что они могли двинуться и на се-
вер? Соловьев приводил совершенно фантастические привязки к археологи-
ческим культурам, но одно сопоставление было очень заманчивым: черкесов
(адыге), по сути, тоже звали кашками или касками — в русской летописи они
косоги, у грузин — кашак, у армян — гашк. «Сирена созвучия»? Она-то, ве-
роятно, и поманила Соловьева, но трудно было отделаться от ощущения, что
в этом что-то есть. Теперь мы знаем, что по языку действительно абхазы и чер-
кесы как-то связаны с малоазийским населением энеолита. Но имеют ли они
отношение к майкопской культуре?
I/III. Майкоп: Азия, Европа?
321
Через двадцать лет после Соловьева молодая московская исследователь-
ница М. В. Андреева опубликовала две статьи, в которых решала проблему
происхождения майкопской культуры с юга, из-за Кавказского хребта, из
культуры Гавра второй половины IV тыс. до н. э., распространенной в Верхнем
Двуречье и на восточном побережье Средиземного моря. Искусство ее раз-
вивалось под влиянием египетского. Выходило, Ростовцев прав и в том, что
Майкоп относится к очень раннему времени, и в том, что его искусство связано
с Египтом.
Выводы Андреевой вызвали резкую отповедь со стороны В. А. Сафронова
и Н. Н. Николаевой. Это супруги, которые всегда сообща работали над пробле-
мами археологии, и мнения их никогда не расходились, но всегда шли вразрез
с общепринятыми. Оба были очень наблюдательны и оба тяготели к короткой
хронологии, омолаживавшей древности. Они усмотрели в работах Андреевой
целый ряд слабых звеньев, в частности узость базы аналогий. В противопо-
ложность Андреевой, Сафронов нашел в Двуречье поселение (Тель-Хуэра) на
тысячу лет более позднее, чем Гавра, и показал, что керамика и прочий ин-
вентарь этого памятника очень полно совпадают с компонентами майкопской
культуры. Сложными рассуждениями Сафронов пришел к выводу, что в этом
поселении жили амореи (западные семиты), а отсюда заключил, что и майкоп-
ская культура принадлежала им же.
Однако никаких следов амореев в названиях и языках Прикубанья нет.
Несмотря на всю фундаментальность сопоставлений Сафронова и Николае-
вой, специалисты склонились на сторону Андреевой. Да, Тель-Хуэра во многом
совпадает с майкопской культурой, но это всего один памятник — частный слу-
чай, возможно, какая-то местная задержка культуры, для этого времени уже
архаичной, а то и просто ошибка в определениях, так сказать, сбой. Сафронов
и Николаева перебрали один за другим все мотивы майкопского искусства —
львы, леопарды, медведи, быки — и всем подобрали поздние восточные ана-
логии, но все эти таблицы, как говорится, не работают: стилистические детали
не очень совпадают. А у Андреевой (вслед за Ростовцевым) совпадения имен-
но в деталях стиля. Так, например, в майкопских профильных изображениях
львиная грива показана специфически, треугольным клином, — ив раннем
Египте грива изображалась сплошным воротником, который сбоку выглядел
как треугольный клин.
Решающий вклад для осмысления проблемы внесли языковеды. К концу
XX в. их исследованиями (см. статью А. Милитарева «Услышать прошлое». —
«Знание — сила», 1985 год, №№ 7 и 8) обнаружено, что языки Северного Кав-
каза составляли, возможно, одну семью и что, во всяком случае, они пришли
на Северный Кавказ с юга, из очага древневосточных цивилизаций. Единство
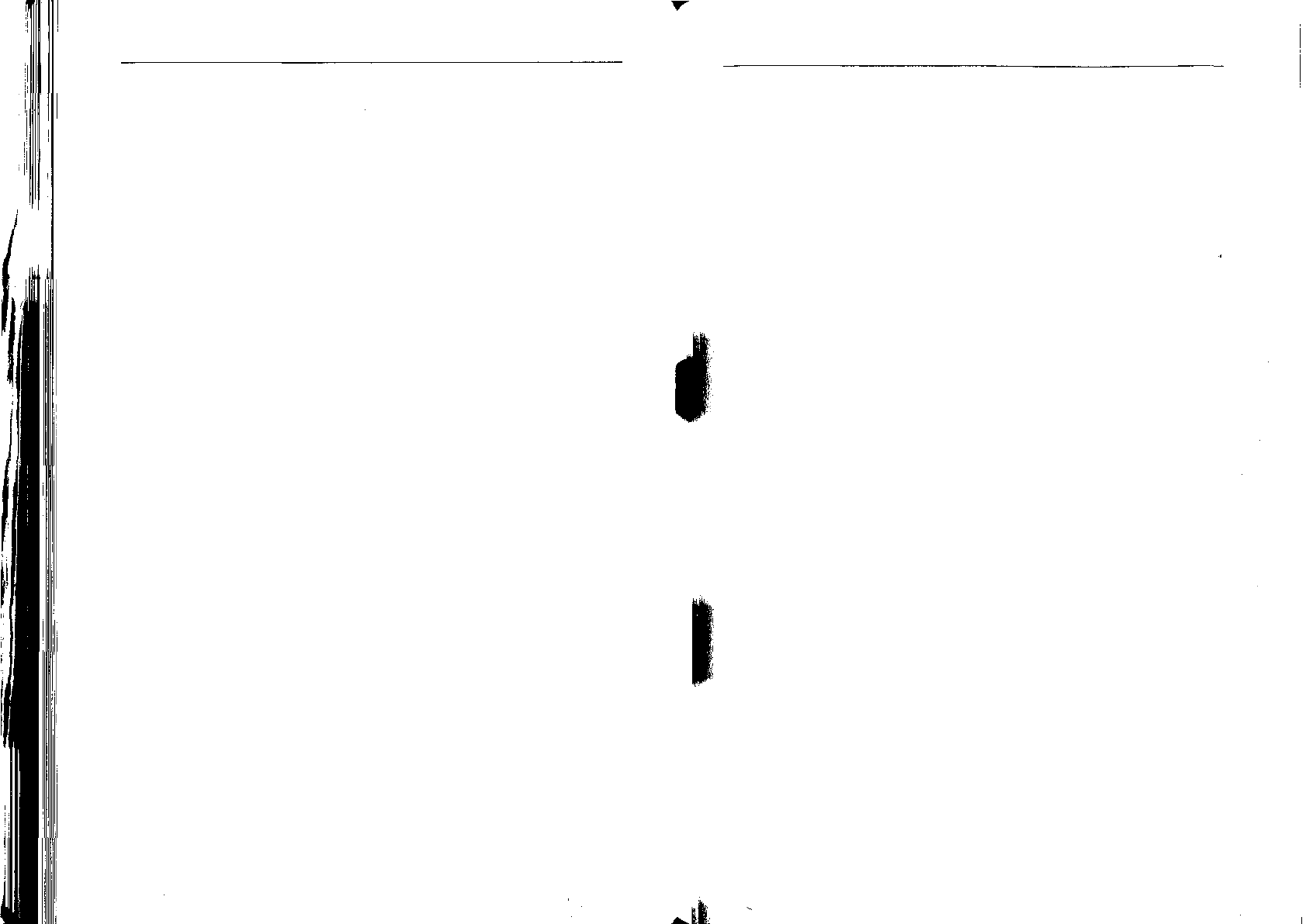
307
154 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
этой семьи относится по глоттохронологии минимум к VI тыс. до н. э., распад на
восточные и западные — к рубежу VI-V тыс., а в праязыке реконструируются
названия домашнего скота, культурных растений и металлов (такого уровня на
Северном Кавказе, как показывает археология, тогда еще не было). К потомкам
западнокавказского праязыка относятся не только адыгейский и абхазский, но
и хаттский — язык предшественников хеттов в Малой Азии. А родичами хат-
тов на севере страны были кашки-каски. Вот оно, совпадение имен! Не случай-
но, значит, адыге-черкесы носят то же имя: косоги, кашак, гашк. Это древнее
племенное название малоазийско-западно-кавказского населения.
Каски, во II тыс. отлично владевшие кузнечным мастерством и господ-
ствовавшие над источниками металла — рудными залежами, никогда не
подчинялись Хеттской империи, вечно тревожили ее набегами и, наконец, как
полагал Курт Биттель, сломили ее мощь. Мы уже видели, что больше осно-
ваний числить это свершение за фригийцами, но и каски, вероятно, в этом
поучаствовали.
Ассирийские надписи донесли до нас и другое название касков — апеш-
ла. Позже античные авторы рассказывали об апсилах. Снова совпадение: это
другой западнокавказский народ — абхазы. Армяне до сих пор называют их
апшилами, самоназвание абхазов — апшуа. Значит, древние каски и апешла —
ближайшие родственники современных абхазов и адыге-черкесов, а предки
их всех — на юге, там, где культура Гавра. Ее бросок на север и появление
майкопской культуры — единственная возможность объяснить появление за-
паднокавказских языков на Кавказе: позже археологии не сыскать обширной
миграции из очага древневосточных цивилизаций на запад и северо-запад
Кавказа, на Кубань. Один из царей этих пришельцев с юга и лежал в Майкоп-
ском кургане.
4. Дырка для души и безголовые боги. Признаки южного происхо-
ждения не распространяются на древности Новосвободной. В ее каменных
гробницах самое интересное — их сходство с дольменами, огромными ящи-
ками, сложенными из каменных плит. В III-II тыс. до н. э. дольмены соору-
жались в Западной и Северной Европе, а также на Кавказе (илл. 40). Назва-
ние возникло во французской провинции Бретань. «Дольмен» по-бретонски
(это кельтский язык) означает «каменный стол» — население воспринимало
дольмены как столы великанов. На Кавказе о дольменах бытовали легенды,
что это дома карликов, построенные для них великанами. Археологи зна-
ют, что это могилы неолита и бронзового века. Культуры с подобными мо-
гилами именуются мегалитическими: от греческого «мега(с)» — «большой»
и «лит(ос)» — «камень».
I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321
321
И в дольменах, и в дольменообразных подкурганных гробницах в одной
из плит пробито круглое отверстие. Конечно, не для карликов. Как полагают
одни ученые — для подношений покойному, другие — для души покойного,
чтобы она в положенное время покинула тело и отправилась в мир предков.
Только вот в дольменах Западной и Северной Европы отверстие в наружной
стенке ведет из дольмена во дворик перед ним, а в гробницах Новосвободной
оно в перегородке, ведет из одной камеры в другую. Впрочем, отверстие мог-
ли делать по традиции, когда структура могилы изменилась — она ушла под
землю. Но это лишь догадка.
Многие связывали гробницы Новосвободной с ближайшими дольмена-
ми — западнокавказскими. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Куль-
тура там совершенно иная, да и устройство дольменов заметно отличается.
Появилось искушение связать новосвободненские гробницы непосредствен-
но с мегалитическими культурами Запада. Однако страсть рисовать дальние
миграции связывалась в представлении советских археологов с неблаговид-
ными идеями культуртрегерства. Да и на Западе «мода» на миграции тоже
прошла. Между тем, исторические миграции известны, а о более древних мож-
но догадываться хотя бы по распространению родственных языков — ведь
как-то же индоевропейцы оказались и в Англии, и в Индии...
На кафедре археологии Ленинградского университета я издавна спорил
со Столяром: он отстаивал местное происхождение новосвободненской куль-
туры, я — западное. Заключали даже пари. Но споры наши носили келейный
характер.
Из современных археологов первыми в научной печати о западном
происхождении новосвободненской культуры заговорили наши бывшие сту-
денты — те же В. А. Сафронов и Н. Н. Николаева, которые видели в майкоп-
ской культуре амореев. Но тут речь шла о новосвободненской культуре.
Надо учесть, что выводы археологов определяются не только материа-
лом, но и методическими установками, подходом. А те, в свою очередь, обу-
словлены воспитанием, традицией, к которой археолог принадлежит, его на-
учной школой. Конечно, в формировании школ огромную роль играет инди-
видуальность крупных ученых, но сказывается и среда, проще говоря, тот или
иной город, научный центр. И до революции археологи Москвы отличались от
петербургских чем-то общим. В Москве задавало тон Археологическое обще-
ство, чувствительное к буржуазно-демократическим веяниям. Отсюда инте-
рес москвичей к массовому материалу, к выделению культур, к историческим
обобщениям. В Петербурге господствовала Императорская археологическая
комиссия с аристократическим интересом к сокровищам (главным образом
как к художественным ценностям, пополнявшим царские музеи). Отсюда вкус
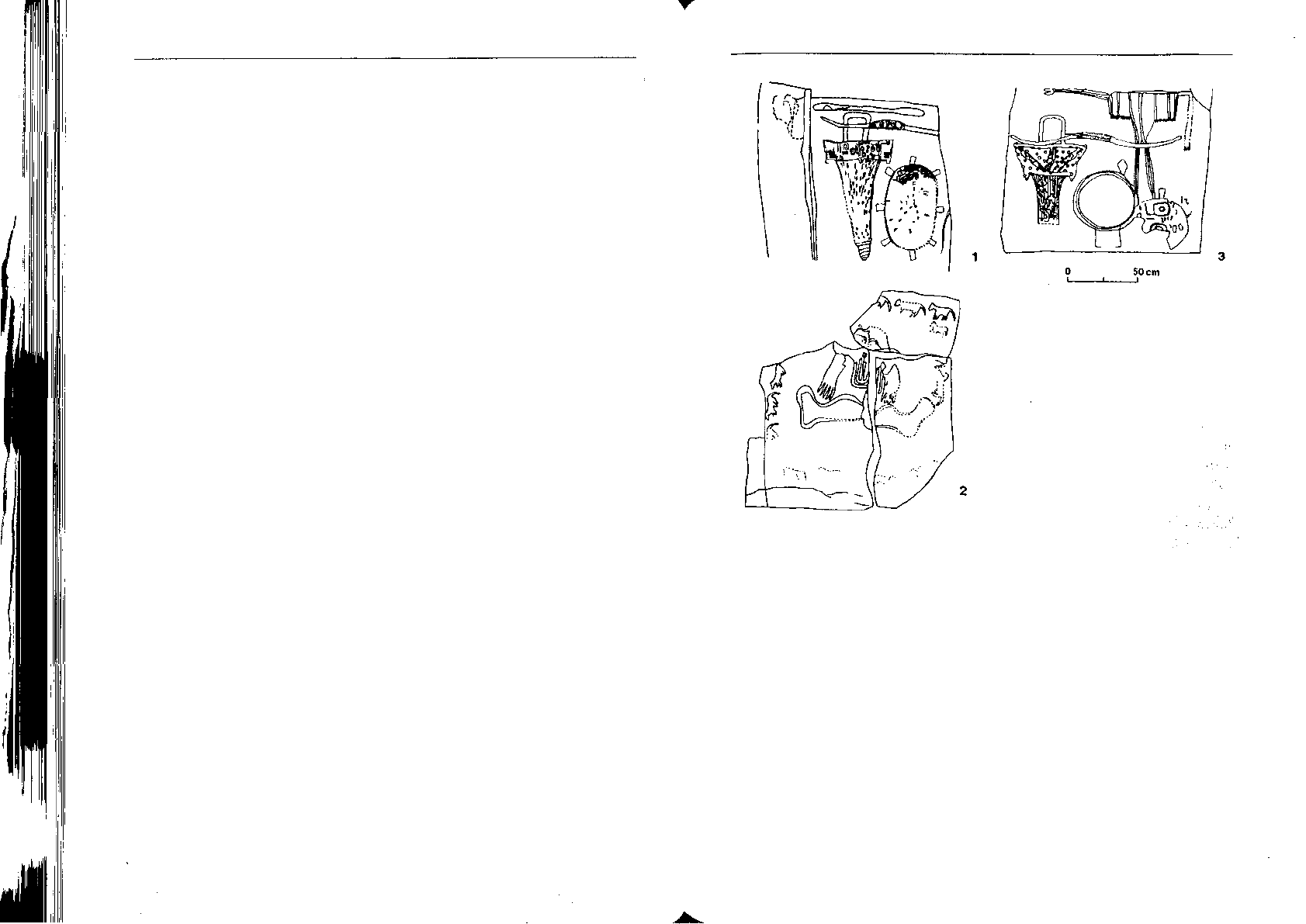
309
155 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321
321
к стилистическим сопоставлениям. В Москве большой вес имели любители,
петербургские профессора больше ценили профессионализм и становление
археологии как науки.
В наше время различие в другом, да и центров больше. Интересы киев-
ских археологов обычно более локальны, и киевляне стремятся всё вывести
из местных культур Украины. Москвичи, как и подобает столичным ученым,
больше склонны к обобщениям. Они предпочитают рисовать крупными маз-
ками, объединяя мелкие культуры в крупные блоки, и на этой основе тоже
отдают предпочтение, скорее, местным корням: такие блоки существуют дли-
тельно и связаны со спецификой географических регионов, а чтобы заметить
и оценить миграции, надо изменить масштаб. Археологи-питерцы, храня тра-
диции профессионализма, отстаивают важность разработки археологиче-
ской методики. Учась или работая в Эрмитаже, они привыкают пользоваться
«окном в Европу». Они всегда готовы сопоставлять раскопанные материалы
с европейскими, учитывать возможности миграций. Так уж заведено. В уста-
новках каждой школы свои преимущества и свои опасности. Сотрудничество
и дискуссия школ помогает продвигаться к истине.
Супруги Сафронов и Николаева работают в Москве, но они переехали
туда из Ленинграда (работали в моем семинаре) и сохранили если не ленин-
градский научный стиль, то ленинградский дух. Впрочем, они и в Ленинграде
слыли чересчур смелыми в своих гипотезах. Именно они стали «выводить»
с запада и дольмены, и новосвободненскую культуру. Они связали эти культу-
ры как цельную волну нашествия, но не сумели никого вокруг убедить. Один
археолог даже поместил в своей статье сопоставительную таблицу новосво-
бодненской культуры и культур Центральной Европы, чтобы показать, что
между ними нет ничего общего. На его таблицах, конечно, нет.
Но вот в 1979 г. на Северном Кавказе начала работу археологическая экс-
педиция из Ленинграда. Состав ее был почти сплошь молодежный. Началь-
ник — Вадим Бочкарев, уже авторитетный специалист по медному и бронзо-
вому веку, в свое время одна из самых светлых голов в моем семинаре. В со-
ставе экспедиции несколько отрядов. В Новосвободной начал копать отряд
Алексея Резепкина, тоже из моего семинара. Поэтому я был в курсе всего, что
там делалось. Еще в студенческие годы Резепкин, родом из уральских казаков,
отличался упорством и особой основательностью. Придерживался девиза: нет
фактов — нет и оснований для идей. Вот у него и пошли факты, да еще какие!
Снова царские усыпальницы, снова гробницы из каменных плит, снова
отверстие «для души». Стены одной из гробниц оказались расписаны крас-
ной и черной красками, изображены лук и колчан со стрелами (рис. 103,
илл. 39, 41). Питомец ленинградской школы, Резепкин (илл. 42) изначально
Рис. 103. Роспись гробницы в Кладах, кург. 28, погр. 1
(по материалам А. Д. Резепкина — Rezepkin, 2000)
представлял себе, что Сафронов, хотя, вероятно, и ошибается в деталях, но
ближе к истине, чем его оппоненты, и нужно ждать аналогий европейских.
Они нашлись, как только он обратился к литературе: находки из Гёлицш, близ
Мерзебурга (Восточная Германия). Там тоже лук и колчан гравированы на вну-
тренней стенке каменной гробницы. Не просто лук и колчан, а точно такие же,
как в Новосвободной! Связь несомненная (рис. 104). Да и новосвободненская
керамика черного лощения очень напоминает так называемые воронковидные
кубки — керамику IV—III тыс. до н. э. севера Центральной Европы, связанную
там тоже с мегалитами. Правда, гробница в Германии более поздняя, отно-
сится ко второй половине III тыс., а новосвободненская — к первой. Однако
важна не конкретно данная гробница, а представленная ею культура, а она
существовала долго. И на Кавказе у мегалитической традиции нет местных
корней, а в Центральной и Западной Европе — очаг мегалитизма с давними,
уходящими в IV тыс. традициями. Значит, всё же оттуда — сюда.
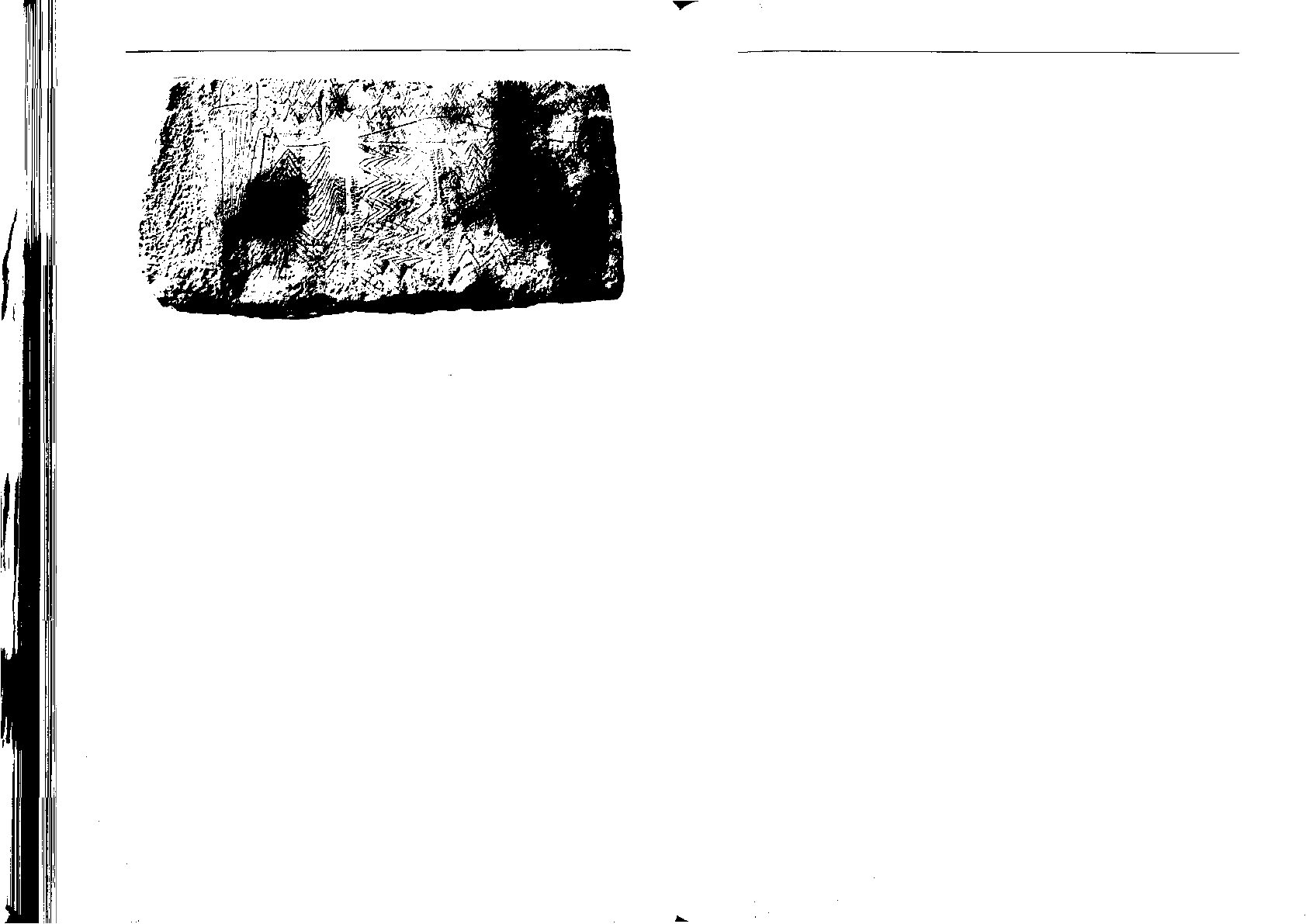
310
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Рис. 104. Гравировка гробницы в Лейне-Гёлицш (Германия, округ Мерзебург)
(по данным А. Д. Резепкина)
Лук и стрелы — только деталь росписи. Изображения на стенах гроб-
ницы образуют как бы панораму. В центре боковой стены помещена главная
фигура — некто огромный, по-хозяйски рассевшийся и широко раскинувший
ноги. На разведенных руках — по пять пальцев. Он без головы или с неболь-
шим выступом вместо головы. Вокруг него бегут кони, по сравнению с ним
маленькие. Судя по их облику (хвост с кисточкой), кони близки к куланам, то
есть они дикие. В древности было представление, что людям принадлежат до-
машние животные, а вот дикие — богу. Древнерусское слово «дивьи» (дикие)
и означало «божьи» (от «див», «дий» — древнего индоевропейского слова,
означавшего «бог»).
Бег вкруговую выражал пиетет, был знаком почитания. У древних индо-
ариев такой обход совершался посолонь, по ходу солнца, то есть правым пле-
чом к центру, и назывался «прадакшина» (от «дакшина» — десница, правая
рука). Но когда имели дело с миром мертвых, миром предков, где все наобо-
рот, обход совершался против движения солнца и назывался «прасавья» или
«апасавья» (древнерусское «ошую» — слева). Так же обстояло дело у кель-
тов, только названия другие. Дикие кони бегут вокруг сидящей фигуры против
движения солнца — совершают апасавью. Похоже, что в центре сидит боже-
ство, связанное с загробным миром.
Но почему в такой странной позе? Это хорошо известная древняя поза
роженицы. Так многие народы изображали великую богиню-мать, ведавшую
рождением и смертью, то есть переселением из одного мира в другой. «Ши-
роко рассевшаяся госпожа» — называли ее в Сибири. У индоевропейцев она
ассоциировалась с землей: все рождено землей, и все снова уходит в землю.
I/III. Майкоп: Азия, Европа?
321
Мать-Сыра Земля называлась она у славян. Индоарии почитали Мать-Землю
Притхиви. Итак, это Мать-Земля широко раскрывает покойному свои объятия
(между прочим, о том, что это женское божество, раньше других догадался
Феликс Балонов).
А при чем тут кони? Черные кони божества смерти известны грекам
и германцам. У индоариев цветом смерти и траура был красный, поэтому
здесь кони красные (кстати, с этим связан ритуал посыпания покойников
охрой). У греков Мать-Земля — это богиня Деметра («Да-метер» и означает
«Земля-Мать»),
Безголовое божество загробного мира известно у греков. В греческой
черной магии последних веков до новой эры безголовый демон, связанный со
смертью и плодородием, неопределенно именовался «Ужасный». Даже боги не
могли ни видеть его, ни знать его имя. «Тебя призываю, безголовый... — обра-
щался к нему автор одного колдовского папируса. — Тебе подвластно все, твой
истинный образ никто из богов не может увидеть». Смысл этого вот в чем: убий-
ство — тяжкий грех, но бог смерти, убивающий всех, свободен от этого греха,
он убивает неузнанным. Имя хозяина загробного мира у древних греков — Аид,
это означало «Невидимый»: он носил шапку-невидимку. В представлениях
древних невидимость была как-то связана с укрыванием головы. По Гомеру, ме-
няла свой облик и Деметра, то есть бывала неузнанной, как бы невидимой.
Минуточку, тут что-то не так. Кто же всё-таки правит в загробном мире —
Аид или Деметра? По греческим авторам, Аид. Но исследования открывают
другую картину в первобытном прошлом греков. Оказывается, Аид — позд-
нее явление. Исходный вариант этого слова в греческом языке грамматически
оформлен как абстрактное существительное собирательного значения (вроде
русских «чернуха», «всячина»), то есть слово обозначало просто загробный
мир, а потом было персонифицировано. Еще Нильсон заметил, что у Гомера
в загробном мире Аид царствует, но не управляет. Все действия там совершает
его супруга Персефона. Она-то и есть подлинная правительница царства мерт-
вых. А Персефона — дочь Деметры.
Но обеих — мать и дочь — в Греции иногда звали Деметрами, так что, похо-
же, Персефона (если говорить о происхождении образа) — не дочь, а двойник
Деметры. Если слово «Деметра» — греческое, то «Персефона» — нет, с гре-
ческих корней оно не раскрывается. И его даже усвоили-то греки в разных
местах по-разному: Персефона, Персифона, Ферсефасса. Видимо, лишь придя
в Грецию, греки познакомились с ней и сблизили ее со своей богиней Деме-
трой, кое-где отождествив их, а в основном сделав местную богиню дочерью
Деметры. Персефона заместила Деметру в некоторых ролях. Таким образом,
первоначально у греков в подземном царстве правила Деметра, богиня земли.
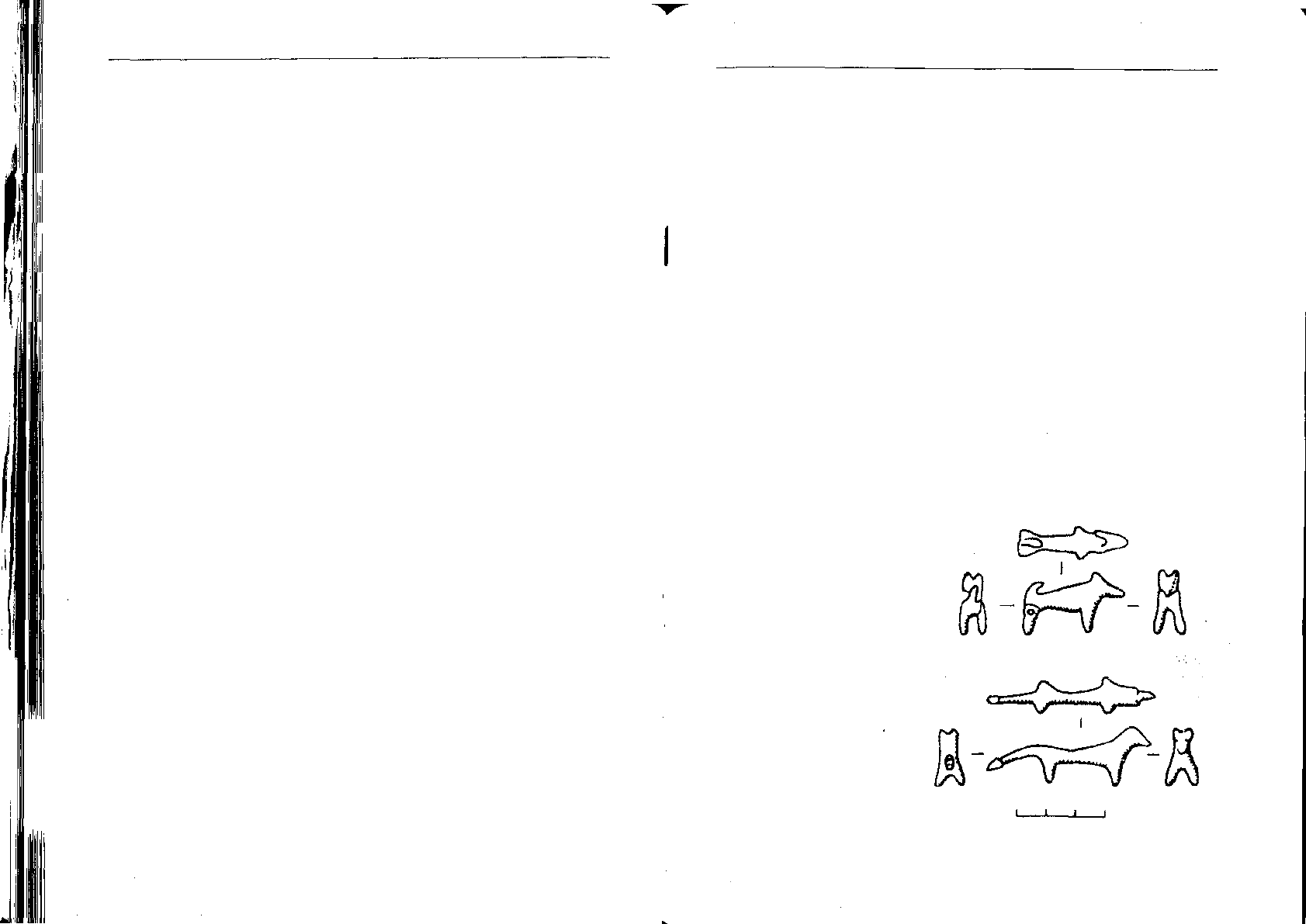
312
313 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Безголовые боги известны также у кельтов. Сосуды с изображениями
безголовых персонажей найдены в Малой Азии и в Иране. Особенно любопыт-
но, что по всему Балканскому полуострову археологи находят очень древних,
неолитических (IV тыс. до н. э.), глиняных идолов без голов. Идолы женские.
У них были головы, но приставные: сохранились отверстия на месте шеи, ино-
гда обнаруживаются и сами головы — отдельно. Видимо, в каких-то ситу-
ациях, при каких-то обрядах голову надо было прятать, а идол должен был
представать без головы или с другой головой. Хоть это идолы, по-видимому,
догреческие, но по некоторым подробностям культа установлено, что это изо-
бражения богини, которую греки, придя в Грецию, стали называть Деметрой
(или она сжилась с образом Деметры, а может быть, была ей родственна из-
начально). В архаичной Аркадии Деметру Черную изображали с конской го-
ловой и гривой. Деметра считалась повелительницей или матерью близнецов
Диоскуров («сыновей бога»). По всей Европе их почитали как всадников или
коньков (у славян такие выставлялись на крыше). В Индии у таких же близне-
цов Ашвинов («Конских»), имевших титул «дети бога», был учитель Дадхьянч.
По мифу он был в ссоре с Индрой, и, чтобы спасти этого учителя от гибели, его
голову спрятали, а ему на время приставили конскую голову. Не происходило
ли нечто подробное и с Деметрой?
Кроме этого, безголовость во многих культурах — признак загробных су-
ществ, духов смерти, душ покойников.
Но вернемся к росписи. На другой стене изображен схематически высо-
кий персонаж с руками и ногами, но без головы, а рядом с ним — лук и колчан
со стрелами. Руки широко раскинуты, они трехпалые, как лапы птицы, да еще
с оперением снизу — как крылья. Трехпалые люди изображались на триполь-
ской керамике на этапе BII-CI (это последние века IV тыс.), причем в контек-
сте, позволяющем видеть в них души людей.
По-видимому, и здесь это — душа умершего, продвигающаяся по направ-
лению от входного отверстия («дырки для души») к богине-матери. Вот зачем
отверстие! Это для покойного символ входа в загробный мир. Возможно, изо-
бражен конкретный покойник, захороненный здесь: изображение безголо-
вое, а у скелета, захороненного в этой могиле, рана на черепе, то есть голова
испорчена — «убита». Немцы до недавнего времени всех умерших насиль-
ственной смертью представляли безголовыми.
Но не менее вероятно, что изображен не сам убитый, а его прототип
(образец и проводник для него и всех умерших) — первочеловек, умерший
первым и проложивший пути в загробный мир. Именно таким выступает в ин-
доарийских мифах царь мертвых Яма, в иранских — Йима, у германцев (но
уже очень смутно) — великан Йимир. Лук и колчан у многих древних народов
I/III. Майкоп: Азия, Европа?
321
(от египтян и ассирийцев до иранцев) символизировали царское достоинство,
а знатных подданных, полководцев царя, хоронили со стрелами в руке (сим-
волика ясная: лук посылает стрелы). Лук и колчан, предназначенные самому
убитому, нарисованы на другой плите — напротив богини.
Истолкование сюжета росписи вовлекает нас в мифологию индоевропей-
ских народов — индоариев, греков, кельтов, германцев.
5. Загробные собаки. В лагере экспедиции прижился кот, серый и смыш-
леный. Он был сообразителен, как собака, даже исполнял команды «Лечь!»
и «К ноге!». Но собак он ненавидел. Поблизости от лагеря паслись стада,
и когда археологи уходили на работу, злые овчарки овладевали лагерем и го-
няли кота до изнеможения. Поэтому по утрам, как только люди брались за
лопаты, кот начинал страшно орать и забирался на весь день на дерево —
слезал только к вечеру. Собаки были для него исчадиями ада. Раскопки под-
твердили его восприятие.
В самой богатой каменной гробнице, где были захоронены женщи-
ны и ребенок, среди многих сокровищ (их тут больше, чем во всех рас-
копанных ранее гробницах, вместе взятых) найдены две парные фигурки
собак — одна бронзовая, другая серебряная (рис. 105). Вероятно, эти
фигурки были ручками какой-то вещи, потому что сохранились следы
припоя, но в могилу положили не эту вещь, а отломанных от нее соба-
чек: они были важны сами по
себе. Отломанная нога брон-
зовой собаки была заменена
серебряной трубочкой, и та-
кой же трубочкой дополнен
конец хвоста. Собаки при-
надлежали к разным породам
охотничьих.
Бронзовая собака —
узкомордая, с длинным тулови-
щем и очень длинным прямым
хвостом, похожая на лисицу, но
с висячими ушами. Так выгля-
дят борзые — собаки для охо-
ты «по-зрячему», на степного
зверя. Серебряная собака —
совершенно иная: плотная, со
п г
„
й
, „„„ ,
г
Рис. 105. Собачки из Кладов (кург. 31, погр. 5;
стоячими ушами И коротким по материалам А. Д. Резепкина)
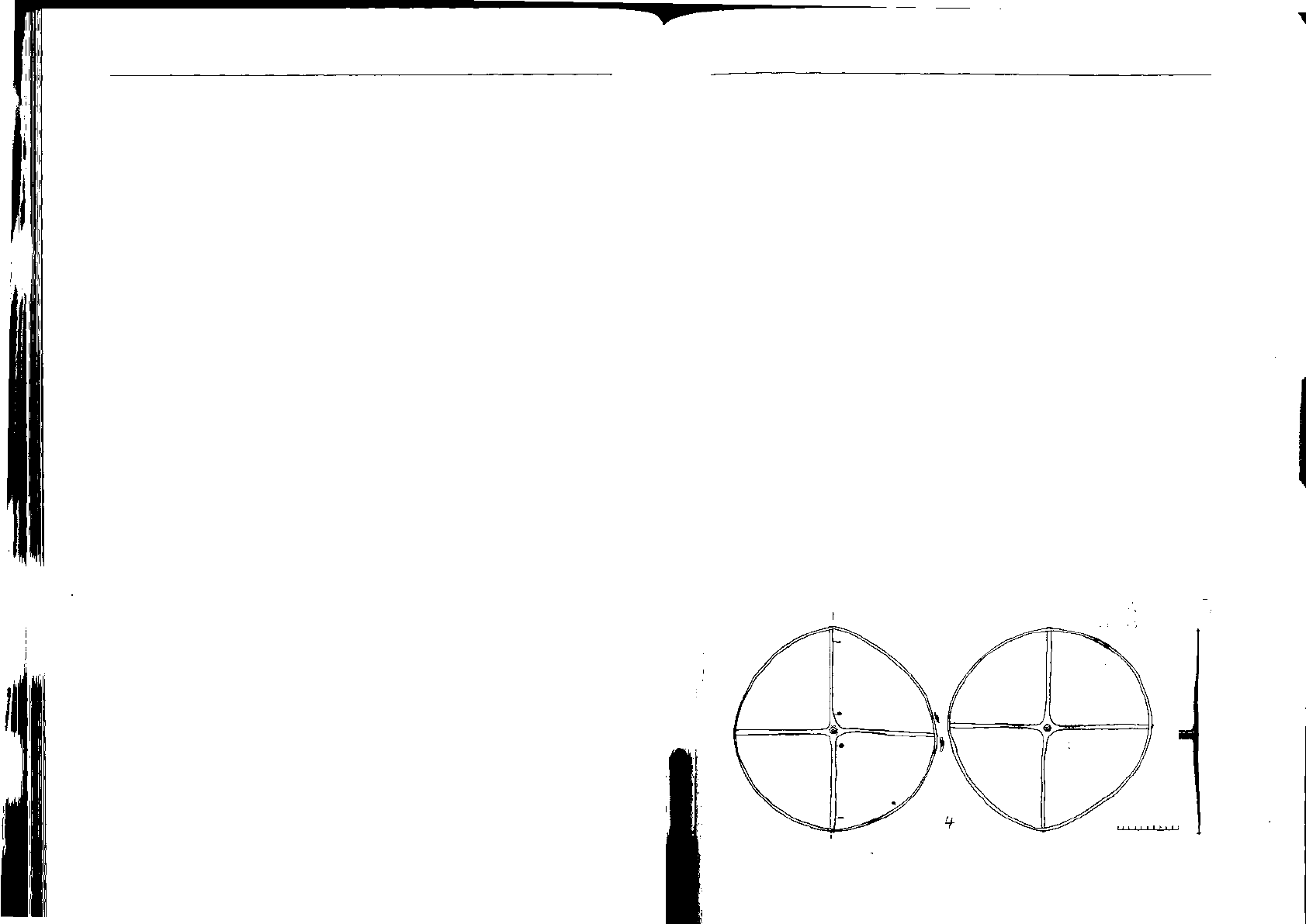
321
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
хвостом, закинутым на спину. Это лайка — собака, приспособленная для охо-
ты в лесу, для подслушивания и облаивания спрятавшегося зверя. Так что от
такой пары собак не скрыться ни в лесу, ни в степях — найдут и схватят.
Изображения двух разнопородных собак часто встречаются в древно-
стях Ближнего Востока, но тесная связь собак с погребальным культом ха-
рактерна именно для индоевропейцев. У индоариев царя мертвых Яму сопро-
вождают две медноцветные собаки, у одной кличка Шарбара — «Пестрая»,
у другой Удумбала — «Черная» (значит, первоначально собаки мыслились
разного цвета). Они разыскивают умерших и доставляют их к Яме. У иран-
ского Йимы тоже две собаки. Собаки эти должны вместе с прекрасной де-
вой встречать мертвеца на мосту через поток забвения и препровождать его
в загробный мир.
Пара собак связана с погребальным культом и у древних греков. В гре-
ческой мифологии выход из царства мертвых охраняет страшный пес Кер-
бер (в позднем чтении — Цербер): туда пропустит, а назад — нет. По Гомеру
и Гесиоду, у него много голов — 50 или 100. По поздним изложениям мифа,
это трехголовый пес, но на ранних изображениях у него всегда две головы.
Первоначально, вероятно, была пара собак. Греческое имя чудовищного пса
в точности соответствует индоарийскому слову «пестрый» (один синоним —
«шарбара», другой — «карбура»).
На Кавказе представление о двух загробных собаках очень древнее. На
серебряной чаше из могилы II тыс. до н. э. в Триалети, в Грузии, пара собак
ведет героя к сидящему на троне персонажу, — видимо, божеству. На предме-
тах кобанской культуры (последние века II тыс. — первые века I тыс. до н. э.)
часто изображаются страшные пятнистые (пестрые) собаки с оскаленными
зубами. У абхазов издревле пара божественных собак почиталась как одно
божество Альшкьынтыр, у грузин это два священных пса мтцеварни.
В могилы клали и самих собак. В гомеровской «Илиаде», хороня Патрок-
ла, Ахилл бросил в погребальный костер двух собак. В тех греческих могилах,
где нет кремации, скелеты собак встречаются. В Казахстане в андроновской
культуре II тыс. до н. э„ которую археологи считают иранской, тоже в моги-
лах попадаются скелеты собак, иногда парами. Так и в дольменах Кавказа.
Но особенно характерны погребения собак для культуры шнуровой керамики
Саксонии и Тюрингии, это тоже III тыс. Вот где их уйма. Но ведь это именно
та культура или следующая за той, к которой относится и каменная гробница
в Гёлицш, где Резепкин отыскал изображение лука и стрел, очень похожее на
найденные под Новосвободной. Опять корни уходят в Центральную Европу...
А кот погиб. И совсем не от собак. Его сгубило современное засоре-
ние окружающей среды: в окрестностях травили грызунов, кот съел то ли
I/III. Майкоп: Азия, Европа?
321
отравленную крысу, то ли приманку и отправился в мир иной. Знал бы он, кто
его встретит у входа...
б. Колесо на шесте. В той же каменной гробнице был обнаружен стран-
ный комплект (рис. 106). Сверху — бронзовое колесо диаметром в локоть,
с четырьмя спицами крест-накрест, в центре — втулка для насадки на очень
тонкую ось, во втулке — остатки древесины. Обод колеса сделан из тонкой
проволоки — ехать на нем нельзя. Под колесом находился бронзовый сосудик
в виде кораблика длиной 22 сантиметра — ковчежец, в нем каменный пест.
Там же залегали три обработанные деревянные палочки. По-видимому, коле-
со было поднято плашмя на шесте над остальными вещами, а когда шест сгнил,
упало на них сверху.
Вся загвоздка в том, что колеса со спицами в эпоху новосвободненской
культуры были еще неизвестны — повозки катились на массивных сплошных
колесах. По всем признакам бронзовое кольцо с перекрестьем — не колесо,
а символ. Так в древности изображали солнце. В другом кургане той же куль-
туры (у села Кишпек) найден такой же бронзовый ковчежец, на нем изображе-
ны солярные символы. Объяснение Резепкин нашел в Махабхарате — древнем
эпосе индусов. Там описывается священное колесо, охраняющее сосуд с маги-
ческим питьем — амритой, живой водой, делающей пьющего бессмертным.
«А-мрита» и значит «бессмертная». В греческих мифологии и языке этому
соответствует амврозия — питье бессмертных богов. Более древнее звуча-
ние — амросия, от прилагательного, которое восстанавливается специалиста-
ми как «амротос» — бессмертный. Объясняется и пест: им выдавливали сок из
священных растений для амриты.
Рис. 106. Колесо-штандарт из Кладов (по материалам А. Д. Резепкина, 1991)
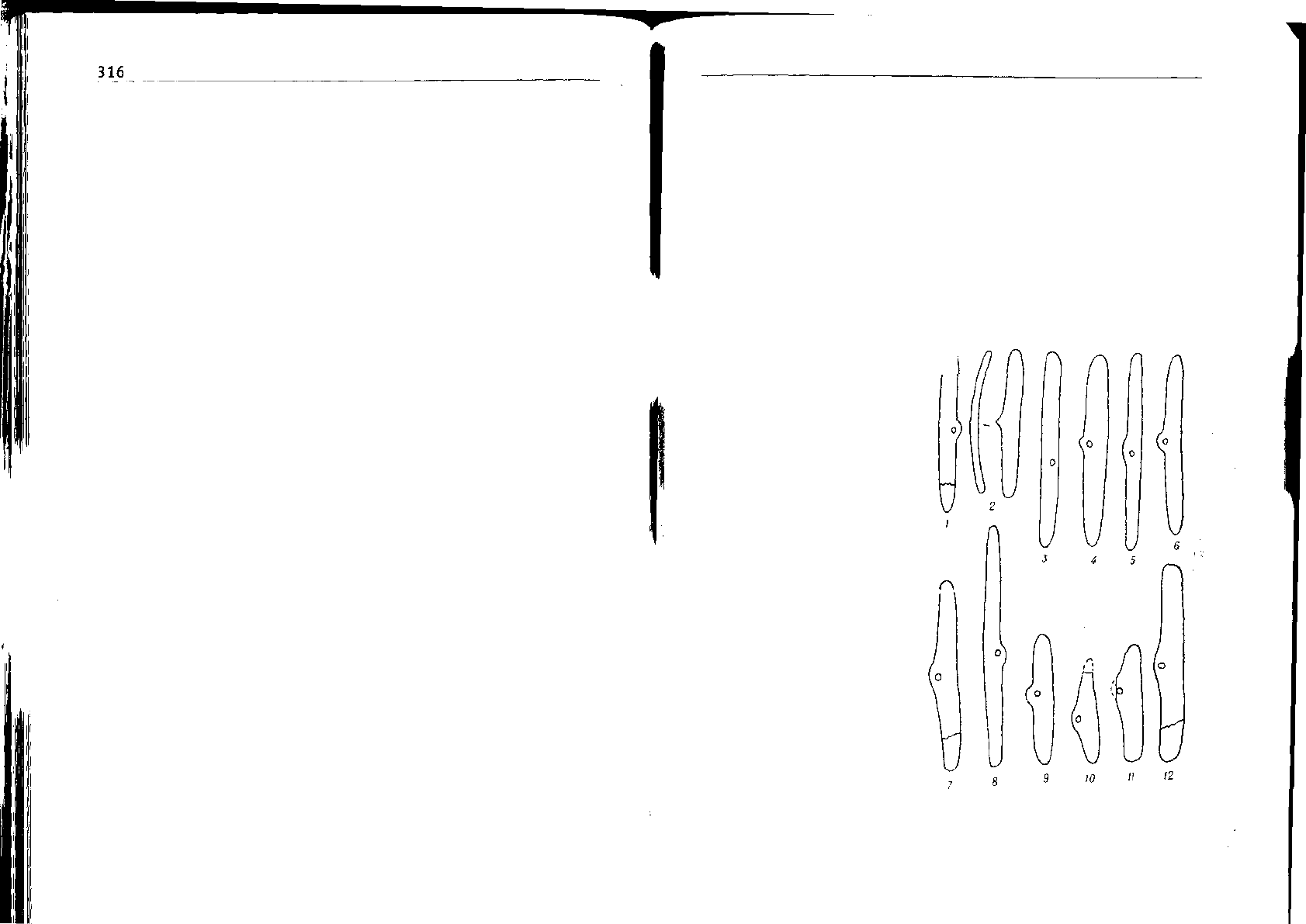
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
В Древнем Пенджикенте, в Средней Азии, точно такое же «колесо» изо-
бражено на фреске в сцене оплакивания покойника. Оно поднято на шесте
над гробом. В городе жило тогда ираноязычное (как и современные таджики)
население. То есть арии.
Но до недавнего времени колеса, поднятые на шестах и зажженные,
были символом солнца у всех народов Европы, в том числе и у русских. На
своих карнавалах «майское колесо» сжигали французы и немцы, шведы
и итальянцы.
А в деревянных палочках под колесом Резепкин увидел орудия для до-
бывания священного огня трением — индийские арани. В Греции такое орудие
называлось атрагеном — «рождающим огонь», от неизвестного позднее гре-
ческому языку индоевропейского слова «атра» — 'огонь' (таков смысл в Ин-
дии и Иране). У гуцулов «ватра» — 'очаг'. Кстати, отсюда же наша «ватруш-
ка» — круглая, как солнце, лепешка с творогом, первоначально культовая.
Иногда она выложена поверх перекладинами крест-накрест. У нас это иран-
ское наследие — от скифов и сарматов, но путь к нашей ватрушке начинается
гораздо раньше скифов — еще в новосвободненском бронзовом «колесе»,
поднятом над священным питьем.
7. Колеса и колесницы. В связи с бронзовым колесом из Кладов нужно
рассмотреть вопрос о конях и боевых колесницах. Коль скоро это погребение,
возможно, относится к эпохе грекоариев, то есть ко времени еще до греков
и ариев, ко времени, более близкому к индоевропейскому пранароду, самый
раз вспомнить, что с индоевропейцами многие ученые связывали интенсивное
использование домашнего коня, всадничества и боевых колесниц. Именно
этим преимуществом многие были склонны объяснять успехи индоевропей-
ских завоеваний и широкого распространения индоевропейцев. Предполага-
лось, что греки в Грецию вторглись на боевых колесницах, изображенных на
стелах из Микенских шахтных гробниц. И уж, конечно, арии ворвались в Ин-
дию и Иран на легких боевых колесницах. С этим связывали погребения ко-
ней, индоарийский обряд ашвамедхи (у кельтов экуамидуа) и прочее.
В свете археологии это вырисовывается как один из научных мифов. Пока
индоевропейский пранарод помещался всего на тысячу лет древнее вторже-
ний в Индию и Иран, это еще можно было считать правдоподобным. Но когда
даже происхождение крупных индоевропейских семей ушло в глубь энеолита,
в IV-V тыс., всё построение затрещало по швам.
Прежде всего, о езде верхом. Двое украинских археологов, В. Н. Да-
ниленко и Н. М. Шмаглий, в 1972 г. опубликовали на украинском языке не-
большую статью под названием: «Об одном поворотном моменте в истории
VIII. Майкоп: Азия, Европа?
317
энеолитического населения Южной Европы». В этой статье они истолкова-
ли находимые в энеолитических памятниках роговые шпеньки с отверстием
сбоку (в отростке) как боковые принадлежности конской узды (псалии), или
точнее — как их прототипы, а эту узду — как свидетельство исключитель-
но верховой езды (рис. 107). В статье 1983 г. Шмаглий с И. Т. Черняковым
добавили сюда и деревянные псалии. Всадничество в энеолите! Это откры-
тие с энтузиазмом приняли многие крупные украинские археологи, а за ними
многие археологи мира, мечтавшие подкрепить археологией неопределенные
языковые изыскания об индоевропейской терминологии. Особенно за это
ухватились те археологи и лингвисты, которые отстаивали степную прароди-
ну индоевропейцев.
Но через десяток-другой лет стало ясно, что эти роговые и деревянные
шпеньки не могут быть и никог-
да не были псалиями. Да и сам Р
Даниленко признавал, что они
больше смахивают на застежки,
называемые на Украине «цур-
ками». Застежками они и были:
находятся больше в поселени-
ях, чем в погребениях, никогда
при конских скелетах, а по рас-
положению в могилах — там,
где и должны лежать застежки.
Нет также оснований считать,
что узда необходима только для
верховой езды. В археологии
есть только два прямых доказа-
тельства верховой езды — изо-
бражения всадников и находки
стремян. То и другое появляется
только в железном веке — у ски-
фов и других кочевников этого
времени, в начале I тыс. до н. э.
Колесо было использовано
для перевозки грузов впервые на
Древнем Востоке. Повозка рас- Рис. юл Цурки, интерпретированные
пространялась Оттуда ВПЛОТЬ ДО
В
"
Д
" Д
аниленко и Н
-
М
- Шмаглием (1972) как псалии
^ . _ . 1-3 — Замок в районе Кисловодска; 4-7,9 —
северной Европы медленно (это
Новые Русеш
ты; 8 — Березовская ГЭС; 10-11 —
прослежено рядом ученых ПО Сабатиновка!;:/^ —Хэбэшешть (Румыния)
ш
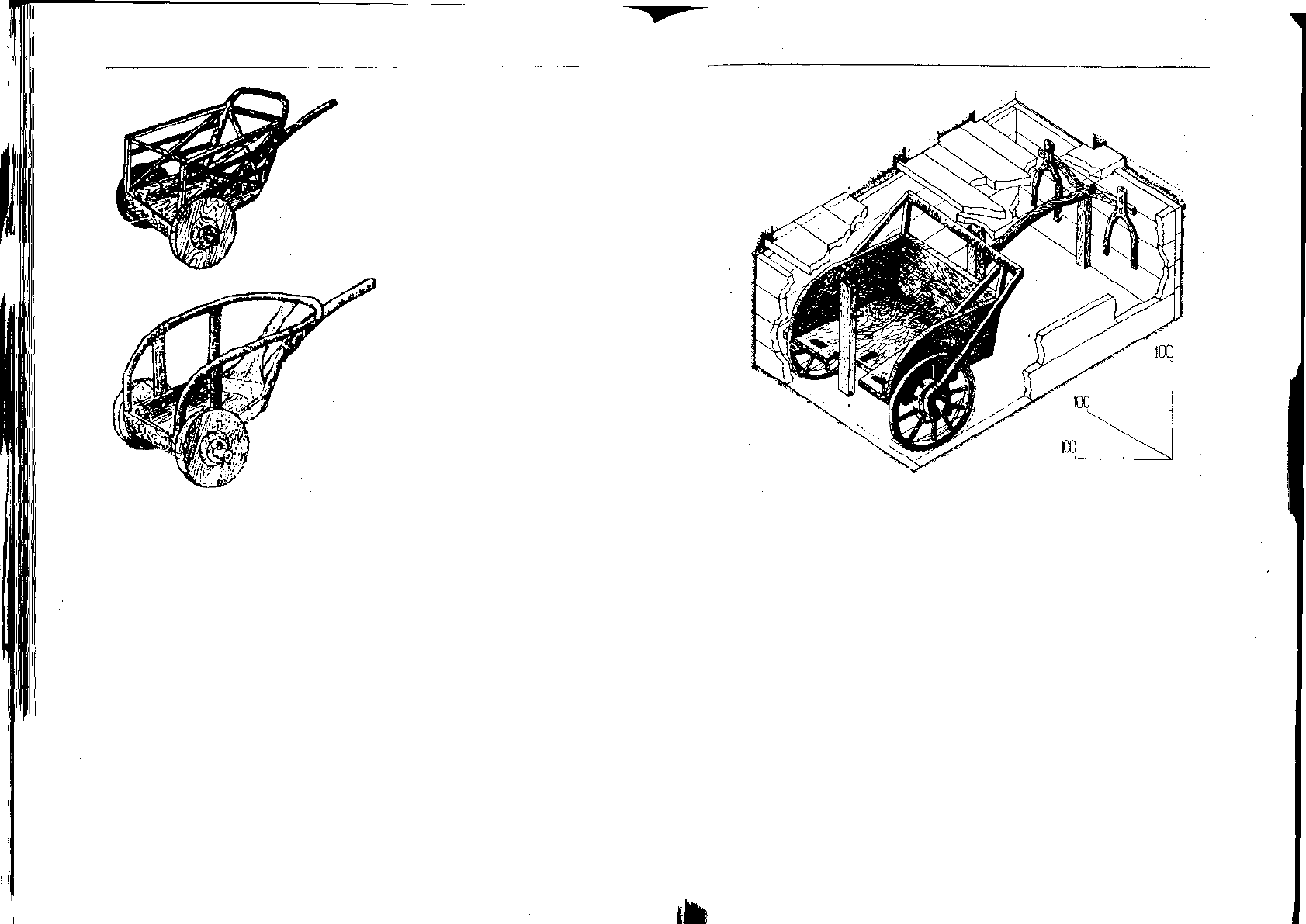
319
160 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
находкам, составлены карты рас-
пространения). Мы знаем, что по-
возки широко применялись в ям-
ной культуре, были они, конечно,
и в катакомбной, и не только в ан-
дроновской, но и в начальной для
нее — синташтинской.
Но вот насчет признания бо-
евых колесниц, расписанных во
многих археологических работах,
нужно быть гораздо осторожнее.
Но только четырехколесные, но
и двухколесные повозки имеются
в ряде катакомбных погребений.
Однако все они на массивных
дисковидных колесах (рис. 108).
Кстати, в общеиндоевропейской
терминологии нет слова «(колес-
ная) спица». Повозки эти най-
дены без упряжных животных,
но известно, что лошади в такие
повозки никогда и нигде не за-
прягались. Повозки на таких ко-
лесах везли исключительно быки
(волы) — это установлено по
многим находкам и изображениям. Кстати, в Криворожье при такой повозке
в катакомбе найдены наконечник и часть древка стрекала — вот чем управля-
ли ездовым животным! Также там найдено тяжелое ярмо, а вот псалии от узды
не обнаружены. Это был, конечно, бык, а не лошадь.
Синташтинские повозки, чуть более поздние, чем катакомбные, стояли
на легких колесах со спицами и запрягались лошадьми (рис. 109). Донецкий
археолог Цимиданов заметил, что они небольшие — вмещали только одно-
го человека. Между тем, для боевой колесницы необходимы два человека:
возница и стрелок. Питерский археолог Ф. Р. Балонов рассуждает с военной
точки зрения: для боевой колесницы необходимо ровное поле боя, сеть дорог.
Он припоминает, что в ночь перед битвой при Гавгамелах персидские воины
ровняли поле и расчищали его от камней, чтобы колесницы не перевернулись.
Ни дикая степь, ни лес, ни горная местность для них не годятся. Поэтому он
считает, что боевые колесницы могли применяться только в цивилизованных
Рис. 108. Варианты реконструкции колесницы
из катакомбной могилы у с. Марьевка
в Поингулье, кург. 11, погр. 27 (по данным
С. Ж. Пустовалова, 2005)
I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321
321
Рис. 109. Реконструкция колесницы из Синташты
(по материалам В. Ф. Генинга и др., 1992)
условиях войны, при наличии государственной организации. В условиях же
быта предгосударственных ариев колесницы могли применяться только в ри-
туале — для ристаний и ради престижа.
В страну Митанни, не говоря уже об Индии, арии пришли с колесницами,
заимствованными у протоиранцев — если это были действительно боевые ко-
лесницы, а не повозки для вождей и победоносных богов, для ристаний и цар-
ской охоты. В Ригведе с них разят врагов только боги и богоподобные герои.
А в Индии вообще, несмотря на внимание к колесницам в Ригведе, самые ран-
ние колесницы датируются временем между серединой IV и серединой I вв.
до н. э., а самые ранние их изображения — концом I тыс. н. э. Более ранние
повозки — только с массивными колёсами.
Культ коня, несомненно, был у индоевропейцев до колесниц и до повозок.
Вполне вероятно, даже до одомашнивания коня.
Точно так же, возможно, и культ колеса. Не повозка в нем отображена,
а солнце. Эти спицы из бронзы сделаны тогда, когда никаких реальных колес
со спицами еще не было. На них никто не ездил. Эти спицы символизируют
лучи, обращеные на все четыре стороны света.
