Лорд А.Б. Сказитель
Подождите немного. Документ загружается.

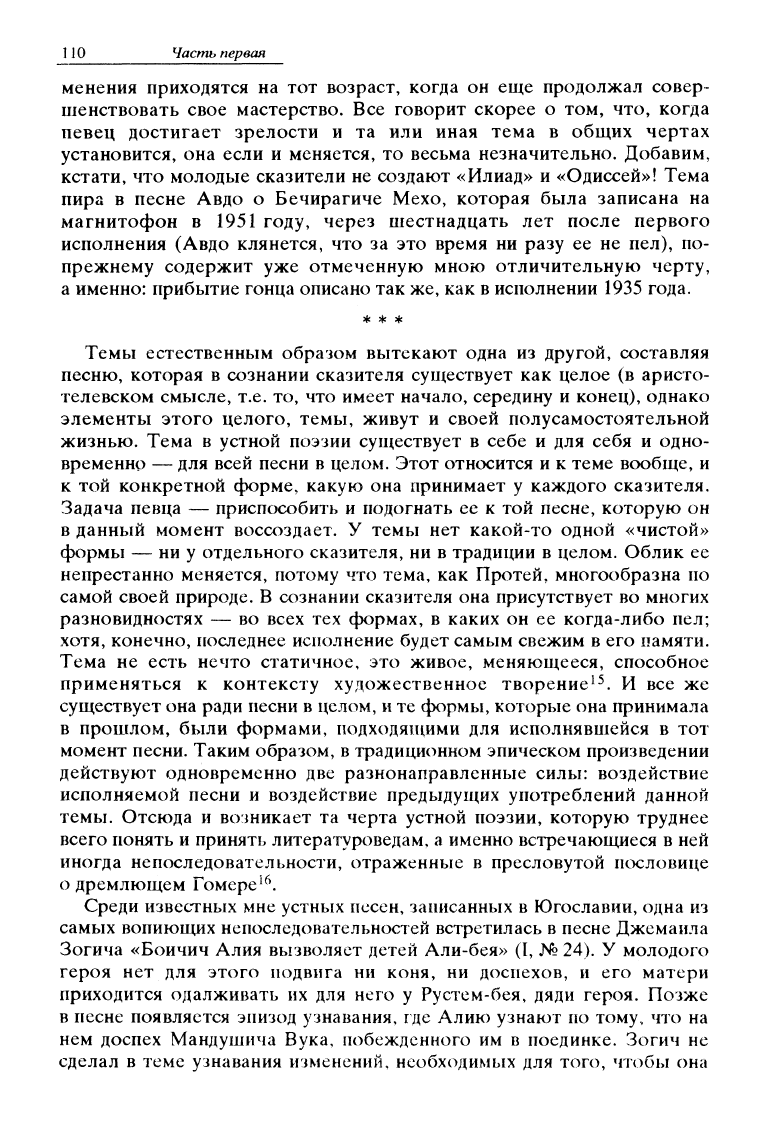
110
Часть
первая
менения
приходятся на тот возраст, когда он еще продолжал совер-
шенствовать свое мастерство. Все говорит скорее о том, что, когда
певец достигает зрелости и та или иная тема в общих
чертах
установится, она если и меняется, то весьма незначительно. Добавим,
кстати, что молодые сказители не создают
«Илиад»
и «Одиссей»! Тема
пира
в песне
Авдо
о Бечирагиче Мехо, которая была записана на
магнитофон
в 1951
году,
через шестнадцать лет после первого
исполнения
(Авдо
клянется, что за это время ни разу ее не пел), по-
прежнему содержит уже отмеченную мною отличительную
черту,
а именно: прибытие гонца описано так же, как в исполнении 1935
года.
Темы естественным образом вытекают одна из другой, составляя
песню,
которая в сознании сказителя
существует
как целое (в аристо-
телевском смысле, т.е. то, что имеет начало, середину и
конец),
однако
элементы этого целого, темы,
живут
и своей полу самостоятельной
жизнью.
Тема в устной поэзии
существует
в себе и для себя и одно-
временно — для всей песни в целом. Этот относится и к теме вообще, и
к
той конкретной форме, какую она принимает у каждого сказителя.
Задача певца — приспособить и подогнать ее к той песне, которую он
в
данный момент воссоздает. У темы нет какой-то одной
«чистой»
формы
— ни у отдельного сказителя, ни в традиции в целом. Облик ее
непрестанно
меняется, потому что тема, как Протей, многообразна но
самой своей природе. В сознании сказителя она присутствует во многих
разновидностях — во
всех
тех формах, в каких он ее когда-либо пел;
хотя, конечно, последнее исполнение
будет
самым свежим в его памяти.
Тема не есть нечто статичное, это живое, меняющееся, способное
применяться
к контексту художественное творение
15
. И все же
существует
она ради песни в целом, и те формы, которые она принимала
в
прошлом, были формами, подходящими для исполнявшейся в тот
момент песни. Таким образом, в традиционном эпическом произведении
действуют
одновременно две разнонаправленные силы: воздействие
исполняемой
песни и воздействие предыдущих употреблений данной
темы. Отсюда и возникает та черта устной поэзии, которую
труднее
всего понять и принять литературоведам, а именно встречающиеся в ней
иногда непоследовательности, отраженные в пресловутой пословице
о
дремлющем Гомере
16
.
Среди известных мне устных песен, записанных в Югославии, одна из
самых вопиющих непоследовательностей встретилась в песне Джемаила
Зогича «Боичич Алия вызволяет детей
Али-бея»
(I, № 24). У молодого
героя нет для этого подвига ни
коня,
ни доспехов, и его матери
приходится одалживать их для него у Рустем-бея, дяди героя. Позже
в
песне появляется эпизод узнавания, где
Алию
узнают по
тому,
что на
нем
доспех Мандушича
Вука,
побежденного им в поединке. Зогич не
сделал в теме узнавания изменений, необходимых для того, чтобы она
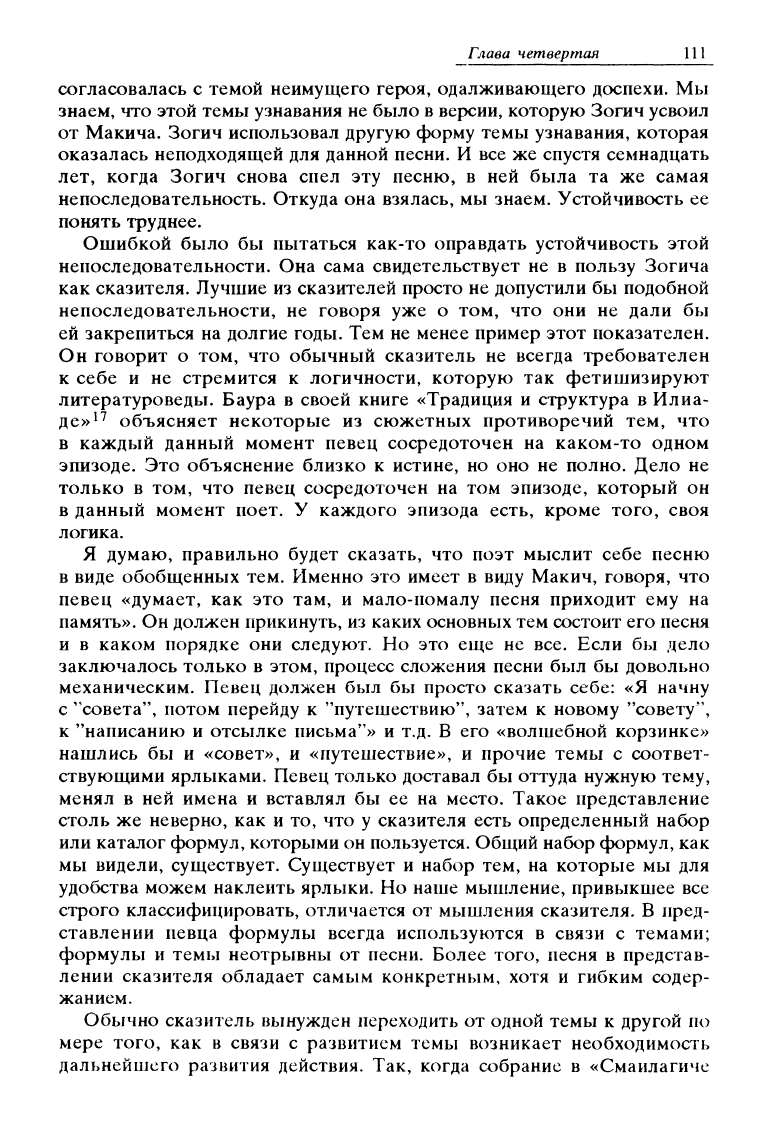
Глава
четвертая
111
согласовалась с темой неимущего героя, одалживающего доспехи. Мы
знаем,
что этой темы узнавания не было в версии, которую Зогич усвоил
от Макича. Зогич использовал
другую
форму темы узнавания, которая
оказалась неподходящей для данной песни. И все же спустя семнадцать
лет, когда Зогич снова спел эту песню, в ней была та же самая
непоследовательность. Откуда она взялась, мы знаем. Устойчивость ее
понять
труднее.
Ошибкой
было бы пытаться как-то оправдать устойчивость этой
непоследовательности. Она сама свидетельствует не в пользу Зогича
как
сказителя. Лучшие из сказителей просто не допустили бы подобной
непоследовательности, не говоря уже о том, что они не дали бы
ей
закрепиться на долгие годы. Тем не менее пример этот показателен.
Он
говорит о том, что обычный сказитель не всегда требователен
к
себе и не стремится к логичности, которую так фетишизируют
литературоведы. Баура в своей книге «Традиция и
структура
в Илиа-
де»
17
объясняет некоторые из сюжетных противоречий тем, что
в
каждый данный момент певец сосредоточен на каком-то одном
эпизоде.
Это объяснение близко к истине, но оно не полно. Дело не
только в том, что певец сосредоточен на том эпизоде, который он
в
данный момент поет. У каждого эпизода есть, кроме того, своя
логика.
Я думаю, правильно
будет
сказать, что поэт мыслит себе песню
в
виде обобщенных тем. Именно это имеет в виду Макич, говоря, что
певец
«думает,
как это там, и мало-помалу песня приходит ему на
память». Он должен прикинуть, из каких основных тем состоит его песня
и
в каком порядке они
следуют.
Но это еще не все. Если бы дело
заключалось только в этом, процесс сложения песни был бы довольно
механическим. Певец должен был бы просто сказать себе: «Я начну
с "совета", потом перейду к "путешествию", затем к новому
"совету",
к
"написанию и отсылке письма"» и т.д. В его «волшебной корзинке»
нашлись
бы и
«совет»,
и
«путешествие»,
и прочие темы с соответ-
ствующими ярлыками. Певец только доставал бы
оттуда
нужную
тему,
менял
в ней имена и вставлял бы ее на место. Такое представление
столь же неверно, как и то, что у сказителя есть определенный набор
или
каталог формул, которыми он пользуется. Общий набор формул, как
мы видели,
существует.
Существует и набор тем, на которые мы для
удобства
можем наклеить ярлыки. Но наше мышление, привыкшее все
строго классифицировать, отличается от мышления сказителя. В пред-
ставлении певца формулы всегда используются в связи с темами;
формулы и темы неотрывны от песни. Более того, песня в представ-
лении
сказителя обладает самым конкретным, хотя и гибким содер-
жанием.
Обычно сказитель вынужден переходить от одной темы к
другой
по
мере того, как в связи с развитием темы возникает необходимость
дальнейшего развития действия. Так, когда собрание в «Смаилагиче
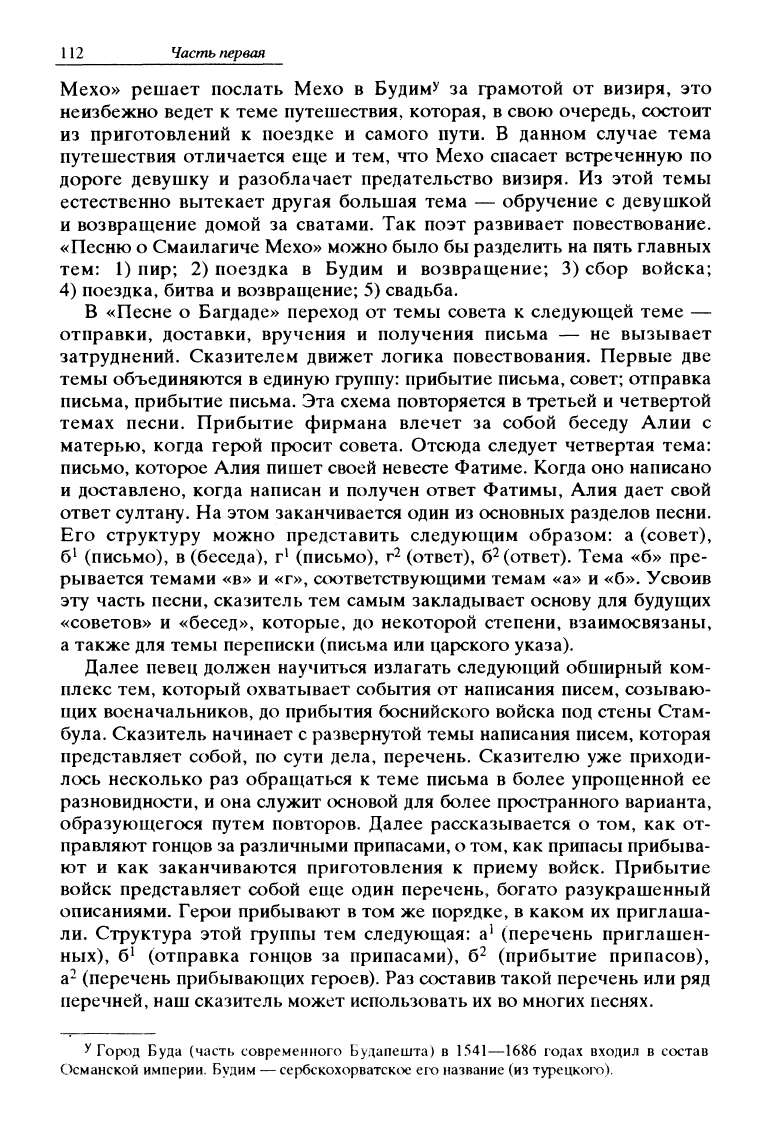
112
Часть
первая
Мехо»
решает послать Мехо в Будим
у
за грамотой от визиря, это
неизбежно
ведет
к теме путешествия, которая, в свою очередь, состоит
из
приготовлений к поездке и самого пути. В данном
случае
тема
путешествия отличается еще и тем, что Мехо спасает встреченную по
дороге девушку и разоблачает предательство визиря. Из этой темы
естественно вытекает
другая
большая тема — обручение с девушкой
и
возвращение домой за сватами. Так поэт развивает повествование.
«Песню о Смаилагиче
Мехо»
можно было бы разделить на пять главных
тем: 1) пир; 2) поездка в Будим и возвращение; 3) сбор войска;
4) поездка, битва и возвращение; 5) свадьба.
В «Песне о
Багдаде»
переход от темы совета к следующей теме —
отправки,
доставки, вручения и получения письма — не вызывает
затруднений. Сказителем движет логика повествования. Первые две
темы объединяются в единую
группу:
прибытие письма, совет; отправка
письма, прибытие письма. Эта схема повторяется в третьей и четвертой
темах песни. Прибытие фирмана влечет за собой
беседу
Алии с
матерью, когда герой просит совета. Отсюда
следует
четвертая тема:
письмо,
которое Алия пишет своей невесте Фатиме. Когда оно написано
и
доставлено, когда написан и получен ответ Фатимы, Алия
дает
свой
ответ
султану.
На этом заканчивается один из основных разделов песни.
Его
структуру
можно представить следующим образом: а (совет),
б
1
(письмо), в (беседа), г
1
(письмо), г
2
(ответ), б
2
(ответ). Тема «б» пре-
рывается темами «в» и «г», соответствующими темам «а» и «б». Усвоив
эту часть песни, сказитель тем самым закладывает основу для
будущих
«советов»
и
«бесед»,
которые, до некоторой степени, взаимосвязаны,
а также для темы переписки (письма или царского указа).
Далее певец должен научиться излагать следующий обширный ком-
плекс
тем, который охватывает события от написания писем, созываю-
щих военачальников, до прибытия боснийского войска под стены Стам-
була.
Сказитель начинает с развернутой темы написания писем, которая
представляет собой, по сути дела, перечень. Сказителю уже приходи-
лось несколько раз обращаться к теме письма в более упрощенной ее
разновидности, и она служит основой для более пространного варианта,
образующегося путем повторов. Далее рассказывается о том, как от-
правляют гонцов за различными припасами, о том, как припасы прибыва-
ют и как заканчиваются приготовления к приему войск. Прибытие
войск
представляет собой еще один перечень, богато разукрашенный
описаниями.
Герои прибывают в том же порядке, в каком их приглаша-
ли.
Структура этой группы тем следующая: а
1
(перечень приглашен-
ных),
б
1
(отправка гонцов за припасами), б
2
(прибытие припасов),
а
2
(перечень прибывающих героев). Раз составив такой перечень или ряд
перечней,
наш сказитель может использовать их во многих песнях.
у
Город Буда (часть современного Будапешта) в
1541—1686
годах
входил в состав
Османской
империи. Будим — сербскохорватское его название (из турецкого).
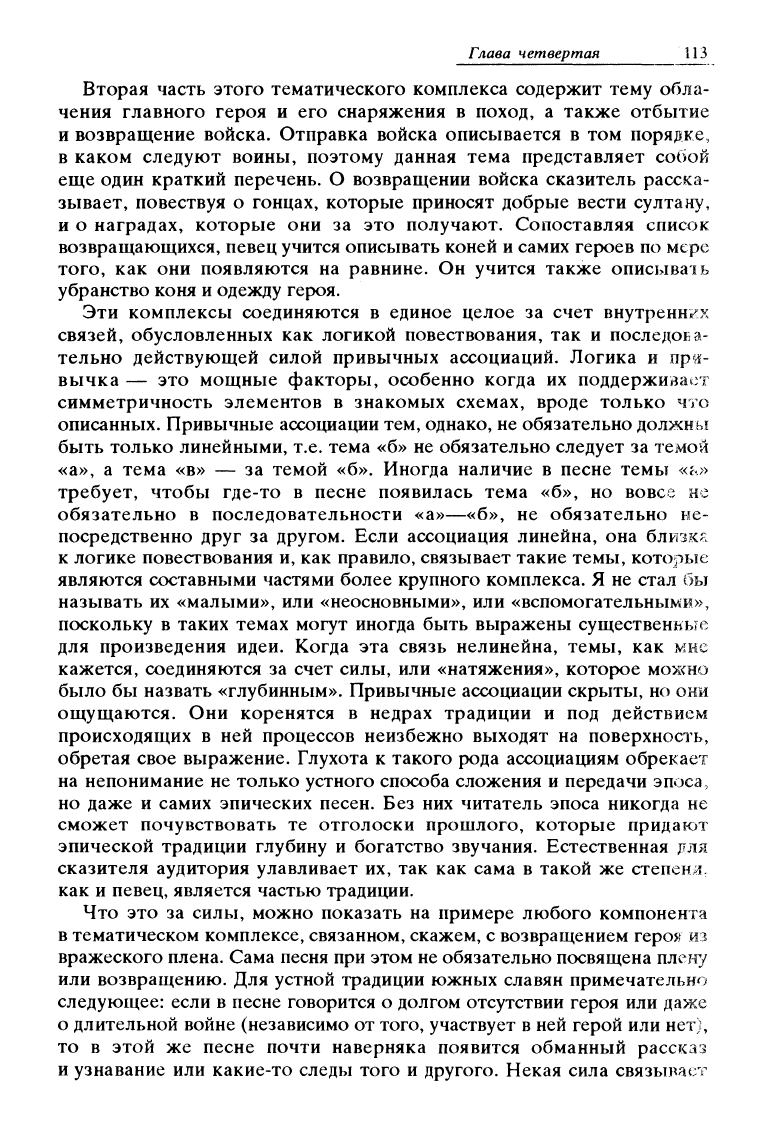
Глава
четвертая
113
Вторая часть этого тематического комплекса содержит
тему
обла-
чения
главного героя и его снаряжения в поход, а также отбытие
и
возвращение войска. Отправка войска описывается в том порядке,
в
каком
следуют
воины, поэтому данная тема представляет собой
еще один краткий перечень. О возвращении войска сказитель расска-
зывает, повествуя о гонцах, которые приносят добрые вести
султану,
и
о наградах, которые они за это получают. Сопоставляя список
возвращающихся, певец учится описывать коней и самих героев по мере
того, как они появляются на равнине. Он учится также описывать
убранство
коня
и
одежду
героя.
Эти комплексы соединяются в единое целое за счет внутренних
связей,
обусловленных как логикой повествования, так и последова-
тельно действующей силой привычных ассоциаций. Логика и при-
вычка — это мощные факторы, особенно когда их поддерживает
симметричность элементов в знакомых
схемах,
вроде только что
описанных.
Привычные ассоциации тем, однако, не обязательно должны
быть только линейными, т.е. тема «б» не обязательно
следует
за темой
«а», а тема «в» — за темой «б». Иногда наличие в песне темы «ь»
требует,
чтобы
где-то
в песне появилась тема «б», но вовсе не
обязательно в последовательности
«а»—«б»,
не обязательно не-
посредственно
друг
за другом. Если ассоциация линейна, она близка
к
логике повествования и, как правило, связывает такие темы, которые
являются составными частями более крупного комплекса. Я не стал бы
называть их «малыми», или «неосновными», или «вспомогательными»,
поскольку в таких темах
могут
иногда быть выражены существенные
для произведения идеи. Когда эта связь нелинейна, темы, как мне
кажется, соединяются за счет силы, или «натяжения», которое можно
было бы назвать «глубинным». Привычные ассоциации скрыты, но они
ощущаются. Они коренятся в недрах традиции и под действием
происходящих в ней процессов неизбежно выходят на поверхность,
обретая свое выражение.
Глухота
к такого рода ассоциациям обрекает
на
непонимание не только устного способа сложения и передачи эпоса,
но
даже
и самих эпических песен. Без них читатель эпоса никогда не
сможет почувствовать те отголоски прошлого, которые придают
эпической
традиции глубину и богатство звучания. Естественная для
сказителя аудитория улавливает их, так как сама в такой же степени,
как
и певец, является частью традиции.
Что это за силы, можно показать на примере любого компонента
в
тематическом комплексе, связанном, скажем, с возвращением героя из
вражеского плена. Сама песня при этом не обязательно посвящена плену
или
возвращению. Для устной традиции южных славян примечательно
следующее: если в песне говорится о долгом отсутствии героя или
даже
о
длительной войне (независимо от того,
участвует
в ней герой или нет),
то в этой же песне почти наверняка появится обманный рассказ
и
узнавание или какие-то следы того и
другого.
Некая сила связывает
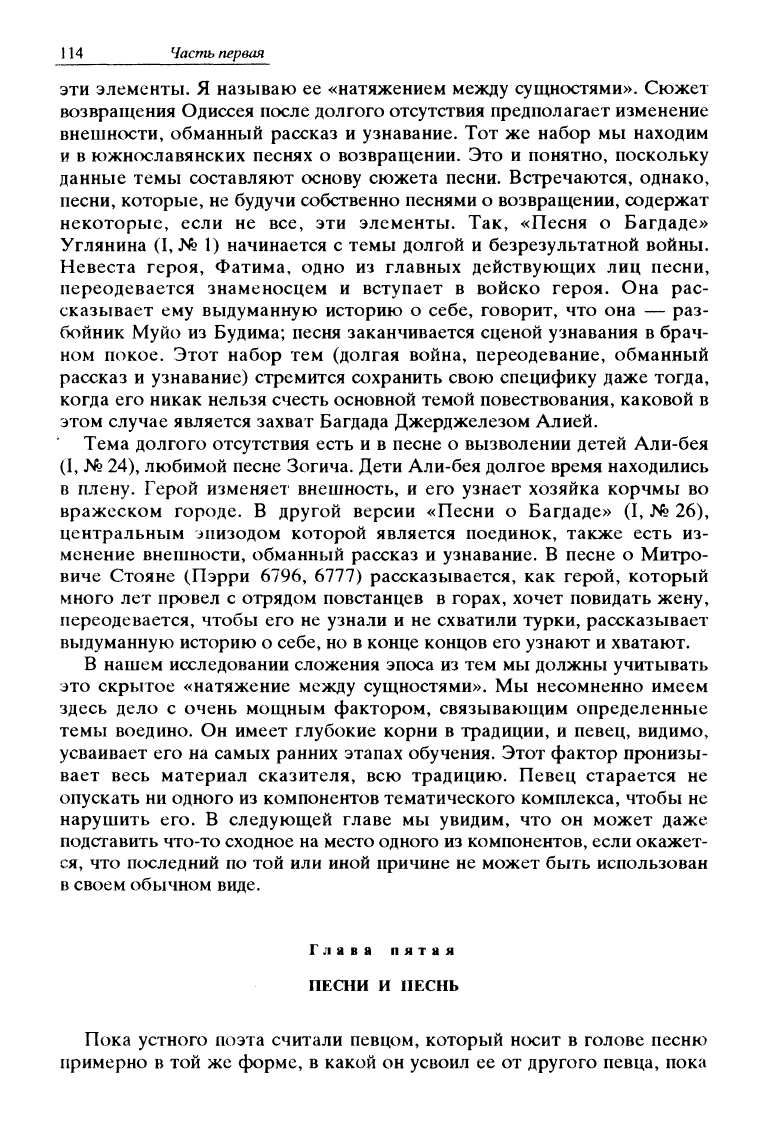
114
Часть первая
эти
элементы.
Я
называю
ее
«натяжением
между
сущностями». Сюжет
возвращения
Одиссея после долгого отсутствия предполагает изменение
внешности,
обманный рассказ
и
узнавание.
Тот
же
набор
мы
находим
и
в
южнославянских песнях
о
возвращении.
Это
и
понятно, поскольку
данные темы составляют основу сюжета песни. Встречаются, однако,
песни,
которые,
не
будучи
собственно песнями
о
возвращении, содержат
некоторые,
если
не все, эти
элементы.
Так,
«Песня
о
Багдаде»
Углянина (I, №
1)
начинается
с
темы долгой
и
безрезультатной войны.
Невеста героя, Фатима, одно
из
главных действующих
лиц
песни,
переодевается знаменосцем
и
вступает
в
войско героя.
Она рас-
сказывает
ему
выдуманную историю
о
себе, говорит,
что она —
раз-
бойник
Муйо
из
Будима; песня заканчивается сценой узнавания
в
брач-
ном
покое. Этот набор
тем
(долгая война, переодевание, обманный
рассказ
и
узнавание) стремится сохранить свою специфику
даже
тогда,
когда
его
никак
нельзя счесть основной темой повествования, каковой
в
этом
случае
является
захват
Багдада Джерджелезом Алией.
Тема долгого отсутствия есть
и в
песне
о
вызволении детей Али-бея
(I,
№ 24), любимой песне Зогича. Дети Али-бея долгое время находились
в
плену. Герой изменяет внешность,
и его
узнает хозяйка корчмы
во
вражеском городе.
В
другой
версии «Песни
о
Багдаде»
(I, №
26),
центральным эпизодом которой является поединок, также есть
из-
менение
внешности, обманный рассказ
и
узнавание.
В
песне
о
Митро-
виче Стояне (Пэрри
6796,
6777)
рассказывается,
как
герой, который
много
лет
провел
с
отрядом повстанцев
в
горах,
хочет
повидать жену,
переодевается, чтобы
его не
узнали
и не
схватили турки, рассказывает
выдуманную историю
о
себе,
но
в
конце концов
его
узнают
и
хватают.
В нашем исследовании сложения эпоса
из тем мы
должны учитывать
это
скрытое «натяжение
между
сущностями».
Мы
несомненно имеем
здесь дело
с
очень мощным фактором, связывающим определенные
темы воедино.
Он
имеет глубокие корни
в
традиции,
и
певец, видимо,
усваивает
его на
самых ранних этапах обучения. Этот фактор пронизы-
вает весь материал сказителя,
всю
традицию. Певец старается
не
опускать ни одного
из
компонентов тематического комплекса, чтобы
не
нарушить
его. В
следующей главе
мы
увидим,
что он
может
даже
подставить что-то сходное
на
место одного
из
компонентов, если окажет-
ся,
что
последний
по той или
иной причине
не
может быть использован
в
своем обычном виде.
Глава
пятая
ПЕСНИ
И
ПЕСНЬ
Пока
устного поэта считали певцом, который носит
в
голове песню
примерно
в
той
же
форме,
в
какой
он
усвоил
ее от
другого
певца, пока
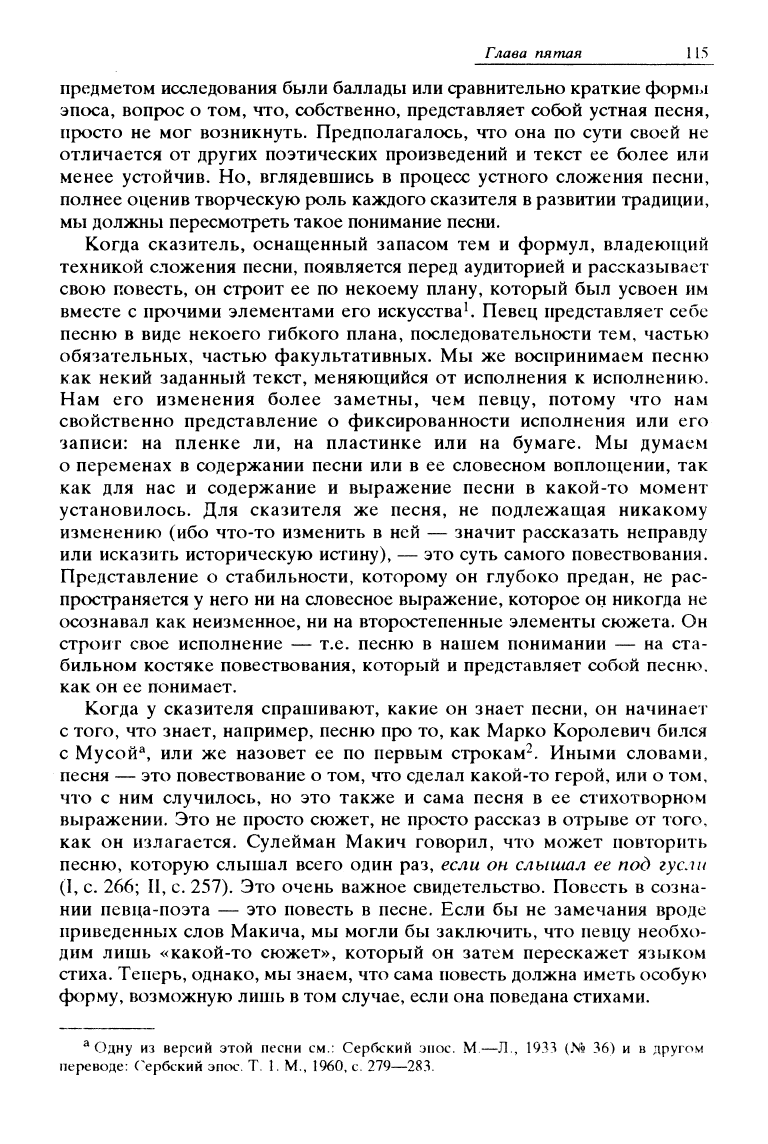
Глава
пятая
115
предметом исследования были баллады или сравнительно краткие формы
эпоса,
вопрос о том, что, собственно, представляет собой устная песня,
просто не мог возникнуть. Предполагалось, что она по сути своей не
отличается от
других
поэтических произведений и текст ее более или
менее устойчив. Но, вглядевшись в процесс устного сложения песни,
полнее оценив творческую роль каждого сказителя в развитии традиции,
мы должны пересмотреть такое понимание песни.
Когда сказитель, оснащенный запасом тем и формул, владеющий
техникой сложения песни, появляется перед аудиторией и рассказывает
свою повесть, он строит ее по некоему плану, который был усвоен им
вместе с прочими элементами его искусства
1
. Певец представляет себе
песню в виде некоего гибкого плана, последовательности тем, частью
обязательных, частью факультативных. Мы же воспринимаем песню
как
некий заданный текст, меняющийся от исполнения к исполнению.
Нам
его изменения более заметны, чем певцу, потому что нам
свойственно представление о фиксированности исполнения или его
записи:
на пленке ли, на пластинке или на бумаге. Мы
думаем
о
переменах в содержании песни или в ее словесном воплощении, так
как
для нас и содержание и выражение песни в какой-то момент
установилось. Для сказителя же песня, не подлежащая никакому
изменению
(ибо что-то изменить в ней — значит рассказать неправду
или
исказить историческую истину), — это
суть
самого повествования.
Представление о стабильности, которому он глубоко предан, не рас-
пространяется у него ни на словесное выражение, которое он никогда не
осознавал как неизменное, ни на второстепенные элементы сюжета. Он
строит свое исполнение — т.е. песню в нашем понимании — на ста-
бильном костяке повествования, который и представляет собой песню,
как
он ее понимает.
Когда у сказителя спрашивают, какие он знает песни, он начинает
с того, что знает, например, песню про то, как Марко Королевич бился
с Мусой
а
, или же назовет ее по первым строкам
2
. Иными словами,
песня
— это повествование о том, что сделал какой-то герой, или о том,
что с ним случилось, но это также и сама песня в ее стихотворном
выражении.
Это не просто сюжет, не просто рассказ в отрыве от того,
как
он излагается. Сулейман Макич говорил, что может повторить
песню,
которую слышал всего один раз,
если
он
слыишл
ее под
гусли
(I,
с. 266; II, с. 257). Это очень важное свидетельство. Повесть в созна-
нии
певца-поэта — это повесть в песне. Если бы не замечания вроде
приведенных слов Макича, мы могли бы заключить, что певцу необхо-
дим лишь «какой-то
сюжет»,
который он затем перескажет языком
стиха. Теперь, однако, мы знаем, что сама повесть должна иметь особую
форму, возможную лишь в том случае, если она поведана стихами.
а
Одну из версий этой песни см.: Сербский
эпос.
М—Л., 1933 (№ 36) и в
другом
переводе: Сербский
эпос.
Т. 1. М., 1960, с. 279—283.
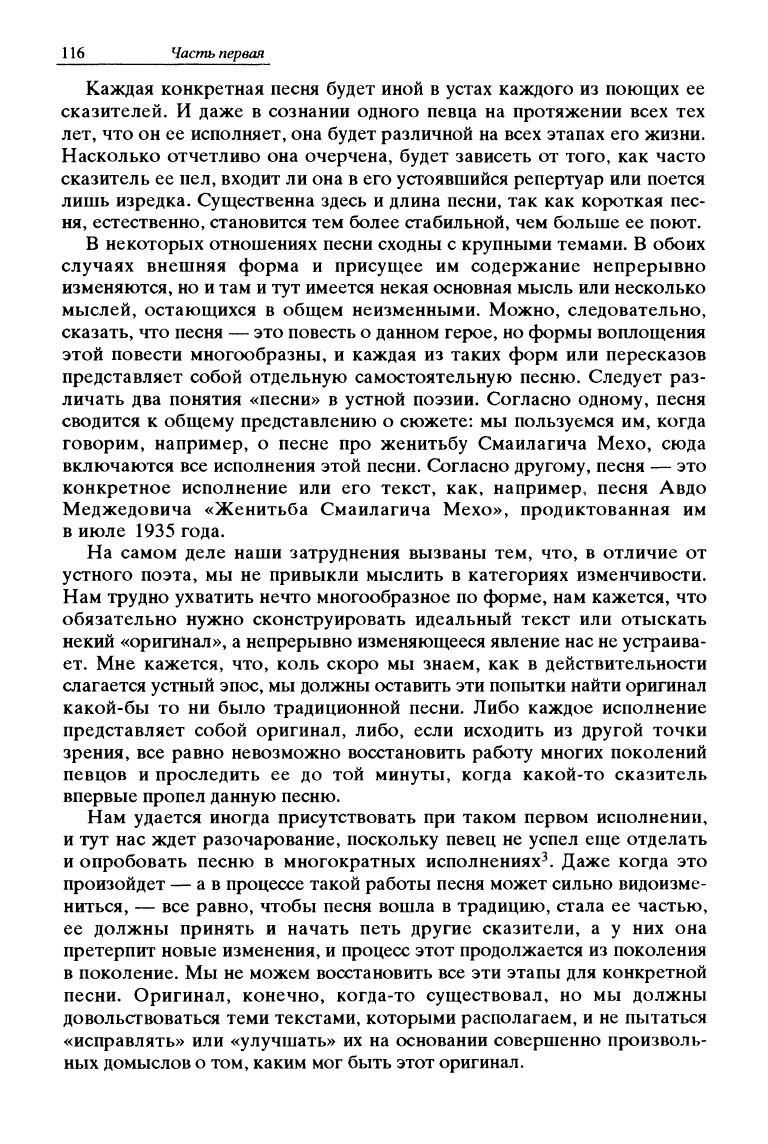
116
Часть
первая
Каждая конкретная песня
будет
иной в
устах
каждого из поющих ее
сказителей. И даже в сознании одного певца на протяжении всех тех
лет, что он ее исполняет, она
будет
различной на всех этапах его жизни.
Насколько
отчетливо она очерчена,
будет
зависеть от того, как часто
сказитель ее пел, входит ли она в его устоявшийся репертуар или поется
лишь изредка. Существенна здесь и длина песни, так как короткая пес-
ня,
естественно, становится тем более стабильной, чем больше ее поют.
В некоторых отношениях песни сходны с крупными темами. В обоих
случаях внешняя форма и присущее им содержание непрерывно
изменяются, но и там и тут имеется некая основная мысль или несколько
мыслей, остающихся в общем неизменными. Можно, следовательно,
сказать, что песня — это повесть о данном герое, но формы воплощения
этой
повести многообразны, и каждая из таких форм или пересказов
представляет собой отдельную самостоятельную песню. Следует раз-
личать два понятия «песни» в устной поэзии. Согласно одному, песня
сводится к общему представлению о сюжете: мы пользуемся им, когда
говорим, например, о песне про женитьбу Смаилагича Мехо, сюда
включаются все исполнения этой песни. Согласно
другому,
песня — это
конкретное исполнение или его текст, как, например, песня
Авдо
Меджедовича «Женитьба Смаилагича Мехо», продиктованная им
в
июле 1935 года.
На
самом
деле
наши затруднения вызваны тем, что, в отличие от
устного поэта, мы не привыкли мыслить в категориях изменчивости.
Нам
трудно
ухватить
нечто многообразное по форме, нам кажется, что
обязательно нужно сконструировать идеальный текст или отыскать
некий
«оригинал», а непрерывно изменяющееся явление нас не устраива-
ет. Мне кажется, что, коль скоро мы знаем, как в действительности
слагается устный эпос, мы должны оставить эти попытки найти оригинал
какой-бы
то ни было традиционной песни. Либо каждое исполнение
представляет собой оригинал, либо, если исходить из другой точки
зрения,
все равно невозможно восстановить работу многих поколений
певцов и проследить ее до той минуты, когда какой-то сказитель
впервые пропел данную песню.
Нам
удается иногда присутствовать при таком первом исполнении,
и
тут нас
ждет
разочарование, поскольку певец не успел еще отделать
и
опробовать песню в многократных исполнениях
3
. Даже когда это
произойдет — а в процессе такой работы песня может сильно видоизме-
ниться,
— все равно, чтобы песня вошла в традицию, стала ее частью,
ее должны принять и начать петь
другие
сказители, а у них она
претерпит новые изменения, и процесс этот продолжается из поколения
в
поколение. Мы не можем восстановить все эти этапы для конкретной
песни.
Оригинал, конечно, когда-то существовал, но мы должны
довольствоваться теми текстами, которыми располагаем, и не пытаться
«исправлять» или
«улучшать»
их на основании совершенно произволь-
ных домыслов о том, каким мог быть этот оригинал.
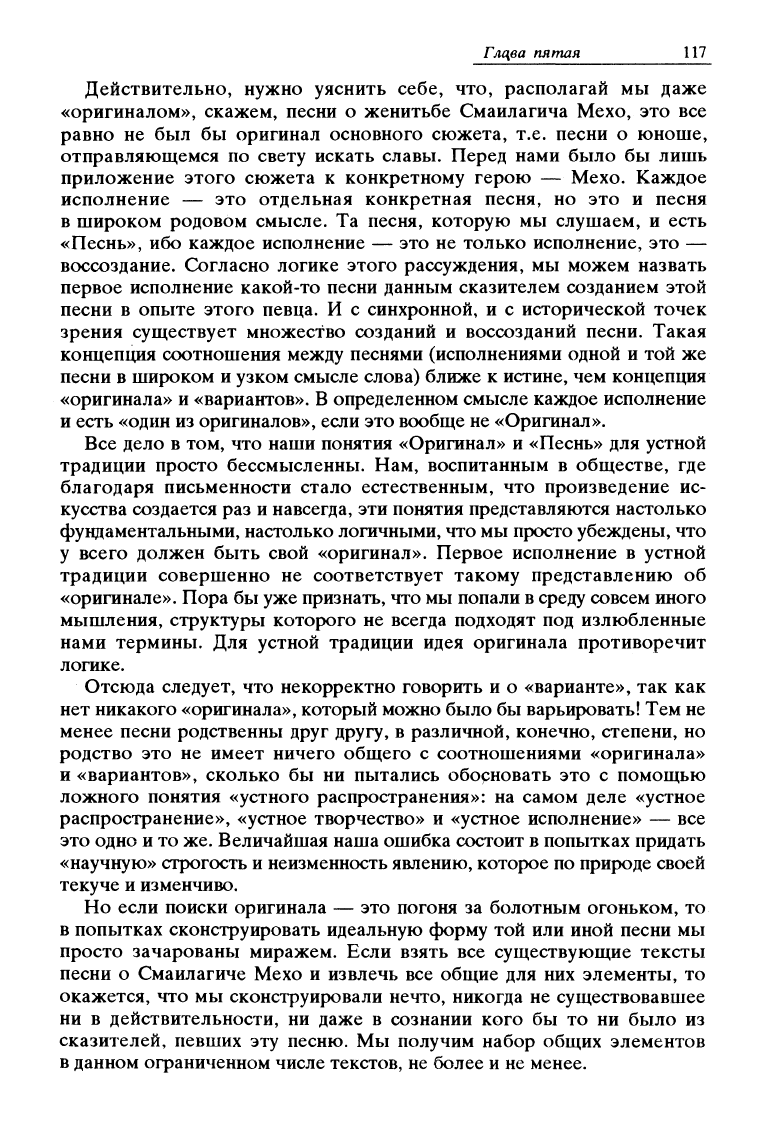
Глцва
пятая
117
Действительно, нужно уяснить себе, что, располагай мы
даже
«оригиналом», скажем, песни о женитьбе Смаилагича Мехо, это все
равно не был бы оригинал основного сюжета, т.е. песни о юноше,
отправляющемся по
свету
искать славы. Перед нами было бы лишь
приложение этого сюжета к конкретному герою — Мехо. Каждое
исполнение
— это отдельная конкретная песня, но это и песня
в
широком родовом смысле. Та песня, которую мы слушаем, и есть
«Песнь», ибо каждое исполнение — это не только исполнение, это —
воссоздание. Согласно логике этого рассуждения, мы можем назвать
первое исполнение какой-то песни данным сказителем созданием этой
песни
в опыте этого певца. И с синхронной, и с исторической точек
зрения
существует
множество созданий и воссозданий песни. Такая
концепция
соотношения
между
песнями (исполнениями одной и той же
песни
в широком и узком смысле слова) ближе к истине, чем концепция
«оригинала» и «вариантов». В определенном смысле каждое исполнение
и
есть «один из оригиналов», если это вообще не «Оригинал».
Все дело в том, что наши понятия «Оригинал» и «Песнь» для устной
традиции просто бессмысленны. Нам, воспитанным в обществе, где
благодаря письменности стало естественным, что произведение ис-
кусства создается раз и навсегда, эти понятия представляются настолько
фундаментальными, настолько логичными, что мы просто убеждены, что
у всего должен быть свой «оригинал». Первое исполнение в устной
традиции совершенно не соответствует такому представлению об
«оригинале». Пора бы уже признать, что мы попали в
среду
совсем иного
мышления,
структуры которого не всегда подходят под излюбленные
нами
термины. Для устной традиции идея оригинала противоречит
логике.
Отсюда
следует,
что некорректно говорить и о «варианте», так как
нет никакого «оригинала», который можно было бы варьировать! Тем не
менее песни родственны
друг
другу,
в различной, конечно, степени, но
родство это не имеет ничего общего с соотношениями «оригинала»
и
«вариантов», сколько бы ни пытались обосновать это с помощью
ложного понятия
«устного
распространения»: на самом
деле
«устное
распространение»,
«устное
творчество»
и
«устное
исполнение» — все
это
одно и то же. Величайшая наша ошибка состоит в попытках придать
«научную»
строгость и неизменность явлению, которое по природе своей
текуче
и изменчиво.
Но
если поиски оригинала — это погоня за болотным огоньком, то
в
попытках сконструировать идеальную форму той или иной песни мы
просто зачарованы миражем. Если взять все существующие тексты
песни
о Смаилагиче Мехо и извлечь все общие для них элементы, то
окажется, что мы сконструировали нечто, никогда не существовавшее
ни
в действительности, ни
даже
в сознании кого бы то ни было из
сказителей, певших эту песню. Мы получим набор общих элементов
в
данном ограниченном числе текстов, не более и не менее.
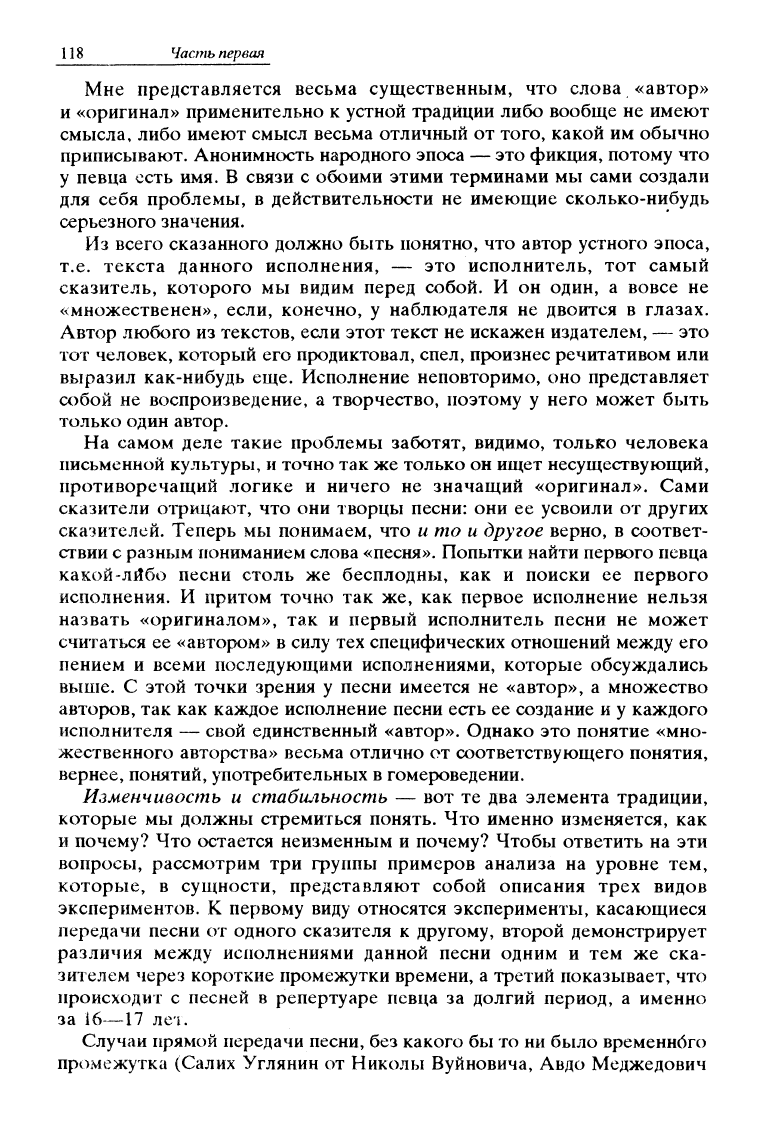
118
Часть
первая
Мне
представляется весьма существенным, что слова
«автор»
и
«оригинал» применительно к устной традиции либо вообще не имеют
смысла, либо имеют смысл весьма отличный от того, какой им обычно
приписывают. Анонимность народного эпоса — это
фикция,
потому что
у певца есть имя. В связи с обоими этими терминами мы сами создали
для себя проблемы, в действительности не имеющие сколько-нибудь
серьезного значения.
Из
всего сказанного должно быть понятно, что автор устного эпоса,
т.е. текста данного исполнения, — это исполнитель, тот самый
сказитель, которого мы видим перед собой. И он один, а вовсе не
«множественен», если, конечно, у наблюдателя не двоится в
глазах.
Автор
любого из текстов, если этот текст не искажен издателем, — это
тот человек, который его продиктовал, спел, произнес речитативом или
выразил как-нибудь еще. Исполнение неповторимо, оно представляет
собой не воспроизведение, а творчество, поэтому у него может быть
только один автор.
На
самом
деле
такие проблемы заботят, видимо, только человека
письменной
культуры, и точно так же только он ищет несуществующий,
противоречащий логике и ничего не значащий «оригинал». Сами
сказители отрицают, что они творцы песни: они ее усвоили от
других
сказителей. Теперь мы понимаем, что и то и
другое
верно, в соответ-
ствии с разным пониманием слова «песня». Попытки найти первого певца
какой-либо
песни столь же бесплодны, как и поиски ее первого
исполнения.
И притом точно так же, как первое исполнение нельзя
назвать «оригиналом», так и первый исполнитель песни не может
считаться ее
«автором»
в силу тех специфических отношений
между
его
пением
и всеми последующими исполнениями, которые обсуждались
выше.
С этой точки зрения у песни имеется не
«автор»,
а множество
авторов, так как каждое исполнение песни есть ее создание и у каждого
исполнителя
— свой единственный
«автор».
Однако это понятие «мно-
жественного
авторства»
весьма отлично от соответствующего понятия,
вернее, понятий, употребительных в гомероведении.
Изменчивость
и
стабильность
— вот те два элемента традиции,
которые мы должны стремиться понять. Что именно изменяется, как
и
почему? Что остается неизменным и почему? Чтобы ответить на эти
вопросы,
рассмотрим три группы примеров анализа на уровне тем,
которые, в сущности, представляют собой описания
трех
видов
экспериментов.
К первому виду относятся эксперименты, касающиеся
передачи песни от одного сказителя к
другому,
второй демонстрирует
различия
между
исполнениями данной песни одним и тем же ска-
зителем через короткие промежутки времени, а третий показывает, что
происходит с песней в репертуаре певца за долгий период, а именно
за 16—17 лет.
Случаи прямой передачи песни, без какого бы то ни было временнбго
промежутка (Салих Углянин от Николы Вуйновича,
Авдо
Меджедович
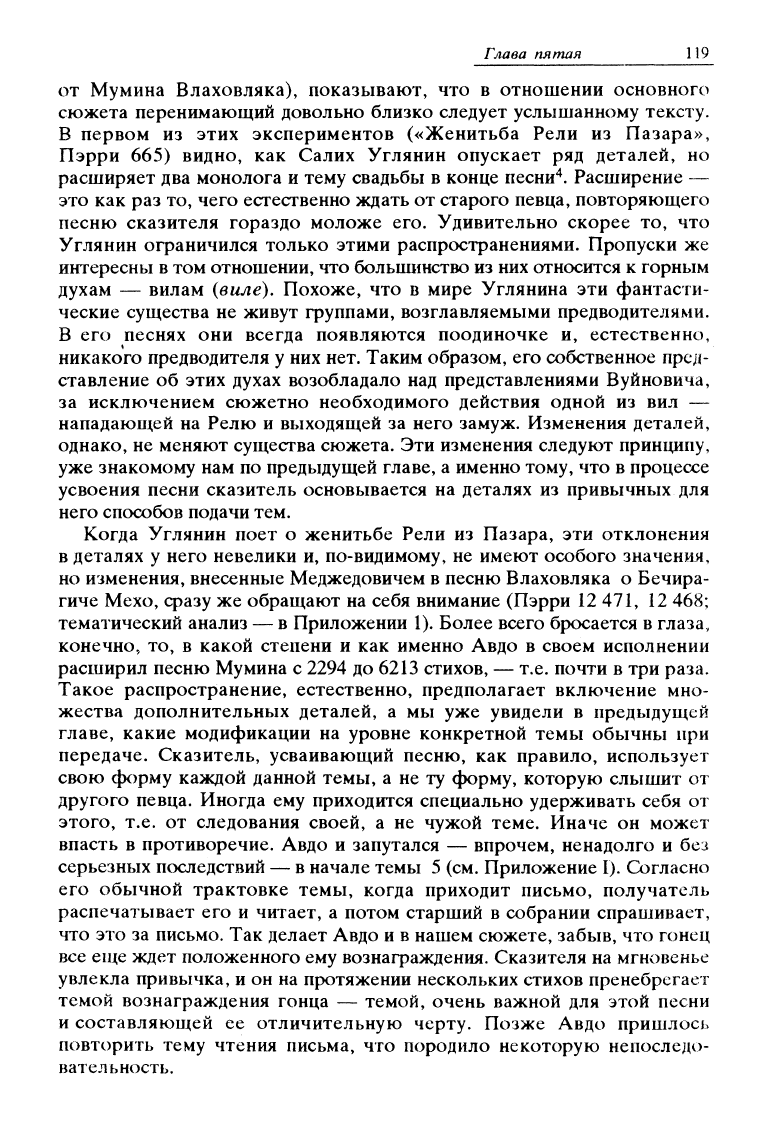
Глава
пятая
119
от Мумина Влаховляка), показывают, что в отношении основного
сюжета перенимающий довольно близко
следует
услышанному тексту.
В первом из этих экспериментов («Женитьба Рели из Пазара»,
Пэрри
665) видно, как Салих Углянин опускает ряд деталей, но
расширяет два монолога и
тему
свадьбы в конце песни
4
. Расширение —
это
как раз то, чего естественно ждать от старого певца, повторяющего
песню сказителя гораздо моложе его. Удивительно скорее то, что
Углянин ограничился только этими распространениями. Пропуски же
интересны в том отношении, что большинство из них относится к горным
духам
— вилам (виле). Похоже, что в мире Углянина эти фантасти-
ческие существа не
живут
группами, возглавляемыми предводителями.
В его песнях они всегда появляются поодиночке и, естественно,
никакого
предводителя у них нет. Таким образом, его собственное пред-
ставление об этих
духах
возобладало над представлениями Вуйновича,
за исключением сюжетно необходимого действия одной из вил —
нападающей на Релю и выходящей за него замуж. Изменения деталей,
однако,
не меняют существа сюжета. Эти изменения
следуют
принципу,
уже знакомому нам по предыдущей главе, а именно
тому,
что в процессе
усвоения песни сказитель основывается на деталях из привычных для
него способов подачи тем.
Когда Углянин поет о женитьбе Рели из Пазара, эти отклонения
в
деталях у него невелики и, по-видимому, не имеют особого значения,
но
изменения, внесенные Меджедовичем в песню Влаховляка о Бечира-
гиче Мехо, фазу же обращают на себя внимание (Пэрри 12 471, 12 468;
тематический анализ — в Приложении 1). Более всего бросается в глаза,
конечно,
то, в какой степени и как именно
Авдо
в своем исполнении
расширил песню Мумина с
2294
до 6213 стихов, — т.е. почти в три раза.
Такое распространение, естественно, предполагает включение мно-
жества дополнительных деталей, а мы уже увидели в предыдущей
главе, какие модификации на уровне конкретной темы обычны при
передаче. Сказитель, усваивающий песню, как правило, использует
свою форму каждой данной темы, а не ту форму, которую слышит от
другого
певца. Иногда ему приходится специально удерживать себя от
этого,
т.е. от следования своей, а не чужой теме. Иначе он может
впасть в противоречие.
Авдо
и запутался — впрочем, ненадолго и без
серьезных последствий — в начале темы 5 (см. Приложение Г). Согласно
его обычной трактовке темы, когда приходит письмо, получатель
распечатывает его и читает, а потом старший в собрании спрашивает,
что это за письмо. Так
делает
Авдо
и в нашем сюжете, забыв, что гонец
все еще
ждет
положенного ему вознаграждения. Сказителя на мгновенье
увлекла привычка, и он на протяжении нескольких стихов пренебрегает
темой вознаграждения гонца — темой, очень важной для этой песни
и
составляющей ее отличительную
черту.
Позже
Авдо
пришлось
повторить
тему
чтения письма, что породило некоторую непоследо-
вательность.
