Пантелеева И.А. Всеобщая история искусства
Подождите немного. Документ загружается.


ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция 140. Направление «символизм» в живописи к.XIX – н. ХХ вв.
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-941-
Мир картин Моро – это зачарованный мир фантасмагорических
пейзажей, призрачной архитектуры и дремотных состояний. Пейзажу
сообщаются качества одушевленности, человеку – неподвижности.
Принцип «необходимого великолепия» - богатство иного мира, мира
душевных движений, устремлений в иное. Моро: драгоценности, роскошь,
великолепие, богатство аксессуаров – атрибут божественного (изображений
Мадонны). «Танцующая Саломея» (1876). Узор обтекает героиню: вязь
золотых линий покрывает фигуру. Подобным образом покрыты фигура
служанки и фона – пульсирование орнамента – сцена колеблется – ритм
танца Саломеи, танец, приносящий смерть, желание, приносящее смерть.
«Гесиод и Муза» (1891): силуэты персонажей ритмично колеблются,
как стебли растений, раскрывающиеся наподобие неведомого цветка. Темные
скалы, сжимающие пространство по сторонам, расступаются в верхней
части, открывая лазурь неба со звездой и мраморным храмом на горе. Такое
построение выталкивает фигуры вверх, создавая впечатление их медленного
взлета. Метафора подъема к вершинам Парнаса на крыльях поэтического
вдохновения.
Цветолинейная организация, концентрируя в себе духовное
содержание, выявляет помыслы природы, скрытые за ее телесной оболочкой.
Соотношение изобразительного сюжета и регулятивной схемы создает
игру непрестанных переходов конкретного в абстрактное, зримо
присутствующего в подразумеваемое, что и составляет специфику
символизма.
Свои картины Моро сопровождал подробным комментарием,
разъясняющим назначение фигур и отдельных деталей, т.е. картины имеют
развернутую идейную программу.
«Юпитер и Семела» (1896). Античный миф о возлюбленной Зевса,
испепеленной сиянием его лучей и в смертный час давшей жизнь богу
Дионису, художник превращает в картину мистико-пантеистического
видения. Все видимые формы – лишь первый план, фигуры в своем слиянии,
в неразрывном единстве друг с другом и с окружающим призрачным
пространством образуют воспаряющее целое.
4
4
.
.
А
А
н
н
а
а
л
л
и
и
з
з
с
с
и
и
м
м
в
в
о
о
л
л
и
и
ч
ч
е
е
с
с
к
к
и
и
х
х
з
з
н
н
а
а
к
к
о
о
в
в
в
в
п
п
р
р
о
о
и
и
з
з
в
в
е
е
д
д
е
е
н
н
и
и
я
я
х
х
Э
Э
.
.
М
М
у
у
н
н
к
к
а
а
В произведениях символизма визуальное понятие иконического
статуса, раскрываемое в процессе диалога зрителя с произведением,
характеризуется принципиальной незавершенностью, открытостью для
дальнейших этапов самодвижения. Каждый отдельный художественный знак
не исчерпывает свое контекстное значение той ролью, которую играет в
объединении иконического характера. Определенность изображения,
связанная с сюжетом, мировоззренческой позицией автора, мироотношением
эпохи конца XIX в., не способна окончательно «замкнуть» знаковое целое,
формируемое в диалоге-отношении зрителя с произведением «Крик»
Эдварда Мунка.

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция 140. Направление «символизм» в живописи к.XIX – н. ХХ вв.
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-942-
Знаки «человек», «мост», «фьорд», «берег», «небо», «крик»
раскрываются в своих всеобщих значениях. Лицо и фигура персонажа на
переднем плане лишены индивидуальных характеристик, нивелированы все
измерения его конечного существования (пол, возраст, рост, черты лица и
т.п.). Это дает основание обозначить данный персонаж - «Человек вообще».
Изображение моста также лишено определенности, и для стоящего на
нем «Человека вообще» мост является символом жизненного пути.
Пейзаж, организуемый знаками неба, воды, берега, не связан своим
значением с определенным пространством и временем – изображаемое
событие происходит одновременно нигде и везде на Земле.
Изображенный крик не только не соотносится с конкретным
переживанием (горем, болью, печалью и т.п.), но также не может быть
определен как крик конкретного изображенного человека, поскольку
представлен с нарушением физиологии – рот решен только контуром,
отсутствует цветовое различие раскрытого рта и лица персонажа. Это есть
символ экзистенциального крика «Человека вообще» по отношению к
Вселенной.
Определение всеобщих значений символических знаков провоцирует
образование личностных смыслов. Природа знаков, раскрываемых в диалоге-
отношении с произведением «Крик» такова, что они вызывают внутреннюю
неуспокоенность зрителя. Каждый символ находится в единстве значений и
смыслов. Значение символа «Человек» кристаллизуется в смысловом
качестве «Я», которое максимально концентрирует и наполняет личностным
содержанием знаковое значение «все люди», «каждый человек».
Неопределенность пейзажного пространства позволяет данному знаку
приобрести смысловую нагрузку места и времени действия, актуального для
всякого зрителя. Изображение черепа, помимо знаковой функции внутренней
сущности человеческого лица, также обретает в коммуникации со зрителем
значение маски смерти. Сопоставление данных элементов позволяет
заключить, что смертность, конечность составляет ведущее качество
человеческого существования. Человек изображен обнаженным в
собственной смертности. Печать смерти лежит на каждом человеке, сообщая
всякому чувство безграничного отчаяния; это позволяет раскрыть
личностный смысл изображенного крика - крика экзистенциальной тоски
каждого зрителя. Обнажение смертности, конечности человеческого
существования, доходя до своего предела, с неизбежностью становится
источником противоположного движения: осознав свою конечность, зритель
готов совершить движение к бесконечности, предлагаемое ему
произведением. Человек выступает в качестве связующего звена,
опосредующего собой земное и небесное. Изображение головы Человека
(источник крика) является точкой пересечения, в которой человеческое и
нечеловеческое взаимооборачиваются, вступая в отношение взаимного
слияния, со-бытия. Душа преодолевает границы тела, криком низводя тело до
потери собственных границ, и приобретает качество духовности – выходит в
пространство коммуникации человеческой духовности и Абсолютной
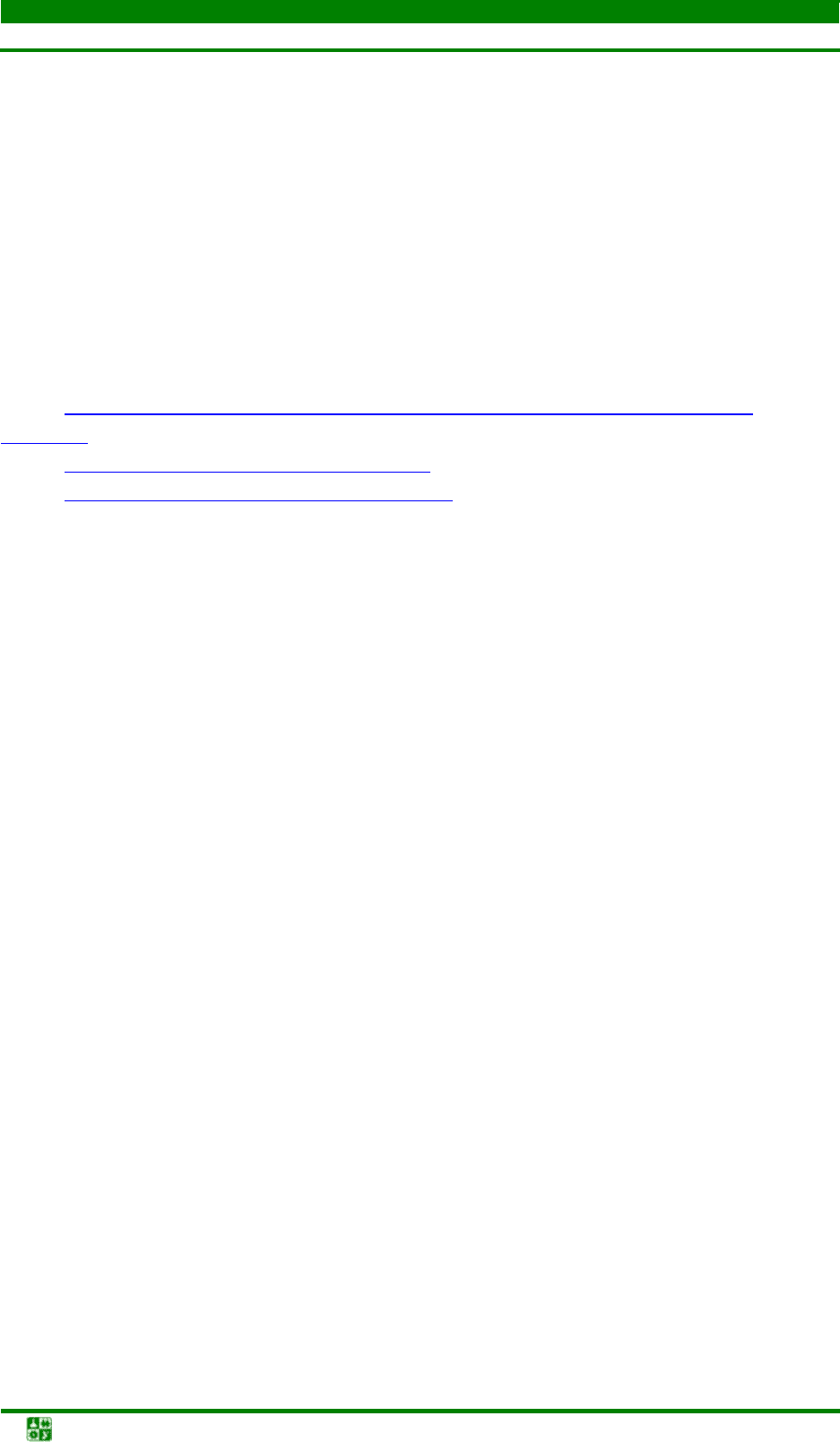
ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция 140. Направление «символизм» в живописи к.XIX – н. ХХ вв.
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-943-
духовности. Человек снимает в себе все единичное, наполняется качеством
всеобщего. Через крик отказа от своей смертной конечности он вступает в
диалог-отношение с Абсолютным бесконечным, обретает себя как часть этой
бесконечности. Крик смерти оборачивается криком вечной жизни, которым
наполнено ярко-красное небо.
Л
Л
е
е
к
к
ц
ц
и
и
я
я
1
1
4
4
1
1
.
.
С
С
п
п
е
е
ц
ц
и
и
ф
ф
и
и
к
к
а
а
т
т
в
в
о
о
р
р
ч
ч
е
е
с
с
т
т
в
в
а
а
х
х
у
у
д
д
о
о
ж
ж
н
н
и
и
к
к
о
о
в
в
г
г
р
р
у
у
п
п
п
п
ы
ы
«
«
Н
Н
а
а
б
б
и
и
»
»
П
П
л
л
а
а
н
н
л
л
е
е
к
к
ц
ц
и
и
и
и
1. Общая характеристика художественной деятельности группы
«Наби».
2. Специфика творчества М.Дени.
3. Специфика творчества Э.Вюйара.
1
1
.
.
О
О
б
б
щ
щ
а
а
я
я
х
х
а
а
р
р
а
а
к
к
т
т
е
е
р
р
и
и
с
с
т
т
и
и
к
к
а
а
х
х
у
у
д
д
о
о
ж
ж
е
е
с
с
т
т
в
в
е
е
н
н
н
н
о
о
й
й
д
д
е
е
я
я
т
т
е
е
л
л
ь
ь
н
н
о
о
с
с
т
т
и
и
г
г
р
р
у
у
п
п
п
п
ы
ы
«
«
Н
Н
а
а
б
б
и
и
»
»
В 1889 г. сложилось объединение художников, назвавших себя «Наби».
Наби – слово древнееврейского происхождения, означает «пророк».
Деятельность группы «Наби» - это разновидность символизма в
западноевропейском искусстве конца XIX – начала ХХ вв.
Представители: Морис Дени, Пьер Боннар, Эдуар Вюйар, Поль Рансон,
Поль Серюзье, Анри-Гаспар Ибель. К группе примыкали: Феликс Валлотон,
Керр-Ксавье Руссель, Жорж Лакомб, Аристид Майоль, Огюст Казалис,
венгерский художник Йожеф Риппль-Ронаи, голландец Ян Веркаде.
Решающую роль в художественном становлении этих людей сыграло
творчество Поля Гогена.
Наби еженедельно собирались в мастерской Рансона, которую
именовали храмом. Сакрализация творческого процесса. Эти собрания
проходили в особой атмосфере игрового церемониала. Каждый из
участников кружка (пророков) получил ритуальное имя: Серюзье – Наби с
сверкающей бородой, Вюйар – Зуав, Дени – Наби красивых икон, Боннар –
Очень японский Наби, Казалис – Наби с неуверенной речью. В группе была
принята особая тайнопись, знаковое обозначение понятий. Крест в виде
греческой буквы «тау» служил символом Абсолюта, круг обозначал вечный
цикл, треугольник – идею, та же фигура, повернутая острым концом вверх –
духовную устремленность.
Попытки игрового включения в воображаемую атмосферу восточных
верований воссоздавали в малом масштабе более общие тенденции к
возрождению мистически
х доктрин и ритуалов. В 1889 г. вышла книга
Э.Шюре «Великие посвященные», которая произвела особенно сильное
впечатление на Серюзье и Рансона.

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция141. Специфика творчества художников группы «Наби»
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-944-
Деятельность наби неотторжима от истории театра символизма. Они
делали программы и афиши к спектаклям, создавали декорации. Поэтическая
условность символистского театра предполагала условность сценографии.
Прославленный сатирический фарс Альфреда Жарри «Убю-король» впервые
увидел свет в их оформлении. Работали они и над спектаклями
возрождающегося тогда театра марионеток.
Другая сфера деятельности наби – декоративно-прикладное искусство.
Деятельность наби охватывала разные сферы декоративного искусства –
керамику, фарфор, ковроделие, ткачество, живописные панно, витражи.
Можно сказать, что наби подготовили ар нуво как искусство религиозного
преображения реальности. Стремление к созданию целостного пластического
объекта направляло их творческие поиски и осуществлялось в формах
«малого синтеза» - в искусстве книги, в системе декоративных росписей.
Теоретиками группы был
и Морис Дени и Поль Серюзье. В статьях
Дени были сформулированы основные принципы религиозного символизма.
Можно выделить две группы внутри объединения «Наби»: группу
религиозных символистов, понимавших форму как выражение объективного
духа (Дени, Серюзье, Веркаде), продолжаются традиции религиозной
живописи Поля Гогена; и группу «интимистов», стремившихся к
поэтической идеализации повседневного мира (Боннар, Вюйар, Руссель).
Общая характеристика метода художников группы «наби»:
использование средневековых легенд и тем Священного Писания в качестве
сюжетов; сознательное принижение роли сюжета; традиция народного
искусства (например, старофранцузские гобелены); традиция средневековых
витражей; традиция Возрождения эпохи Кватроченто; традиция японской
гравюры; плоскостность композиции; главенство цветового начала;
орнаментальность; декоративная обобщенность форм; музыкальность
ритмов; расположение форм подобно инкрустации; работа в области
декоративно-прикладного искусства (эскизы для ковров, витражей, мебели,
утвари и т.п.).
2
2
.
.
С
С
п
п
е
е
ц
ц
и
и
ф
ф
и
и
к
к
а
а
т
т
в
в
о
о
р
р
ч
ч
е
е
с
с
т
т
в
в
а
а
М
М
о
о
р
р
и
и
с
с
а
а
Д
Д
е
е
н
н
и
и
(
(
1
1
8
8
7
7
0
0
-
-
1
1
9
9
4
4
3
3
)
)
Для живописи М.Дени актуальны традиции Фра Анжелико, в целом
искусства Кватроченто, Сандро Боттичелли. В 1889 г. Дени публикует
статью «Определение неотрадиционализма». Традиции Рафаэля, Пуссена,
античного искусства. Традиции Гогена, синтетизма – этап перехода от
субъективной чувственности к объективным концептуальным построениям.
«Шествие на Голгофу» (1889): традиции Гогена; обобщенность формы,
евангельский сюжет соединяется с изображением современных монахинь.
Фигуры – единая восходящая по диагонали волнообразная масса,
изображены со спины, лишены лиц, индивидуальности, равно как и Христос,
несущий крест. Ритм склоненных голов организует медленное восхождение.
Поперечина креста останавливает движение, фиксируя внимание на
центральном персонаже. Крест как предел. Символическое изображение
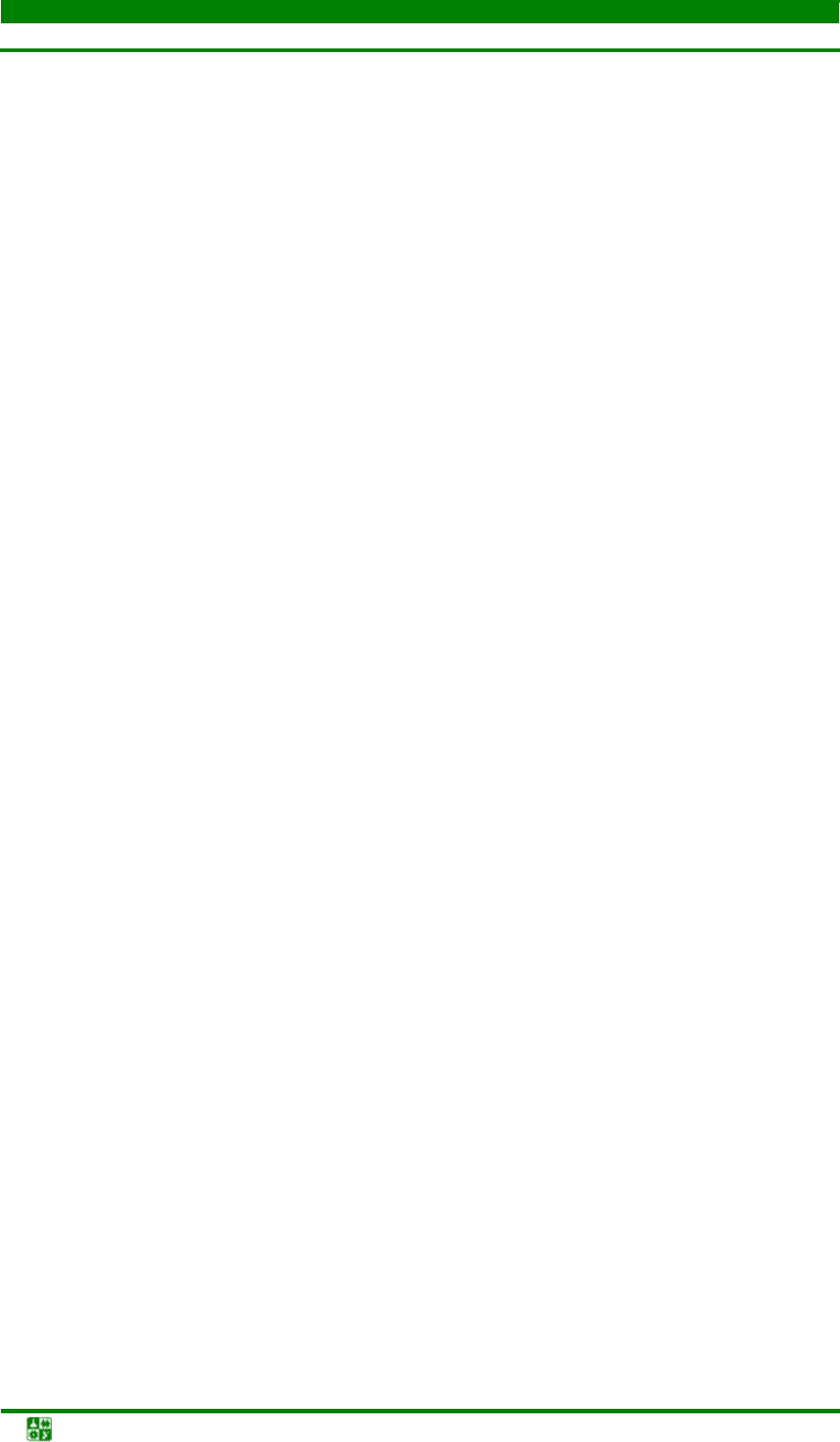
ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция141. Специфика творчества художников группы «Наби»
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-945-
постепенного восхождения к высотам веры от тяжести гнетущей человека
земной жизни.
«Католическое таинство» (1889; реплики 1890 и 1891 гг.). Иконография
Благовещения с определенными изменениями. Фигура Богоматери
канонична (прототип – Дева Мария из композиций Фра Анжелико). Кроме
того: присутствие нимбов, лилии, белой ткани, символически
представляющей Богородицу. Ангел заменен современными служителями
культа: священником с раскрытым Евангелием и двумя мальчиками-
служками со свечами. Если традиционно книга в руках – это атрибут Марии,
то здесь с книгой идет вестник. Соединение новозаветного сюжета с
современностью: пространство современное наполняется символами
божественного присутствия. Идея вечности божественного откровения.
Евангельский текст направляется к Марии. Что примечательно, в книге нет
слов, это чистые страницы, сам свет, сам символ Книги (Библия - книга;
Евангелие - Благая весть). Т.е. само понятие Евангелие здесь раскрывается в
своем этимологическом значении благой вести, которая доносится до Марии.
Живопись для Дени – христианское искусство по преимуществу.
Живопись воздействует на чувства через рассуждения, в символе
объединяются чувственное и интеллектуальное начала: зрение и умозрение.
«Ангельское приветствие» - данная работа передает идею
взаимопроницаемости, сообщении чувственного и сверхчувственного миров.
Сопоставляются две фигуры – женщины у окна и за окном – даны в
зеркальном подобии. Оконное стекло – прозрачная грань между двумя
мирами.
В живописных произведениях Дени часто используется прием
совмещения нескольких изображений одного и того же персонажа в одном
произведении. Например: «Тройной портрет Марты» (1892) – его невеста с
глазами закрытыми, полуприкрытыми, открытыми – символическое
изображение трех состояний человеческой души: самосозерцания,
пробуждения, пребывания в реальности. «Портрет Ивон Лероль в трех
позициях» - позирующая на террасе, собирающая цветы, удаляющаяся в
глубь сада: постепенное углубление, погружение фигуры, отделение тени (от
светлого отделяется темное), части человеческого существа, которая
отделяется от тела. Первая фигура – портрет, две другие – символичны:
мотивы сбора цветов и прогулки по дороге – метафоры жизни.
Для дома Лероля была написана декоративная композиция «Лестница в
листве» (1892). Четырехкратное повторение одной и той же женской фигуры
(Ивон), - идея поэтапного восхождения вверх, к небесным садам. Второе
название – «Поэтическая арабеска» - внимание переключает на формальный
аспект. Условное сокращение цветовых диапазонов, завихрения платьев,
орнаментальная трактовка листвы, сложный рисунок просветов между
листьями, уравновешивающий фигуру и фон – типичные проявления
становящегося стиля Арт Нуво.
Условная гармонизация формы в живописи Дени сочетается с
внутренней конфликтностью, выразившейся в частности в двойных

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция141. Специфика творчества художников группы «Наби»
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-946-
названиях. Единство таких противоположностей, как портретные черты и
условная символичность; жанровый характер сцен и декоративность. Это
поддерживается и единством противоположностей идейного ряда таких
ценностных понятий, как духовность, классика, формальная организация,
разум и таких понятий, как точное знание, современность, натура,
чувственность. Отдавая предпочтение высшим ценностям, Дени тем не менее
понимал, что «душа может проявляться только через посредство натуры».
При этом, если целостное мировоззрение классической эпохи воспринимало
мир в гармоничном единстве материального и идеального, то Дени, как
мастер рубежа XIX-ХХ вв. постоянно ощущал разрыв между тем и другим.
«Марта у посудного шкафа или святая Марта». Один и тот же
персонаж в нескольких ипостасях, в нескольких аспектах своего существа –
физическом и душевном.
Картины Дени есть встраивание христианского космоса в маленькую
ячейку современного быта: священнодействия в современных интерьерах,
евангельские персонажи – с портретными чертами. В 1919 г. Дени, вместе с
Руо и Девльером создал «Мастерские религиозного искусства», так
обозначив программу своего творчества.
«Чашка чая» (1892) – жанровый сюжет чаепития в саду. Но второе
название: «Мистическая аллегория». Влияние японской чайной церемонии,
понимаемой в дзэнской традиции как ритуал просветления души. Стилизация
формы под японскую гравюру – крупные уплощенные полуфигуры,
пересечения волнообразных линий, светлый колорит. Портретное
изображение здесь также удвоено. Жесты и взгляды свидетельствуют о
таинстве, обряде, происходящем здесь. Белая посуда на подносе сливается с
пейзажем, становится его частью, как бы иллюстрирует дальневосточные
представления о присутствии большого мира в малом.
В искусстве М.Дени реализовывалась программа возвращения веры
безбожному веку, внедрения ценностей религии в самое течение
современной жизни.
М.Дени также делал иллюстрации и обложки к произведениям
Верлена, Дюжардена, Жида, Малларме. Некоторые темы произведений Дени
находятся в тесном согласовании с поэзией символизма. Например, тема
неприкаянной, скитающейся души («Мудрость» Верлена) у Дени,
иллюстрирующего этот цикл неоднократно, проявляется в таких
произведениях, как «Процессия под деревьями» (1892). Бесплотные и
безликие фигуры («одетые в белое души», по выражению художника)
движутся будто в состоянии транса. Это живые воплощения литаний
монахинь. Крон деревьев не видно, но витиеватые тени от них четко падают
на землю и белые одеяния. Эти ажурные иероглифы – знаки «высшего» мира,
стремительно разбегаются по вертикальным и горизонтальным
поверхностям, не подчиняясь реальному пространству.
Метафора Ш.Бодлера «природа – храм» реализована М.Дени в
произведении «Пейзаж с зелеными деревьями» (1893). Зеленые стволы
деревьев с невидимыми кронами возносятся как колонны, а белые фигуры и

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция141. Специфика творчества художников группы «Наби»
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-947-
ангелы как бы совершают литургию в соборе самой природы. Второе
название – «Буки Кердуэлла» отсылает к средневековому сказанию
артуровского цикла.
Белофигурные композиции Дени – своего рода интеллектуальные
диаграммы, понятийные построения в пространстве.
3
3
.
.
С
С
п
п
е
е
ц
ц
и
и
ф
ф
и
и
к
к
а
а
т
т
в
в
о
о
р
р
ч
ч
е
е
с
с
т
т
в
в
а
а
Э
Э
д
д
у
у
а
а
р
р
д
д
а
а
В
В
ю
ю
й
й
а
а
р
р
а
а
(
(
1
1
8
8
6
6
8
8
-
-
1
1
9
9
4
4
0
0
)
)
Расцвет творчества Э.Вюйара падает на период 1890-х гг. Именно в
молодости Вюйар написал свои наиболее поэтичные произведения,
создавшие ему славу тонкого лирика и мастера живописного интерьера.
Картина «В постели» (1891), выдержанная в светлых мягких тонах,
отмечена влиянием понт-авенской школы – предельный лаконизм формы,
плавные, но твердо прочерченные линии силуэта. Тема
взаимопроникновения человеческого и божественного обозначена
помещением над спящей креста в виде τ - знака Абсолюта. Этот символ
неоднократно встречается и в других работах наби. Фигура героини
превращается в символ, букву, знак, вплавляемый в единый текст со знаком
Абсолюта.
Период 1890-1891 гг. был временем самоопределения, поисков
собственного стиля.
Из всех современных теорий его больше всего привлекала концепция
реализма Эдмона Дюранти (писатель и литературный критик), изложенная в
манифесте «Новая живопись», написанном в защиту Дега, где была изложена
программа живописи, полностью отвечающая личным склонностям Вюйара.
Дюранти писал, что только современность может предложить художнику
достойные искусства темы, необходимо уметь обнаружить суть человеческой
жизни в его повседневных занятиях, в типичном для него окружении, что
приводит к актуализации художественного приема слияния фигуры и фона:
взаимопроникновения человеческого и светового пространства, которое его
окружает. Весьма важно для понимания сути метода Вюйара привлечение
концепции театра Метерлинка, Гауптмана. У Метерлинка в пьесах царит
атмосфера неподвижности; краткие реплики разрывают тишину, а затем
сцена вновь погружается в молчание. Медитативный характер действия
распространяется и на зрителя. Бездейственные персонажи тем самым
намекают на действие внутреннее, невидимое и безгласное. Метерлинк в
«Сокровище смиренных» развивал идею о «трагическом в повседневности»,
гораздо более глубоком, чем трагизм великих событий. Подобные темы у
Вюйара: «Супружеская жизнь», «Под лампой» (1892), «Читающая» (панно),
«Библиотека» (панно).
Вюйару свойственно то же ощущение духовной наполненности,
интимной причастности вещей человеческой жизни.
Традицией для Вюйара было искусство Рембрандта и Вермеера
(искусство которого было открыто в конце XIX в.). Концепция света.
Например, «Под лампой»: золотой свет ярко обрисовывает контуры фигур.

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция141. Специфика творчества художников группы «Наби»
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-948-
Волшебство света, преображающего предметы земного мира. Преображение
заключается в нивелировании единичного качества того действия, которым
заняты персонажи (чтение, либо шитье, либо беседа), перевод его в качество
священнодействия, внутренняя среда духовного общения через свет. Эта
освещенная среда отделена от всего остального пространства. Чудесное
совершается на площадке подчеркнуто обыденного. Бездействие именно и
задает драматическое напряжение.
Вюйару актуальны принципы тайны, неизвестного, изображения
невидимого через видимое. Действительность содержит сомнения, вопросы,
неоднозначна в своих проявлениях.
Формы сливаются в единое целое, невозможно с первого взгляда
отделить фигуру от фона. По мере наблюдения «появляются» все новые и
новые фигуры персонажей. В персонажах нивелировано все индивидуально
конкретное, лица могут быть вообще не прописаны.
В рисунке тушью «Сидящая девушка» (1891) линии вообще почти
отсутствуют, форма передается расположением узора.
У Вюйара часто используется прием сочетания различных
орнаментальных поверхностей, разных рисунков тканей. Например,
«Штопальщица» (1891): диван, накидка, платье – разные узоры, декор
чрезвычайно активен, поглощает светотень, нет моделировки объема.
Материя передает подвижность пространств.
Вюйар использовал технику клеевой живописи, типичной для
театральных декораций. Трудоемкая техника, процесс требует длительных
пауз, необходимых для высыхания клея, что позволяло увеличить время
обдумывания, рефлексии над процессом создания произведения.
В 1890-е гг. Вюйар создает четыре цикла декоративных панно для
украшения частных домов: проблемы соотношения плоскости и глубины.
Для дома Демаре (1892). Например: «Ателье» (фриз). Для дома Натансона:
публичные сады (1894). Например: «Сад Тюильри», «Два школьника».
Вытянуты по вертикали. Фигуры вытягиваются за деревьями. Традиции
искусства XVIII в.: Ватто, пьесы Бомарше. Имитация проемов в стене,
открывающихся в наружное пространство.
1896 г.: четыре панно для библиотеки в доме Вакеса. Лучшая
монументально-декоративная работа Вюйара. Ансамбль в соотношении с
реальной комнатой – сложная иллюзионистическая игра. В картинах
изображено то, что реально происходит в помещениях. Зеркала, обращенные
внутрь. Плавное растекание картинного пространства в реальное.
«Читающая» - зеркало, в котором отражается фигура девушки. Погружение в
чтение, в инобытие чтения, растворяющее фигуру для реальности.
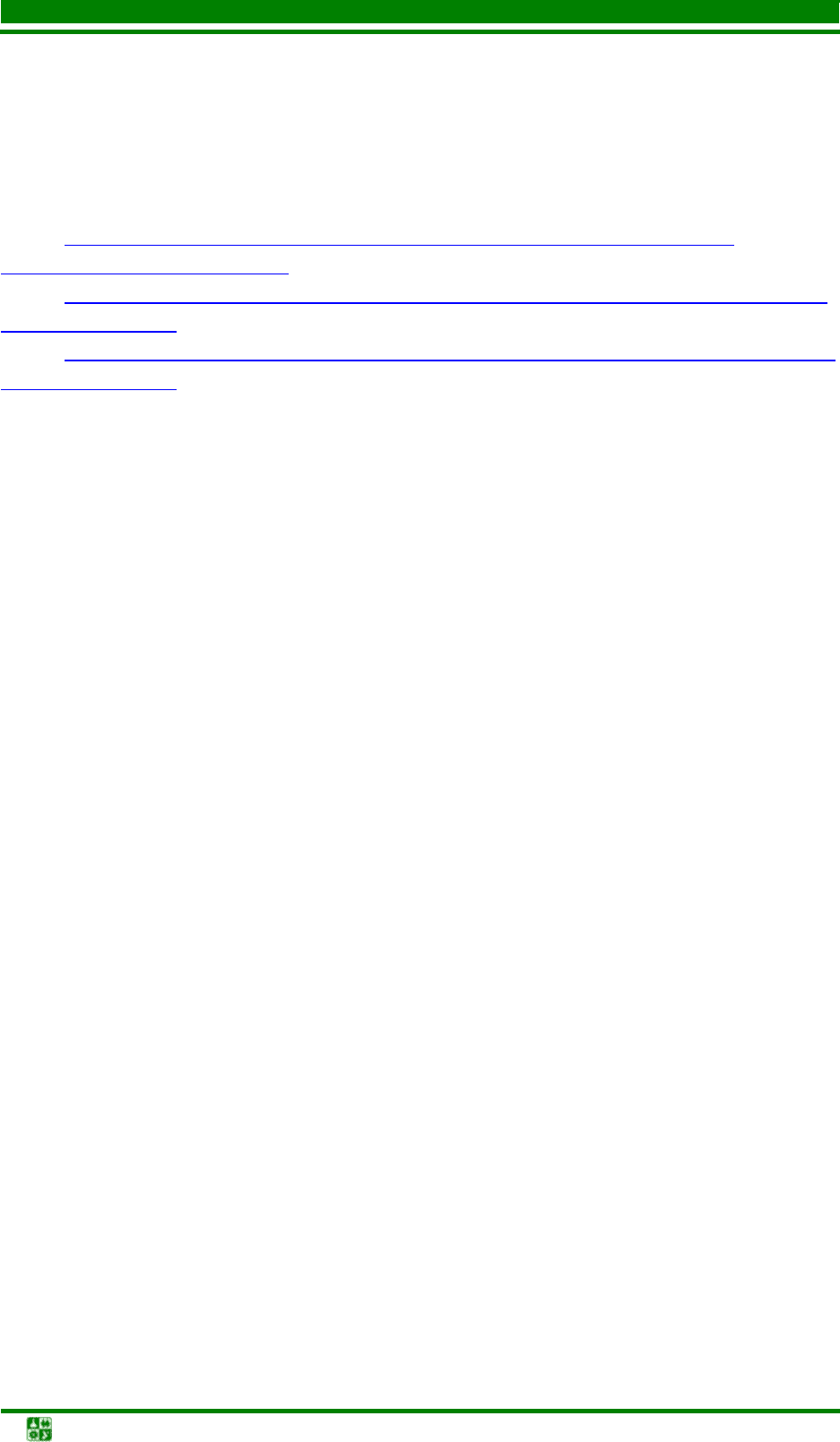
ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-949-
Л
Л
е
е
к
к
ц
ц
и
и
я
я
1
1
4
4
2
2
.
.
С
С
т
т
и
и
л
л
ь
ь
«
«
м
м
о
о
д
д
е
е
р
р
н
н
»
»
в
в
п
п
р
р
о
о
и
и
з
з
в
в
е
е
д
д
е
е
н
н
и
и
я
я
х
х
и
и
з
з
о
о
б
б
р
р
а
а
з
з
и
и
т
т
е
е
л
л
ь
ь
н
н
о
о
г
г
о
о
и
и
с
с
к
к
у
у
с
с
с
с
т
т
в
в
а
а
З
З
а
а
п
п
а
а
д
д
н
н
о
о
й
й
Е
Е
в
в
р
р
о
о
п
п
ы
ы
к
к
.
.
X
X
I
I
X
X
–
–
н
н
.
.
Х
Х
Х
Х
в
в
в
в
.
.
П
П
л
л
а
а
н
н
л
л
е
е
к
к
ц
ц
и
и
и
и
1. Художественные традиции произведений изобразительного
искусства стиля «модерн».
2. Художественные приемы произведений изобразительного искусства
стиля «модерн».
3. Основные темы и сюжеты произведений изобразительного искусства
стиля «модерн».
1
1
.
.
Х
Х
у
у
д
д
о
о
ж
ж
е
е
с
с
т
т
в
в
е
е
н
н
н
н
ы
ы
е
е
т
т
р
р
а
а
д
д
и
и
ц
ц
и
и
и
и
п
п
р
р
о
о
и
и
з
з
в
в
е
е
д
д
е
е
н
н
и
и
й
й
и
и
з
з
о
о
б
б
р
р
а
а
з
з
и
и
т
т
е
е
л
л
ь
ь
н
н
о
о
г
г
о
о
и
и
с
с
к
к
у
у
с
с
с
с
т
т
в
в
а
а
с
с
т
т
и
и
л
л
я
я
«
«
м
м
о
о
д
д
е
е
р
р
н
н
»
»
формы природы брались за основу орнамента искусства арнуво.
традиции восточного искусства – арабское, в частности (отсюда –
арабеска);
традиции эпохи рококо;
традиции искусства средневековья (средневековые традиции ремесла
возрождаются; искусство готики);
в XIX в. – традиции искусства Уильяма Блейка, разработавшего тип
героя/героини – парящие фигуры, соединенные в арабески, подобные клубам
дыма; особое значение в творчестве У. Блейка имела извивающаяся линия;
в XIX в. - традиции искусства братства прерафаэлитов (Уильям Дайс,
Форд Мэдокс Браун, Данте Габриэль Россетти) – в произведениях данных
мастеров был также создан миф женственности;
Модерн – продолжение приема импрессионистов:
взаимопроникновение человеческого и природного пространств реализуется
в приобретении фигурами человеческими качеств природного мира.
народное ремесло – принцип творчества собственными руками, все
изделия рукодельные; кроме того, сложный рисунок орнаментики был
свойством средневекового искусства Британских островов, начиная с
кельтов.
2
2
.
.
Х
Х
у
у
д
д
о
о
ж
ж
е
е
с
с
т
т
в
в
е
е
н
н
н
н
ы
ы
е
е
п
п
р
р
и
и
е
е
м
м
ы
ы
п
п
р
р
о
о
и
и
з
з
в
в
е
е
д
д
е
е
н
н
и
и
й
й
и
и
з
з
о
о
б
б
р
р
а
а
з
з
и
и
т
т
е
е
л
л
ь
ь
н
н
о
о
г
г
о
о
и
и
с
с
к
к
у
у
с
с
с
с
т
т
в
в
а
а
с
с
т
т
и
и
л
л
я
я
«
«
м
м
о
о
д
д
е
е
р
р
н
н
»
»
Орнаментальность. «Мир орнамента модерна есть материализация той
«атмосферы души», о которой говорил Метерлинк».
Орнамент воплощает символический характер изображений, орнамент
составлен из символов, обладающих всеобщим характером, что само по себе
выводит изображение за пределы единичной определенности, расширяя круг
значений до всеобщего;

ТЕМА 40. ЗАПОДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Лекция 142. Стиль «модерн» в произведениях изобразительного искусства Западной Европы к.XIX – н. ХХ вв.
Всеобщая история искусства. Курс лекций
-950-
Символизм - неотъемлемое качество искусства модерна; причем
качеством символа обладает сама линеарная форма.
Арабеска – так характер линии искусства модерна обозначался
современниками и так вошел в историю. Под арабеской понимается
божественная линия, парящая в воздухе. Особенно концентрированно
принцип арабески представлен в работе «Удар бича». «В стиле модерн
арабески становятся универсальной формой художественного выражения. …
Каждая линия рождает линию, ей противостоящую. Подобно тому, как
всякое движение вызывает противоположное действие в духе незнающего
конца колебания; колебания формы, где находят выражения движения души,
специфическое настроение, состояние которого воплощается посредством
линии. … Арабеска превращается в форму переживания мира».
Под понятием «арабеска» долгое время подразумевали весь набор
форм исламского Востока, геометрические, растительные и животные
мотивы. В 1893 г. Алоиз Ригль в книге «Вопросы стиля. Основные
положения к истории орнамента» ограничил понятие «арабеска»
характерным для исламского искусства мотивом раздваивающегося усика
растения. Последователи ислама придерживались точки зрения, что
художник не должен создавать образ на основе явления, воспринятого
зрением и пережитого в реальности, т.е., противясь божественному
установлению, стремиться к тому, чтобы преходящие земные формы
наделять чертами вечного. В искусстве ислама нет антропоморфных форм,
т.е. искусство построено на основе принципиального расконечивания,
символического проникновения в то, что стоит за явлением.
Арабеска концентрированно воплощает невидимые силы, действующие
в природе, электричество, энергия сфер, незримо пронизывающая собой
воздух, которым дышит человек.
Арабески на плоскости организуют особое ритмическое движение.
Одилон Редон арабеску определял так: «Она – если не давать точного
объяснения – является рефлексией человеческого сознания, которую сила
воображения вплела в свою игру; ее воздействие будет побуждать к
фантазиям, уровень которых зависит от чувствительности и силы
воображения».
Анри Бергсона можно назвать философом, идеи которого во многом
стали основой ар нуво. Его метод, основанный на принципе творческой
интуиции, центральными понятиями имеет такие, как «длительность»,
«жизненный порыв», «творческая эволюция» - нематериальные термины для
обозначения модерна как длящегося порыва органических линий. За
конкретными вещами стоит интенция. В своем сочинении «Жизнь и
творчество Равессона», вошедшем в сборник «La pensee et le mouvant»
(1904), Бергсон цитирует «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи: «Тайна
искусства рисования заключена в том, чтобы раскрыть в любом предмете тот
особый способ, с помощью которого извивающаяся линия, будучи
основополагающей осью, развивается в некое целое, подобно тому как волна
всегда из середины распространяется наружу и дает возникнуть многим
