Платонов О.А. Очерки истории русской иконы
Подождите немного. Документ загружается.

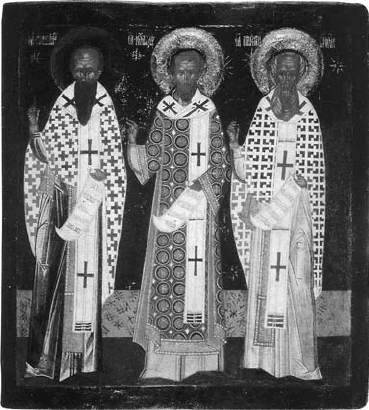
231
вописцев к стилевому постоянству,
нельзя говорить об архаизме или
провинциализме псковского искус-
ства XVI в.
В ансамбле деисусных икон сто-
личное влияние, проявляющееся в
иконографии, в увлечении художни-
ка красивой линией, в утрированной
утонченности облика персонажей,
сочетается с типично псковским не-
сколько сумрачным колоритом, где
эффектный золотисто-желтый фон
живет как воспоминание о светя-
щемся аурипигменте икон конца
XIV – начала XV в.
Полон лиризма и задушевности
образ Богоматери, склонившейся
к Младенцу, в иконе «Богоматерь
Тихвинская с Акафистом» 1-й четверти XVI в. Несмотря на сильно смы-
тый красочный слой, хорошо виден рисунок тонкого нежного лица. Вы-
разительный силуэт Богоматери в густо-вишневом мафории на светло-
костяном фоне, а также плавность линий, согласованность цветовых
отношений, спокойный, гармонический строй композиций в клеймах,
несомненно, навеяны образцами московского искусства. Светлый, почти
акварельный фон горок и архитектурных кулис сопоставлен с корпусно,
по-псковски написанными фигурами. Отдельные иконографические де-
тали отмечены самобытностью в русле местных традиций богословского
утонченного толкования иконописной символики: постепенное нарас-
тание апофеоза Благовещения в цикле клейм, иллюстрирующих Протое-
вангелие Иакова, переданное изменяющейся формой небесной сферы с
тремя лучами – символом Троицы; или символика цвета горок в клеймах
со скачущими волхвами: зеленых (цвет надежды, обновления, познания)
– волхвы в поисках обетованного Мессии, и розовых (цвет «зари ведре-
ной», духовного озарения) – волхвы; несущие радость обретения спасе-
ния всему миру в соответствии с поэтическими строками Акафиста («…
Тоя последоваша зари и ярко светильник держаще ю»). Нюансы колорита,
как и иконографический состав клейм, определенно указывают на диони-
сиевские традиции.
К 1-й половине XVI в. относится икона «Параскева Пятница в жи-
тии». Об этой почитаемой на Руси святой, покровительнице прях и тка-
чих, торговли и брака, псковский художник рассказал только как о му-
Василий Великий, Иоанн Златоуст,
Григорий Богослов. Икона. 1-я пол.
XVI в. Псков. 85 х 77 см. ГИМ.
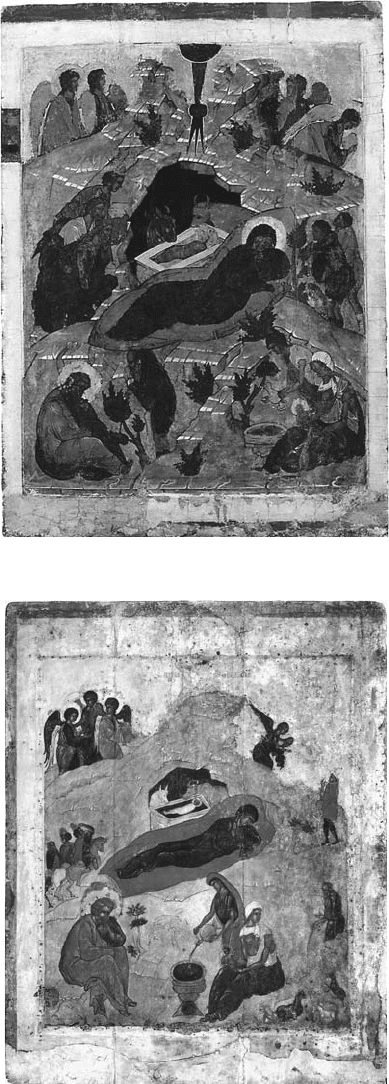
232
Рождество Христово из праздничного чина.
Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 56 см. ПМЗ.
ченице, страдавшей и умершей
за свою веру. Святая предстоит
строго фронтально в рост. Ее силь-
но вытянутую, тонкую, с непро-
порционально длинными руками
фигуру венчает маленькая голова
с темным, без оживок, узким ли-
ком и по-псковски близко постав-
ленными глазами. В правой руке
Параскева держит крест, в левой
– развернутый свиток с текстом
«Символа веры». Фигура лишена
какого-либо намека на движение.
Ее значительность и монумен-
тальность усиливаются тревожно
полыхающей киноварью плаща,
распластанного, как огромные
крылья. Аскетически сумрачный
лик подчеркнут белым цветом
плата, раскинутого по плечам. Об-
раз Пятницы в среднике вполне
соответствует идеалам псковско-
го искусства классической поры.
Палитра тоже излюбленная, тра-
диционная. Однако персонажи
клейм не имеют эмоциональной
характеристики: каждая из сцен
– бесконечно длящееся действо,
даже драматические коллизии за-
печатлены как застывшие мгнове-
ния. Основные цвета – красный и
зеленый – звучат нежнее и мягче,
чем в среднике, благодаря введе-
нию сближенных оттенков. Сере-
бристый фон усиливает впечатле-
ние чистоты, свежести и простора.
В соотношении пропорций сред-
ника и клейм, фигур и фона есть
своя глубокая логика, определяю-
щая удивительную целостность и
гармоничность этого памятника.
Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в.
73 х 53 см. ПМЗ.
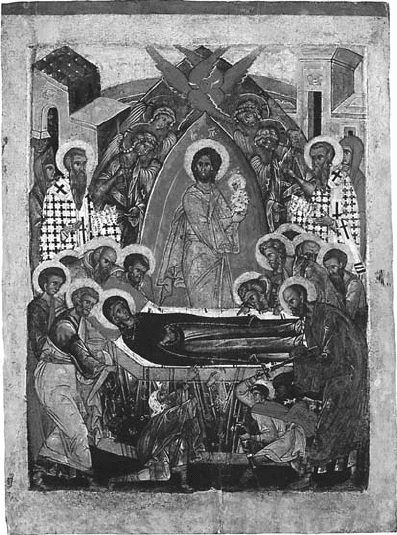
233
Самобытные черты псков-
ской школы с ее удивительным
сочетанием драматизма и тонкого
лиризма ярко предстают в другой
иконе XVI в. – «Успение и киев-
ские князья Владимир, Борис и
Глеб». Эта икона, написанная на
продолговатой, более древней до-
ске, не сохранившей авторскую
живопись, совмещает два сюжета,
что соответствует псковской тра-
диции. В древнерусской живопи-
си среди икон на сюжет «Успения»
аналог этому памятнику по силе и
непосредственности выражения
человеческой скорби мы найдем
лишь в псковской же иконе XIII в.
«Пароменское Успение» из Тре-
тьяковской галереи. Апостолы не-
складны, большеголовы, с круп-
ными ступнями ног. Композиция
иконы предельно тесна, сдавлена. Ритму склоненных к ложу горестных
фигур апостолов вторят словно покачнувшиеся в плане архитектурные
формы, представленные объемно и вещественно. Их неустойчивость,
вместе с беспокойно теснящимися персонажами, придает всей сцене ха-
рактер смятенности, растерянности. Художник сострадает и сопережива-
ет, он пишет не Божественное Успение (усыпление), а скорбную утрату.
Произведение впечатляет непосредственностью эмоций, выраженных
наивно и искренне.
Народные черты проявляются и в таких памятниках XVI в., как «Ог-
ненное восхождение пророка Ильи» и «Чудо Георгия о змии». В подобных
иконах церковный сюжет часто бессознательно превращался в чудесное
сказочное изображение.
Небольшой образ с огненным восхождением Ильи определенно свя-
зан с народным творчеством и, вместе с тем, раскрывает важную для вы-
сокого богословия идею преемственности Ветхого и Нового Заветов язы-
ком простым и ясным. Художественная ценность памятника заключается
не только в образной духовной характеристике, но и в лаконичности изо-
бразительного языка и декоративной законченности линейной и цвет-
ной композиции. Вся сцена исполнена движения. Крайнее напряжение
выражает фигурка ученика Елисея, изо всех сил вцепившегося в милоть
Успение. Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 56 см. ПМЗ.
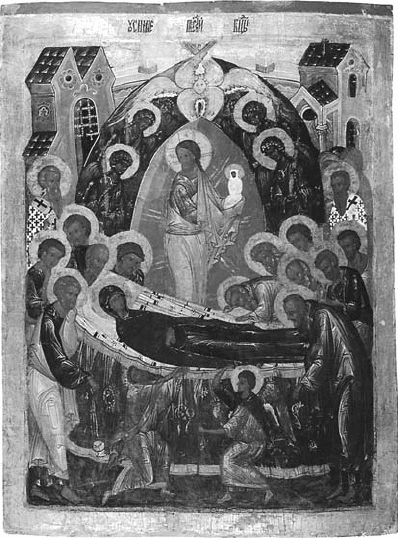
234
(плащ, подбитый овчиной) учите-
ля. Уносится вихрем колесница,
мелькают быстрые ноги крылатых
коней… Их внутренний напор и
вращение колеса подчеркиваются
скользящими белильными движ-
ками.
Чрезвычайно сильны фоль-
клорные мотивы в «Чуде Георгия
о змии». Легенда о воине Георгии,
который победил страшного змия,
требовавшего человеческих жертв,
и спас царевну и всю страну Ли-
вийскую, получила широкую по-
пулярность еще в домонгольский
период. Уже тогда Георгий почи-
тался как воин-мученик, считал-
ся заступником русских воинов и
назывался Победоносцем. Позже
св. Георгий стал почитаться и как
покровитель землепашцев и па-
стухов. Заказчик иконы собрал
всех необходимых для его благополучной жизни святых: тут и заступник
скотоводов св. Власий, и святые «коневоды» Флор и Лавр. Чистые и яркие
краски, богатое узорочье доспехов, сплошь покрытых орнаментом, кудря-
вые горки передают полное сказочной фантастики щедрое многообразие
легендарного события. Подобные иконы в это время создаются и в новго-
родских провинциях, и на Севере.
Специфические интонации псковской школы живописи в XVI в. в
полную силу звучат в многочисленных чиновых иконах, украшавших
когда-то иконостасы скромных псковских церквей. Стиль псковской жи-
вописи в составе иконостаса видоизменяется, подчиняясь необходимости
гармонического единения составных частей комплекса: палитра высвет-
ляется, усиливается плоскостное начало и, как следствие, – значение си-
луэта, смягчается напряженность образного строя, уменьшается или со-
всем исчезает разнообразие драматических оттенков.
Типичные черты псковской школы живописи выступают в празднич-
ных иконах 1-й половины XVI в. из церкви Архангела Михаила и церкви
Николы погоста Любятово. Оба ряда имеют стилистическое и иконогра-
фическое сходство. Иконам присущи свойства именно того направления
зрелого псковского живописного искусства XVI в., в основе которого ле-
Успение из праздничного чина. Икона.
Сер. XVI в. 91 х 68 см. ПМЗ.
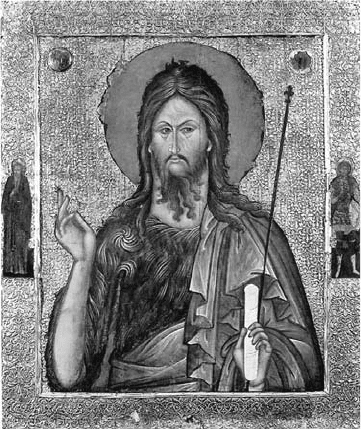
235
жат народные традиции. Следуя духу этих традиций, иконописцы, создав-
шие праздники из церкви Архангела Михаила, стремились к предельной
«достоверности» в передаче легендарных событий. Привлечение иконо-
графических схем, основанных на апокрифах, богослужебных текстах и
песнопениях, где наиболее ярко засвидетельствована «историчность»
сюжетов и истинность догматов (Богоматерь среди жен-мироносиц и
«тайна плащаницы», сохранившей очертания тела Христа, воскресшего
во плоти, в «Женах-мироносицах у гроба Господня», «камень кругл» со
следами ступней Христа в «Вознесении» и т. д.), внимание к наблюден-
ному в реальной жизни призваны утвердить подлинность изображаемо-
го действа. Фигуры апостолов в композиции «Омовение ног», данные в
сложных красивых ракурсах, материально убедительны. Несмотря на не-
которую приземистость пропорций, они стройны. Ритм линий и силуэтов
продуманно тонко подчеркивает и выделяет главные персонажи. Легкое
движение связывает между собой все фигуры. Архитектурные кулисы –
два строгих здания базиликального типа и стена, повторяющая круговую
композицию сидящих апостолов, – выполнены светлыми охрами и зе-
ленью. Тем значительнее выделяются темные лики, на которых яркими
бликами вспыхивают светлые пятна вохрений. Позы апостолов передают
разнообразные состояния: покорность Божественному провидению, глу-
бокое размышление, сосредоточенную задумчивость, наивное удивление.
В этой иконе есть любопытная деталь, известная нам только в росписях
середины XVI в. Благовещенско-
го собора в Москве, где работали
псковские мастера: в верхней части
композиции, на площадке, образуе-
мой капителью колонны, нарисован
петух, который символизирует пред-
стоящее отречение апостола Петра.
Однако в древнехристианской симво-
лике петух знаменует Воскресение, а
поскольку в последующей за омове-
нием ног Тайной вечери Иисус уста-
новил таинство Евхаристии – залог
будущего Воскресения человечества,
то смысл изображения значительно
усложнился и здесь является своео-
бразным эпиграфом к следующему
сюжету, который, возможно, входил
в состав праздничного ряда или под-
разумевался.
Иоанн Предтеча с Иоанном Лествичником
и Федором Стратилатом. Икона.
2-я пол. XVI в. Псков. 86 х 71 см. ПМЗ.
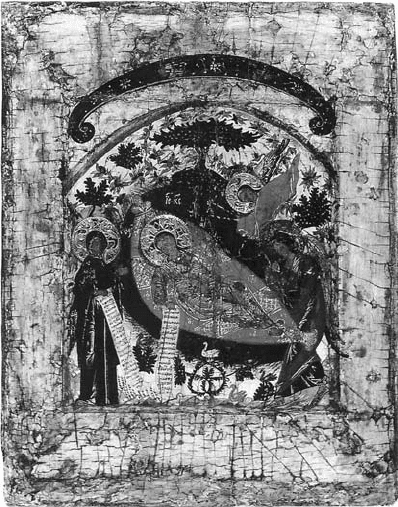
236
Во всех иконах этого ряда есть моменты, в которых чувствуется наблю-
дение жизни, что-то свое, свежее, что вносят мастера-псковичи в старую
схему. Например, изображение жен-мироносиц в оригинальных головных
уборах, островерхих киках, которые носили в ту пору псковитянки.
Иконографический состав части любятовских икон и общая лири-
ческая интонация сцен в них обнаруживают ориентацию на московский
образец, но изобразительное решение архангельского и любятовского
комплексов – объемная пластика форм, энергичный рисунок, контраст-
ная красно-зеленая палитра – свидетельствует о сохранении принципов
псковского живописно-экспрессивного стиля XV в. Так, например, празд-
ничный ряд и иконы середины XVI в. из деисусного и пророческого чинов
церкви Николы со Усохи, иллюстрирующие дальнейшее развитие псков-
ского стиля. В иконах Деисуса еще чувствуется монументальность и лако-
низм искусства минувшего столетия. Внушительные фигуры двух Иоан-
нов – Златоуста и Богослова, – как бы освещенные золотым светом фона,
трактованы с большим пониманием декоративности. В облике Иоанна
Богослова – размах и мощь. Его шагающая фигура полна энергии. Экс-
прессия образа подчеркнута живописными драпировками темно-зеленого
гиматия и «огненным» краем Евангелия в руке святого. Иоанн Златоуст
облачен в роскошный священнический саккос, украшенный орнаментом
золотых крестов в темно-синих
кругах и каймой «золотого шитья».
В изящных и плавных линиях си-
луэта его фигуры – благость и по-
кой. Изображение земли в цветах,
на которой стоит Златоуст, види-
мо, имеет отношение к теме рая,
где «красиво и светло, муравно и
цветно», да и сами апостолы вос-
принимаются как «духовные цве-
ты бессмертного луга». Сумрач-
ный, благородный колорит одной
иконы оттеняет праздничную
многоцветную палитру другой;
объединяясь, они создают еди-
ную гамму. Цветовые и линейные
ритмы Деисуса, его пластика про-
должены в иконах праздничного
чина. В них сохраняется показа-
тельная для псковского искусства
эмоциональность, но прежняя
Спас Недреманное Око. Икона. 2-я пол. XVI в.
Псков. 31,5 х 24 см. ПМЗ.
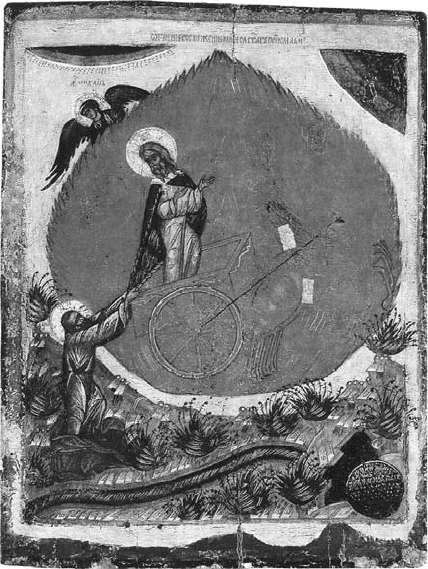
237
возвышенность настроения зачастую сменяется внешней позой не без
влияния тенденций западноевропейского искусства. Во вкусе времени
усиление повествовательности и стремление передать естественные чело-
веческие чувства. Отсюда трогательные мотивы с элементом жанра: «ла-
скание» Марии в «Рождестве Богоматери», изнеможенная Богоматерь в
«Распятии», Адам, целующий руку Христа, в «Сошествии во ад». Неко-
торые детали архитектурных декораций, такие, как островерхие башни с
флюгерами, здание с башенками, напоминающее рыцарский замок, об-
наруживают знакомство с немецкими гравюрными листами.
Традиции высокого искусства хранит совмещенный ярус деисусного
и праздничного чинов небольшого иконостаса середины XVI в. из церк-
ви Дмитрия Мироточивого. Несмотря на миниатюрные размеры, иконы
наделены чертами монументального стиля. В медленном, плавном ритме
движутся легкие, чуть вытянутых пропорций фигуры Деисуса. Уверенной
рукой смоделированы складки одежд. Цвет в одеждах как бы перетекает
из одного изображения в другое: на вишневом гиматии вспыхивает голу-
боватый рефлекс от сине-зеленого хитона соседнего персонажа, создавая
редкие цветовые сочетания. В сценах праздничного ряда можно обратить
внимание на несколько любо-
пытных деталей. В «Троице»
(композиция которой отдален-
но напоминает рублевскую схе-
му) нога левого ангела повер-
нута так, что видна обнаженная
ступня. Как здесь не вспомнить
символику «ступни» Христа в
пророчествах и гимнах в свя-
зи с ипостасью Второго Лица
Троицы – Богочеловека в русле
антитринитарных ересей этого
времени. «След» Христа в про-
рочествах – символ Его чело-
веческой сущности, грядущего
Воплощения. Бога Сына при-
нято изображать с открытой
ножкой, повернутой ступней к
зрителю, как на иконах Бого-
матери с Младенцем. Написав
одного ангела с крестчатым
нимбом, усвоенным Христу, а
другого – с открытой ступней,
Огненное восхождение пророка Илии.
Икона. XVI в. Псков. 79 х 59 см. ПМЗ.
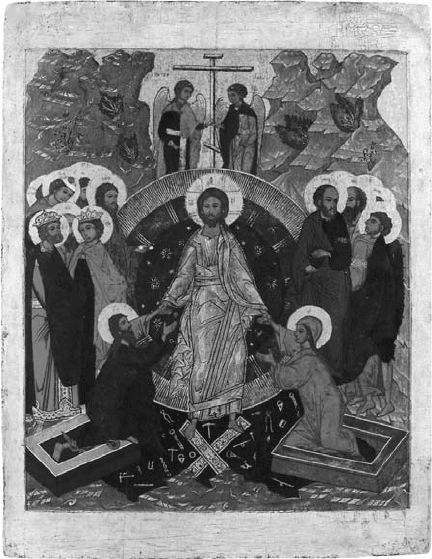
238
как Спаса-Младенца, художник как бы подчеркнул «равночестность» всех
Лиц Троицы. Художник-богослов – не редкость для псковского иконо-
писания, особенно в XVI в. Достаточно сослаться на знаменитые иконы,
созданные после пожара 1547 г. для Благовещенского собора Московского
Кремля. В сцене «Введение во храм» ангел, как причудливый цветок, «вы-
растает» из велума; в «Рождестве Богоматери» величественно склонившая
голову Анна уподоблена образам античного искусства; завораживает ге-
ральдическая композиция сцены «Вознесение». Мастера, создавшие это
произведение, проявили замечательное чувство меры и вкус, используя
достижения др. центров, прежде всего столицы, и сохраняя верность соб-
ственным.
Художественные достоинства иконы «Спас Недреманное Око» опре-
деляются специфическими интонациями псковской живописи развитого
XVI в., живущими воспоминаниями о классическом наследии Пскова: это
и цветовая гамма насыщенных теплых тонов, золотой ассист, известная
динамичность (фигура ангела), орнаментальность, но более всего ориги-
нальность иконографического извода. Сюжет, рассматриваемый на Руси
как иллюстрация стихов 3–4
Псалма 120, несущего охрани-
тельный смысл, что отразилось
в его надписании: «Ниже воз-
дремлет храняй тя, Се не воз-
дремлет, ниже уснет, храняй
Израиля», в интерпретации
псковского художника при-
обрел неожиданный ракурс
благодаря иконографическим
новациям.
Все необычно в этой ико-
не: свитки в руках Богомате-
ри и Христа; непонятное на
первый взгляд сплетение трав
и плывущие птицы в нижнем
регистре, раскидистое дерево
на горке, необычной формы
«узел», завершающий нижний
край одра, и ряд др. деталей.
Ответы на вопрос о причи-
нах появления столь уникаль-
ных деталей можно получить,
если взглянуть на икону со
Сошествие во ад. Икона. Кон. XVI в. Псков.
90,5 х 70,4 см. Из собрания М. де Буара
(Елизаветина). Происходит из праздничного
ряда церкви Успения с. Пароменья в Пскове.
239
стороны характерной для эпохи приверженности сложным символико-
дидактическим темам и реалий антиеретической полемики. Очередной
всплеск «нестроения» в середине XVI в. возглавил Феодосий Косой. Он
и его сторонники («люторы») хулили Христа и Богоматерь, «ругались
кресту» и не признавали литургических таинств. Эта маленькая иконка
представляет целый полемический трактат в защиту Православия, а ее ав-
тор был одним из тех иконописцев-философов, которыми так славился
Псков. Чего стоит, например, упомянутый «узел» в форме рыбьего хвоста:
«рыба» – древнехристианский символ Христа, та же «материя» Евхари-
стии, что хлеб и вино, пресуществляемые в Тело и Кровь Христову во вре-
мя Таинства Литургии, истинность которой и пытается утвердить худож-
ник условным иконописным языком. Удивительный «травяной» вензель
из греческих букв – имя Богоматери – знак, служащий ключом к потаен-
ному смыслу иконы, в которой подчеркнута принадлежность Богоматери
к Божественной сущности. Так иконописец защищает догмат Воплоще-
ния, утверждает почитание Девы Марии как Матери Божией.
«Лука, пишущий икону Богоматери» (середина XVI в.) также произ-
ведение редкой иконографии. По легенде, евангелист Лука, покровитель
художников, сам был незаурядным живописцем и первым запечатлел
образ Богоматери в трех типах. На иконе Лука пишет т. н. «Богоматерь
Иерусалимскую» – вариант Одигитрии (Путеводительницы). Богоматерь
позирует стоя, легко придерживая Младенца Христа, задумчиво склонив
голову в типе, близком Деве Марии из устюжского «Благовещения», т. о.
привносится мотив, подчеркивающий незыблемость и истинность дог-
мата Воплощения. Голова Луки слегка повернута – он словно прислуши-
вается к голосу стоящего за ним ангела – Софии Премудрости Божией,
энергичным жестом благословляющего творение, – изображение, восхо-
дящее к образу античной Музы-вдохновительницы. Существует мнение,
что искусство Византии такой иконографии не знало, а если и существо-
вали греческие памятники с подобным изображением, то они были край-
не редки. Сочетание деталей в публикуемой иконе уникально. В ней, как
в «Недреманном Оке», живут отголоски тех же богословских споров. Как
в раннюю пору борьбы с язычеством, так и в упомянутое «смутное время»
обращение к авторитету предания о евангелисте Луке, написавшем образ
Богородицы, к символике животворящей силы Премудрости – промыслу
Воплощения как началу домостроительства Божия – было не случайно, а
имело декларативное значение. Это предание играло важную роль в си-
стеме доказательств достоверности иконного образа, овеянного свято-
стью нерукотворных образов, и в позднее время.
Характерный для XVI в. интерес к действительности нашел дальней-
шее развитие в иконописи XVII в. Особое внимание к сюжетной стороне
240
живописи, подробная повествовательность, реальные формы архитек-
туры, пейзажа, одежды – все эти качества иконы «Избранные святые и
Савва Крыпецкий с житием последнего», созданной в н. XVII в., прису-
щи уже не только Пскову. Средник иконы с изображением четырех свя-
тых еще традиционен, но образы уже лишены прежней значительности и
монументальности, живопись стала монохромной. Художник использует
оттенки коричневого и зеленого цветов, лишь изредка оживляя колорит
пятнами белил и киновари. Зато в клеймах все события, иллюстрирую-
щие житие прп. Саввы, зафиксированы очень тщательно, живо и снабже-
ны пространными надписями на полях иконы. Первое клеймо рисует град
Псков с реками Великой и Псковой, крепостными стенами и Троицким
собором. Художник стремится к более широкому и реальному изображе-
нию природы, подчеркивает достоверность изображенных архитектурных
построек – монастырей Елеазаровского и Крыпецкого. Особое значение
имеет неоднократно повторяющееся изображение многочисленных мо-
настырских зданий Крыпецкого монастыря, построенных в 1557 г. Изуче-
нию истории этого ансамбля, затерявшегося в лесной глуши и болотах,
могут помочь клейма нашей иконы. Мы словно становимся свидетеля-
ми как легендарных, так и подлинных исторических событий. Любопыт-
но клеймо, рассказывающее об осаде Крыпецкого монастыря войсками
польского короля Стефана Батория. Надпись на полях гласит: «Лета 7089
(1581 г.) приде король литовский ко граду Пскову… хоте разорити обитель
сию… множество вооруженных… убо убегоша прочь».
Как художественный, так и исторический интерес представляет не-
большая новгородская икона «Антоний Римлянин». Памятник ярко ха-
рактеризует иконопись XVIII столетия: ювелирно-тщательная живопись
охристо-зеленоватый, несколько глухой, но по-своему изысканный коло-
рит – признаки общерусского стиля конца эпохи древнерусского искус-
ства. Кроме того, икона сообщает нам имя художника, год своего создания:
«1680 июня в 24 день писал Семен Никитин», а также подробную топогра-
фию древнейшего новгородского Антониева монастыря. Значение под-
писных икон трудно переоценить. В данном случае благодаря «летописи»
на иконе стало возможным установить ее новгородское происхождение.
Такие иконки для подарков («промены») были популярны среди палом-
ников, для которых и создавались. Известно, что подобного рода иконы
в большом количестве создавались и в Псково-Печорском монастыре: в
1684 г. иконописцем Моисеем Никитиным написано около 40 образов –
«пядниц» (небольших иконок типа публикуемой) на сюжет «Успения» в
память о чудотворной монастырской святыне.
Особая заслуга принадлежит псковским художникам в области иконо-
графии, где Псков всегда шел впереди др. русских школ. Самостоятельное
