Поляков Л. Арийский миф. Исследование истоков расизма
Подождите немного. Документ загружается.

Гобино). Не показательны ли вышеупомянутые черты Леру и Мишле, которые отрицали «мужскую»
Христианско-спиритуалистическую генеалогию («мы не являемся ни детьми Иисуса, ни Моисея» — Леру) и
породнились, во имя науки, манипулирующей материей,
219
но не знающей, как быть с духом, с «материнской» или «материальной» Индией (мать-материя, «Индия есть
чрево мира» — Мишле).
«Материнские образы» подразумевают возвращение к Золотому Веку, вплоть до растворения во Вселенной
(= возвращение в материнскую утробу), тогда как отец являет собой образец, которому стремятся подражать
(отождествление) или преодолеть; его образ более конструктивен в том смысле, что возникает на основе
реальности и вдохновляет планы на будущее. Остается еще способ связи
между индивидами и коллективом
в смене поколений, поскольку, с одной стороны, эти образы сосуществуют в скрытом виде у каждого,
приходя к некоему компромиссу, проявляющемуся в темпераменте или «характере», с другой стороны, они
выражаются в «видениях мира», подверженных историческим изменениям. Способ, каким некоторые
авторы XVIII века (и в первую голову Ж.-Ж. Руссо
) обращались к природе, уже характерен в XIX веке
романтические идеологи позволили регрессивным тенденциям появиться свободнее. Современники
говорили об «испорченности века» или о «болезни времени»; Токвиль, критикуя Гобино, уточнял эту мысль:
«...Возомнив, что мы можем себя изменить, мы считаем себя неспособными нас исправить; возгордившись,
мы предались не меньшему унижению; мы верили, что
все можем, сейчас мы полагаем, что ничего не
можем, и нам нравится думать, что, отныне, борьба и усилия напрасны, и что наша кровь, наши мускулы,
наши нервы сильнее нашей воли и добродетели. Это великая болезнь времени: болезнь, полностью
противоположная той, которой страдали наши отцы. Ваша книга: тот способ, каким вы
представляете вещи,
— это приветствует, вместо того, чтобы с этим бороться...»
Упрёк, более подходящий, минуя Гобино, физиологам-материалистам Кабанису, Бруссе и Биша. В
Германии, однако, популярные антропологи — законченные романтики, разделяли человеческий род на
«расы активные» и «расы пассивные», или «расы мужественные» и «расы женственные»: разумеется,
присуждая активность-мужественность «германцам», или «арийцам», — напоминание, что всякая попытка
внести немного ясности в это смешение
неминуемо
220
сталкивается с лабиринтом запутанных следов и хитроумием бессознательного. В этой связи укажем на
интересное различение, предложенное Томасом Манном, между романтизмом собственно и романтизмом «в
кавычках»: «Но-валис и Шлегель, — пишет он, — являются «романтиками в кавычках». Они принадлежат
XVIII веку, они испорчены разумом. Арндт.Геррес, Бахофен, Гримм являются настоящими романтиками,
ибо именно
они были полностью во власти великого возвращения назад, материнской и ночной идеи
прошлого, тогда как у первых преобладала мужская идея — и насколько мужская — будущего...»
В такой перспективе схема «пространственно-временных изменений» 1789—1815 годов, набросанная нами,
позволяет разложить себя на смещение или проекцию прошлое-будущее, — носительницу «мужской идеи»,
и смещение право-лево, открывающее клапан архаических или «ночных» порывов. Речь шла о массовом
вторжении в общественно-политическую жизнь под знаменем романтизма регрессивных тенденций, до
этого лучше сдерживавшихся на
поводке, или более строго подвергшихся цензуре.
Это мнение однажды будет уточнено, проверено и разработано с помощью обширного историко-
аналитического исследования, которое предпримут, надеемся, отважнее и достаточно оснащеннее,
исследователи. Мы же двинемся дальше. Не будем говорить в этой главе о незадачливом Гобино,
игнорировавшемся своими современниками, о его главном вдохновителе сен-симоновце Курте де Лиле, —
обожателе «белой расы», заслуживающем
такую же славу, как и его ученик. Подлинным научным гарантом
арийского мифа во Франции был человек, который участвовал во всех течениях своего времени и старался
всем понравиться, став неофициальным идеологом Третьей Республики, — Эрнест Ренан.
Как пропагандист арианизма, Ренан заслуживает быть рядом со своим другом Максом Мюллером: хотя
блеск одного распространялся на романские страны, другого — англосаксонские и германские, они
пользовались равным авторитетом у международного научного сообщества. Запишем на их счёт и
предостережения, делавшиеся ими после 1870—1871 годов против политического использования смешения
языков и
221
рас. И всё же, эта самокритика осталась с ними, а их сочинения по франко-прусской войне пролагали себе
дорогу из энциклопедии в энциклопедию и от учебника к учебнику.
Известна роль немецкой философии и филологии в становлении бывшего семинариста и менее известна его
привязанность к барону Экштайну, которого он предложил Мюллеру арбитром в их споре в 1855 году, и
которого называл «провидцем в науке». Притяжение, которое молодой Ренан испытывал к Германии,
нарастало. «Германия, несколько лет бывшая моей учительницей, изрядно сформировала меня
по своему
образу», — согласился он в 1890 году; в 1856 году в письме Гобино он философски оправдывал эту страсть:
«Вы написали замечательную книгу, полную силы и оригинальности, но не пригодную для понимания во
Франции или, скорее, пригодную для непонимания. Французский ум мало внимает этнографическим
соображениям: Франция слишком мало думает о расе, потому что факт существования расы практически
стерт из ее памяти. Я встречаюсь сам с той же трудностью в лингвистике: французский язык, являясь лишь
остатком четвертой или пятой производной, есть одна из причин, в силу которых французский ум не готов
воспринимать подлинные принципы сравнительной филологии. Все это могло появиться только у такого
народа, как немецкий, придерживающегося еще своих
первобытных корней и говорящего на языке, воз-
никшем сам по себе...»
Одобрение Ренаном книги Гобино говорит на своём собственном языке, как неодобрение ее Токвилем.
Замечательна идея языка, который «возник сам по себе», идея «самосотворения», пущенная в обиход,
давным-давно, немецкими гуманистами, ради прославления Германии. Но не знакомство с Шоттелем,
Гердером или Гриммом должно было вдохнуть в Ренана презрение к цветным или «диким
» расам —
поскольку эти суждения были в ходу во Франции его времени. Только суть доктрины арианизма он поддел у
немецких мыслителей, придав ей окраску теологических представлений, с которыми и остался.
Итак, «старый остаток католицизма» заставил его приписать двум «великим благородным расам — арийцам
и семитам» общее происхождение, проводя строгое различие
222
по эпохам: «Семитам больше нечего делать (...) оставим германцев и кельтов; сохраним наше «вечное
евангелие»; христианство (...) единственно христианство остается во власти будущего.» Или: «Однажды
выполнив миссию (монотеизм) , семитская раса быстро опустилась и предоставила арийской расе одной
возглавлять судьбы человечества.» Семиты — пришедший в упадок народ; арийцы — избранный народ.
Смешение между расой, языком и
религией, между христианским «новым Израилем» и фантазией об «Ари»
экс-семинарист Ренан демонстрирует лучше, чем кто-либо. Соперник Шлегеля и Гримма — Ренан-поэт,
созерцая в духе «гору Имаус» (Гималаи?), где он видит колыбель белого человечества, предлагает такую
антроподицею:
«Поприветствуем эти священные вершины, где великие расы, заключавшие в себе будущее человечества,
будут созерцать бесконечность и положат начало вещам, изменившим лицо земли — морали и разуму.
Когда арийская раса после тысячелетних усилий станет хозяйкой планеты, на которой она живет, ее первой
обязанностью будет изучение этого таинственного региона (...) ни одно место на
земле не играло роли,
сравнимой с той, которую сыграла безымянная гора или долина, где человек осознал себя таковым. Будем
горды (...) древними патриархами, заложившими в сердце Имауса основы того, что мы есть, и чем' мы
будем.» Такова патриархальная генеалогия, вытесняющая генеалогию халдейскую. «Хозяйкой планеты»
арийская раса станет благодаря своему разуму и своей
науке, иначе говоря, благодаря «вдумчивому,
независимому, строгому, отважному, философскому исследованию слова истины, доставшейся в удел этой
расе». Этому достоянию арийцев Ренан противопоставлял «ужасающую простоту семитского ума,
сковывающего человеческий мозг, закрывая его для любой возвышенной идеи...»
Признанный научный авторитет — Ренан в 1863 году стал автором всемирно известной «Жизни Иисуса»,
переведённой сразу же после ее публикации на десять языков. Сюжет книги подсказал ему терминологию
его молодости, и семитская раса не замедлила стать обратно еврейским народом: народом, описанным в
традиционной манере таким образом, что неверные евреи объединили свои протесты с
223
протестами правоверных католиков. «(Ренан) просит прощения у католиков за принижение Христа,
которого он сделал человеком, понося евреев, сделавших из него мученика» (Адольф Кремье). И в других
сочинениях Ренана та же неопределенность в терминологии: с одной стороны — семитская раса или
еврейская раса; с другой — индогерман-ская раса, или индоевропейская, или арийская, с
предпочтением
последнему выражению. Осознавая французскую обстановку, полюбопытствуем: не были ли арийцы
стыдливыми германцами, или, в еще более глубоком смысле — плохими германцами... Огромный успех
«Жизни Иисуса» (10 000 экземпляров продано за считанные месяцы, 321 брошюра с критикой или
опровержением) вызвал подражания. В следующем году старый Мишле стал в ряд со своей «Библией
человечества»:
«...Моя книга получила рождение на солнечном свете, у наших родителей — детей света: арийцев,
индийцев, персов, греков (...)
Троице света, излучаемой Мемфисом, Карфагеном, Тиром и Иудеей, противостоит тёмный гений полуночи.
Египет — своими монументами, Иудея — своими писаниями — дали свои Библии, сумрачные, оказавшие
глубокое воздействие (...) В день, когда наши библейские родители показались при свете, мы отчетливо
заметили, насколько еврейская Библия принадлежит другой расе. Она несомненно велика, и всегда
останется такой, хотя
и малопонятной, и полной непристойных намеков — прекрасной и неверной, как
смерть...»
Прочие арийские Библии не замедлили появиться. Укажем на «Библию в Индии» (1868) Луи Жаколио —
разностороннего автора, обходимого энциклопедиями, чья популярность в то время подтверждается местом,
которое он занимал в библиографиях и каталогах. Жаколио, отдав честь «Индии — колыбели человеческого
рода, старой кормилице могущественных млекопитающих», предложил другую версию универсальной
индоарийской религии. Моисей был Ману
, Иисус — Зевсом. Его отважные этимологии, подтверждаемые
списком «законов Ману», на открытие которых он претендовал, позволили Жаколио «возвести на вершины
Азии истоки Библии и доказать, что воспоминание о колы-
224
бели сохранялось через века: Иисус Христос пришел возродить новый мир, следуя примеру Иезеи Кришне,
возродившему древний мир». Ветхий завет был для Жаколио собранием суеверий, евреи — низким глупым
народом, Моисей — «фанатичным рабом, милосердно воспитанным при дворе фараонов».
Таким же образом пропагандировался и арийский миф. «Библия в Индии» претерпела в считанные годы
восемь переизданий, ее адептом был Вильям Гладстон, веривший, что отыщет в новой Библии аргументы
против дарвинизма — к ужасу Макса Мюллера, который, как мы увидим, взял на себе труд прояснить
суждение премьер-министра Великобритании.
В целом, концепция Индии-праматери не слишком привлекала британцев. В облике «научной истины»
арийский миф обрел таки права гражданства за Ла-маншем, но, когда его крестный отец, Макс Мюллер
заявил с оксфордской кафедры, «что в жилах английских солдат и смуглых бенгальцев течет одна и та же
кровь», он, судя по всему
, уязвил национальную гордость, отказавшуюся от такого родства. Классическое
презрение к коренным жителям, колонизаторов к колонизированным, вносило изрядный вклад в непо-
пулярность индийской родословной, и Р.Шваб даже говорит о британской «индофобии», подтверждая это
Маколеем и Киплингом, но внушительнее для древних и значительных островных традиций.
Обозревая «новые генеалогии», мы могли установить связь между национальной привязанностью англичан
к Библии и научной осторожностью Рэя, Локка, Ньютона.
Эта приверженность Библии, не ослабевшая в викторианской Англии и отныне прозванная
«библиопоклонством», вела к осуждению идей и исследований, считавшихся слишком дерзкими: блестящий
предшественник Дарвина Эдвард Лоуренс не сделал карьеры; основатель геологии Лайел страдал от
социального остракизма. Что касается философии, то философ Дугальд Стюарт отказался принять, «что
классические языки были внутренне
связаны жаргоном дикарей»,
15 Зак. 120!)
225
и отрицал само существование санскрита: по его мнению, Вильям Джонс был введен в заблуждение
браминскими фальсификациями! В отношении происхождения человеческого рода рассказ из книги Бытия
оставался авторитетом и для масс и для воспитанной публики; был отмечен благонравием, которое должно
было предоставить, при необходимости, дополнительные доводы о сверхъестественном характере Библии.
Хотя, следовало
бы, вместе с Томасом Хаксли, поговорить о «мильтоновской гипотезе», из «Потерянного
рая»:
«... Всемогущий,
Вечный отец, ибо — где только его нет?
Внятно своему сыну сказал такие слова:
Сотворим теперь человека по нашему образу,
И подобию и чтобы люди владычествовали
Рыбами в море, птицами в воздухе,
Зверями в полях, всей землей
И всеми тварями пресмыкающимися,
ползающими по земле. Сказав это, от сотворил тебя, Адам, тебя, о человек...»
(Потерянный рай, книга 7
Превосходство, которое ему было пожаловано над всем творением, британский Адам совершенно
естественно распространил и на цветные расы — вплоть до рас европейского континента — и воображение
романистов, вроде Вальтера Скотта, немало поспособствовало укреплению расовых доктрин XIX века. Но,
эти авторы избегали вопроса о пер-воистоках. «Занони» (1842) Бульвера Литтона воспевает славу норманов,
— «греков христианского
мира...», рождённых хозяевами мира, «Сидония» Дизраэли, подняв перчатку в
1844 году, расхваливает выгоды «семитского духа», но, и та и другая, игнорируют Индию и ее первобытные
горы. Ученые выдвигали гипотезы еще интереснее. Весьма популярный в первой половине XIX века
английский антрополог Джеймс Коулз Причард — моногенист, на основе Священного писания, как он сам
это
недвусмысленно заявлял, разработал в 1810-х годах своего рода эволюционистскую теорию, черно-
226
кожих Адама и Евы, понемногу их потомки, всё более цивилизуясь и меняя образ жизни, приобрели белый
цвет. В последующих изданиях (1826 и 1837) своего труда Причард дополнил свою теорию в свете немецких
философских достижений, придя к классическому трёхчленному делению рас на: хамитскую, или
«египетскую», семитскую, или «сирийско-арабскую» и иафетическую, или «арийскую».
Он не сообщил
последней никакого морального или иного превосходства, предпочитая семитскую расу, «которая, включая
в себя все ответвления, в особенности иудеев и финикийцев, может расцениваться как первоначальная и
основная раса во всей человеческой семье». Еще более странно, с точки зрения европейской науки того
времени, выглядел его последователь Роберт Гордон-Латам, этнолог
, первым осмелившийся усомниться в
азиатском происхождении европейцев («Человек и его миграции», 1851).
Определенно, англичане не желали родниться с «Матерью-Индией». И можно себе представить — при
отсутствии переходной мифологии между Библией и Дарвином — какой скандал произведут в старой
Англии «Происхождение видов» и «Происхождение человека». «Предоставим нашим друзьям — ученым,
проповедовать народу, что Адам не существовал в действительности, — писал в 1861 году один журнал, —
и у нас
не будет ни законов, ни культов, ни собственности, поскольку наши человеческие законы осно-
вываются на законах божественных.» Не всем противникам Дарвина было так противно: Дизраэли,
например, довольствовался заявлением, что он за ангелов и против обезьян; но, поставленная так, проблема
исключала дихотомию между арийским и семитским видами со всеми сопутствующими им оценочными
суждениями. Эволюционизм, вызвав известное сопротивление, стал господствующей теорией, и, вслед за
этой нравственной
интеллектуальной революцией, в Англии разошлось понятие арийства, не неся
идеологической или политической закваски и не служило основанием для антисемитских кампаний.
Упорный сторонник «мильтоновской гипотезы» — Гладстон, замечал: «В этой стране агитация против
евреев так же невероятна, как агитация против земного тяготения.» По крайней мере в этом, он оказался
хорошим пророком.
227
Таким образом, в Англии старый Адам был отправлен в музей древностей гораздо позже и, по другому, чем
на континенте. Оригинальные взгляды Шлегеля там никогда не принимались всерьёз: ни один теоретик там
не «отслеживал скрупулезно маршруты, следовавших друг за другом эмигрантов, как если бы это
находилось в архивах главного штаба первобытных арийцев
», если воспользоваться шутливой
формулировкой Томаса Хаксли. В том же стиле этот защитник дарвинизма иронизировал над спорами в
физической антропологии, намереваясь разрешить «со строгой беспристрастностью метиса с удлиненным
черепом, но смуглой кожей». Хаксли не сомневался в существовании расы арийской и расы семитской,
поскольку к концу века научный интернационал возвел этот раздел
в ранг аксиомы; но, стараясь остаться
беспристрастным, он приписывал арийцам «наши искусства (за исключением, быть может, музыки) и нашу
науку», а семитам «сущность нашей религии». После чего пылко цитировал пророков и критиковал от
имени первоначального иудаизма верования современников. В другом случае он сказал: «Мне кажется, что,
если кто и может хулить
правоверное почитание Библии, так это только обыватель-иноверец, который в
литературе, в определенном отношении остающейся вне соперничества, видит только повод для
насмешки...» Затем следовала горячая защита Библии — «национальной британской эпопеи». «Конечно, —
заключал Хаксли, — Библия не несет ахинею относительно прав человека; но она настаивает на равенстве
обязанностей, на свободе восстанавливать справедливость,
что совсем иное, чем борьба за «права», и на
братстве, заключающемся в заботе о другом, как о себе...»
Другой британский интеллектуал и противник Хаксли Вильям Гладстон — искал в «Библии в Индии» Луи
Жаколио скрытые аргументы в пользу откровения. «Представьте себе, — писал Макс Мюллер настоятелю
Вестминстера, — что Гладстон сейчас читает эту книгу во время дебатов по ирландскому вопросу. Этот
труд Жаколио — самый тупой, самый пустой, самый бесстыдный, который я знаю
». (Самому Глад-стону
Мюллер написал в более дипломатическом стиле.)
Возмущение учёного станет понятнее, если сказать, что государственный деятель, незадолго до этого, во
всеуслы-
228
шание упрекал его за то, что он не в курсе «поразительных открытий, сделанных в Индии». Это произошло
летом 1869 года. Спустя несколько лет, Макс Мюллер пропагандировал в англосаксонском мире свою
версию происхождения арийцев «под той же крышей»: «Первобытные предки индийцев, персов, греков,
римлян, славян, кельтов и германцев жили в одном месте, можно
сказать, что они жили под одной крышей.»
Затем арийцы стали хозяевами мира в результате продолжительных войн: «Не прекращая бороться между
собой и с семитской и туранской расами, арийские народы стали хозяевами истории.» Может, упрёк
Гладстона побудил филолога на размышления о политической ответственности ученого. Несомненно, кое-
что он извлек из франко-
прусской войны. В марте 1871 года он писал своему другу Ренану: «Я знаю, что вы
французский патриот, так же, как я — немецкий, но думаю, это не мешает нам чувствовать глубокий стыд и
переживать ущерб, оказанный войной расе, к которой мы с вами принадлежим как человеческие существа
(...) Мы все должны закрыть лицо
от стыда и скорби...» Год спустя этот человек занялся публичным
пересмотром своих антропологических концепций.
По правде говоря, его самокритика была сдержанной и едва слышной. Этот эпизод, нравственной немощи
ученых стоит подразобрать. Сразу после захвата Эльзаса, Страс-бургский университет был торжественно
германизирован, и Макс Мюллер был приглашен туда прочесть курс лекций. Его международная слава была
уже велика: сам кайзер пригласил его на обед. 23 мая 1872 года Мюллер
произнес свою вступительную речь.
Он начал с того, что отметил величие момента, и заявил, что не забыл за границей своего германского
происхождения, заверив в своих патриотических убеждениях. Затем, он спросил себя: разве Германия не
утрачивает свои простые и прекрасные добродетели прошлого, и предостерег своих слушателей против
власти денег и гипертрофии
национализма. «Вам известно, что за границей нам не предсказывают
счастливого будущего...» Урок морали был продолжен призывом к научной осмотрительности: лингвистика
— не следует этого забывать — одно, а этнология — другое; нужно держать их строго разграниченными,
избегать смешения «расы» и «языка»; го-
229
ворить об арийском черепе так же абсурдно, как говорить о долихоцефальском языке. «Какие заблуждения,
какие противоречия ожидают того, кто заключает, отталкиваясь от языка, о расе, или, отталкиваясь от
крови, о языке... Существуют арийские и семитские языки, но антинаучно говорить, не отдавая себе отчета в
допускаемой вольности, об арийской расе, арийской крови
или об арийском черепе.» Что Мюллер не

уточнил, так это то, что уже четверть века он систематически допускал эту вольность и распространял это
смешение среди своих слушателей и читателей и на островах, и на континенте. Надо ли повторять, что его
осторожные отпирательства остались незамеченными? Учебники и энциклопедии будут продолжать
приводить только первоначального Макса Мюллера. Как «Большой словарь английского
языка» 1883 года
или энциклопедия «Американа» 1903—1906 годов. Другой пример — его последователь Гарвард Джон
Фиск, сближавший аборигенов Австралии со львами и волками «в математических способностях», и с
собаками и бабуинами «в моральном развитии». В основном, супротивные голоса принадлежали учёным,
связываемым общественным мнением с семистским Адамом, или не поддающимся породнению с
германским Адамом.
Таким образом, в стороне от великой арийской концепции останутся страны,
считавшиеся в то время отсталыми, — Россия, Италия, Испания. Но об этом речь пойдёт дальше.
230
Глава четвертая ГОБИНО И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
Революция, идеология и физиология
Бертран Рассел заметил, что теория Дарвина являлась «распространением на животный и растительный мир
политической экономии свободного рынка». Почти за полвека до этого, в 1809 году в совершенно другой
политической обстановке, другой корифей эволюционализма — Ламарк, предложил в своей «Зоологической
философии» следующую гипотезу:
«Если предположить теперь, что совершенная раса приобретает устойчивыми навыками каждого индивида
строение, которое я только что привел,., следует тогда признать:
1. Что эта более совершенная в своих способностях раса, придя, посредством этого, к господству над
другими, овладеет на поверхности земного шара всеми подходящими для нее местами;
2. Что она будет там охотиться за другими расами... и вынуждать их искать убежища в незанятых ею
местах;
3. Что..., держа их в удалении, в лесах и прочих необжитых местах, она затормозит у них
совершенствование их способностей, тогда как сама... будет порождать новые потребности, которые
создадут ее промыслы и постепенно усовершенствуют ее жизненные средства и способности;
4. Что, наконец, эта выдающаяся раса приобретёт абсолютное превосходство над всеми другими...»
231
Однако, таким образом описанная, высшая раса не являлась исключительно европейской или белой. Ламарк
противопоставлял подзаголовком «Некоторые наблюдения относительно человека», расу «БИМАНЦЕВ»
расе «КАДРУ-МАНОВ», людей — обезьянам. Но так, как это было им сделано в 1809 году, его видение
расы-завоевательницы, можно соотнести с французской экспансией в Европе. Заметим, что Ламарк
основывался на
философии Кабаниса и, по-видимому, сводил, как и тот, к «физическим фактам» проявления
жизни и интеллекта.
Послушаем другого пророка Нового Времени, основателя «религии науки» или «физицизма» — Сен-
Симона. Его «Доклад о науке человека», датируемый тем же годом, что и «Зоологическая философия»,
рассуждает о способе покончить с войнами:
«Все европейское население вовлечено в ужаснейшую из существовавших войну. Ученые, разрабатывавшие
науку о человеке, физиологи — единственные, кто в состоянии проанализировать причины этой войны и
положить ей конец, объявив способ, которым могут быть примирены интересы всех.»
Разные авторы: от аббата Сен-Пьера до Канта, разрабатывали в XVIII веке планы вечного мира, но ни один
не намеревался их подтверждать такой экспериментальной и позитивной наукой, как физиология. Были ли
ученые достаточно оснащены для этого. «Физиология, — убеждал Сен-Симон, — недостойна пока
считаться позитивной наукой, но ей нужно лишь шаг.» Благодаря работам
Кабаниса, Виша,Вик д'Азира,
«физиология, одно время погрязшая в шарлатанстве, основывается сегодня на наблюдаемых и обсуждаемых
фактах; психология начинает опираться на физиологию и избавляться от религиозных предрассудков, на
которых она основывалась до этого», повторяя, путь астрономии и химии. Тут важна антиклерикальная и
сциентистская позиция. Ее можно соотнести с величественными
событиями, ареной которых, в течение
двадцати лет была Европа, ссобытиями, требовавшими радикального объяснения «величайшей причины,
которая могла бы действовать», — как об этом писал еще Сен-Симон. Пытаясь отказаться от
«теологической системы», он следовал великой
232
традиции Просвещения; но нападки усиливаются вместе с возникновением связи наивного сциентизма и
воинствующего расизма. Например, наделённый богатым воображением, Сен-Симон убеждал по ходу дела,
что существом наиболее близким человеку была не обезьяна, а бобер — самое трудолюбивое животное.
Откуда происходило традиционное заблуждение ученых? Естественно, из религиозного обскурантизма.
Заблуждение «основано на веровании, что
мир сотворен для человека и, что человек сотворен по образу
Бога; таким образом, тот, кто — после человека — более всего на него похож — существует после него
самым совершенным способом. Физиологи и другие получили это наставление... Ученые, занятые
сравнительной анатомией, подчиняются верованию, приобретенному в их начальном образовании, скорее,
чем голосу разума, помещая обезьяну после человека на шкале организации.»
В мыслях одного из основателей современной социологии еще много мечтательности. Посмотрим, каким
образом, отказ видеть человека, созданным по образу Божию, мог объединить детерминистскую и
расистскую мысль XIX века.
Мы уже могли видеть его отказ у некоторых прославленных писателей Просвещения, в особенности, в
форме полигенетических теорий. Что размышление о революционном опыте привнесло нового, — это
умение извлекать из него конкретные выводы, касающиеся политического устройства. Даже Сен-Симон
критикует в 1803 году принцип равенства, который — в приложении к неграм — приводит к катастрофам в
колониях: революционеры колоссально ошиблись, освободив низшую расу:
«Революционеры применили к неграм принцип равенства: если бы они справились у физиологов, они бы
узнали, что негры, по своей организации, не способны, при условии равного образования, подняться на ту
же интеллектуальную высоту, что и европейцы.»
Здесь чувствуется привкус антиосвободительной пропаганды, которая, начиная с 1790—1791 годов,
прибегает к откровенно «расистским» аргументам. В одном из дальнейших «видений», новой научной
религии, которую Сен-Симон вводил в свои сочинения, он сравнил европейцев с детьми Авеля, а цветные
народы — Каина.
233
«Посмотри, как кровожадны эти африканцы; заметь безразличие азиатов.» Но основатель новой религии (то
есть по замыслу — сам Сен-Симон) соберёт войско, которое «обратит к ней детей Каина.» Мы видели, как
дитя революционной Франции — Вирей, начертал эту миссию европейцам — «главе человеческого рода»,
только в другой форме, и отголосок этого времени слышится
в биологической мысли Ламарка.
Осмотрим повнимательнее антропологические доктрины «физиологов», на которых ссылись Ламарк и Сен-
Симон. Среди приводимых ими авторов, Кабанис — наиболее характерный представитель нового
революционного поколения. Он был самым влиятельным из этих «идеологов» (само слово «идеология»
было создано в то время его другом и посмертным издателем Дестютом де Траси), бывших законодателями
мысли для новой
элиты Директории и Консульства, заложивших некоторые французские интеллектуальные
традиции, в особенности, традицию воинствующего движения за светский характер различных сторон
жизни. В недавно основанном Институте Кабанис провозгласил: «Я требую, что бы имя Бога никогда не
произносилось в этих стенах.» Более известны его слова, что мозг выделяет мысль, как крыса желчь, или,
как он писал в пассаже, на который часто ссылалось материалистическое мышление XIX века, что «мозг,
некоторым образом, переваривает впечатления», что он «органически совершает секрецию мысли».
Кабанис разрабатывал эту концепцию в работе 1795— 1798 годов, — «Докладе о физике и о морали
человека», и можно видеть, как у него «физика» детерминировала «мораль». В биологии он предвосхитил
Ламарка, допустив наследственную передачу приобретенных признаков: «Если детерминирующие силы
первой привычки не прекращают действия многие поколения, — писал он, — формируется новая
приобретенная природа.» Он объединял
эту идею с учением Гиппократа о характерах и темпераментах,
которых, по его мнению, было шесть: самый счастливый — «сангвинический», преобладал у французов, чем
же он и объяснял ведущую роль Франции в «прогрессе разума», самой яркой иллюстрацией которого для
него была Революция. Желая облагодетельствовать ее на целый мир, он предлагал
234
«осмелиться пересмотреть и исправить произведение природы», перемешав расы, что должно «произвести
вид с равными возможностями, который бы имел сложную организацию и, подобно равенству прав, стал бы
плодом просвещенного разума».
Кабанис не уточнил качества, соответствующие различным расам, ограничась ссылкой на план некоего Дра-
парно «определить соответствующий уровень интеллекта или чувствительности, свойственный различным
расам, и составить их «идеологическую классификацию». Таков революционный оптимистический взгляд:
даже если расы имеют различную ценность, разум их исправит для подлинного равенства.
Однако, в издании 1824 года, издатель счёл возможным поместить это трезвое замечание:
«Кроме того, что это равенство, вероятно, всегда будет химерическим, разве не позволительно сомневаться
в том, что оно желательно? Ведь существует разнообразие и неравенство людей между собой, существует
общество, то есть обмен людей услугами.»
Критика не антропологической доктрины, а политических выводов; в Реставрацию естественное нера-
венство казалось издателю Кабаниса соответствующим социальному устройству.
Эта точка зрения была развита в 1832 году — более оригинально — будущим секретарем парижского этно-
логического общества Виктором Курте де Лилем, в то время едва достигшим 20 лет. Заметив, что, в случае с
европейцами, речь идет «о свободе, связанной с абстрактным понятием равенства», он предложил, как
лекарсто, подчеркивание расовых различий, чтобы было невозможно сослаться
на равенство. Он так
высказывал это: «... я утверждаю, что европейский кризис прекратится только тогда, когда различные
общества будут преобразованы таким образом, что станут очевидными естественное неравенство, характер-
ные различия между расами. Я не хочу уязвить человеческое достоинство; я провожу факт, существовавший
в анналах всех народов мира.»
Мы вернемся еще к этому юному расистскому экстремисту. Отметим близость его теоретических концепций
235
к концепциям Кабаниса: различие только в практических выводах. Переход от революционного оптимизма к
пессимизму Реставрации мог выражаться и в эволюции собственно антропологических идей.
Таков случай Кувье — творца сравнительной анатомии. В молодости, в 1790 году он критиковал авторов,
провозглашавших врожденное низшее положение негров и сближавших их с большими обезьянами.
Четверть века спустя, он сам обратился в «Животном царстве» к этой классической связи:
«...Чернокожая раса отнесена к югу от Атланта; ее цвет чёрный, ее волосы курчавы, ее череп сжат и нос
сплюснут; ее характерная морда и огромные губы сближают её с обезьянами; общества, которые она
создает, всегда остаются варварскими...»
Кувье был благосклоннее к желтой расе, сумевшей создать великие империи, но чья «цивилизация всегда
остается статической». Как следствие, цивилизаторский прогресс достался в удел «кавказской расе, которой
мы принадлежим, отличающейся красотой овала, образующего ее голову». От прошлого века сохранилась
идея прогресса, присущего Западу и белой расе; но пессимизм послереволюционной эпохи еще углубил
пропасть между этой расой и расами, которые не развиваются или остаются погруженными в варварство.
И все же, Кувье сводил различные человеческие расы к одному корню (может, вследствие трехчленного
библейского деления он различал три большие расы — белую, желтую и черную). Религия уже не мешала
все большему числу авторов высказываться за полигенизм. Один из наиболее популярных антропологов —
Бори де Сен-Винсент утверждал, что «откровение ... нище не велит
верить в Адама и Еву. «Вдохновенный»
автор занимался только лишь иудеями; и, говоря очень скупо о других видах, он, по-видимому, желал
оставить их историю натуралисту». Взявшись за эту историю, Бори различил пятнадцать независимо
сотворенных человеческих видов, которые классифицировал в порядке уменьшения^значимости. Первое
место досталось белому или «иафетическому» виду,
у которого «засверкали величайшие гении — гордость
человечества». «Арабский вид», включающий эту «адамическую расу», которой прежде
236
было дано откровение, шел вторым. По примеру Кристофа Майнерса, Бори в конце поместил людей
«австралийского вида, последними вышедших из рук природы, без религии, без законов, без искусств», и,
кроме того, совершенно бесстыдных: «Австралийцы не имеют ни малейшего представления о своей наготе и
не думают скрывать свои детородные органы».
Тех же австралийцев другой полигенист Демулен брал примером, чтобы показать, до какой степени расы,
именуемые дикими, недоступны образованию и совершенствованию. Он убеждал, что решающий
эксперимент был проведен в Сиднее: «грудные младенцы» были похищены у своих родителей-аборигенов и
воспитаны с английскими детьми их возраста в условиях, гарантировавших «успех образования». Но
результаты
были бедственными: «Как только развитие их способностей позволило их природе действовать
самостоятельно, бунтарская непокорность оттеснила образованность. Прежде чем выйти из детского возра-
ста, они убегут и их больше не вернуть». И Демулен, полагавший, что возможно, благодаря естественным
наукам, усовершенствовать человека, заключал: «Это является инстинктивным влечением, сходным с тем,
которое заставляет
птиц мигрировать».
Даже среди воинствующих противников рабства такие представления порой встречаются. Если Виктор
Шельхер постулировал совершенное равенство между способностями чернокожих и белокожих, его
соратник — сен-симоновец Гюстав д'Айхтхаль, со ссылкой на физиолога Флурана, допускал «врожденное
коренное различие» между теми и другими, составлявшими в его глазах «пару», в которой белая раса
представляла мужскую
, а чёрная — женскую половину, — этот образ имел успех у немецких романтиков.
Арман де Катрфаж (1810—1892) — шеф французской школы физической антропологии и противник
рабства, пытался провести различие между аргументом от убеждения и антропологическим аргументом.
«Основываться ради борьбы с рабством, на якобы существующем равенстве, значит играть этим
преувеличением на руку противникам». Если он и желал уничтожения рабства, то в связи с
«безнравственностью белых», а
не «из за симпатии к чёрной
237
расе». Его неприязнь к чёрной расе такова, что, сразу после совершенного в 1842 году путешествия в
Соединенные Штаты, он назвал её с научной точки зрения противоестественной, «зловещей игрой
природы»:
«Негр является интеллектуальным чудовищем, если использовать это слово в его научном значении. Для его
создания природа воспользовалась теми же средствами, которыми она пользуется, когда порождает своих
чудовищ, многочисленные образцы которых мы имеем в наших кабинетах... для достижения этого
результата было достаточно, чтобы определенные части живого существа застыли на какой-то
ступени
своего развития. Эти зародыши без головы и без членов, эти дети, превращающие сказку о циклопах в
действительность... Довольно! Тот негр является белым, чье тело приобрело новую форму вида, но чей
интеллект остановился на полпути...»
Катрфаж судил как антрополог, исследуя физические признаки. Как философ, будучи спиритуалистом и
моно-генистом, он утверждал, что у негров «животные функции замещают все благородные понятия о
духе». Такие впечатления вызывало в нем его путешествие во Флориду и, несомненно, рассказы
плантаторов: ученые не были защищены от внутренних реакций подобного рода. Переписка известного
натуралиста швейцарца Агассиза (1807—1873) сообщает нам, каким образом контакты с чёрными рабами в
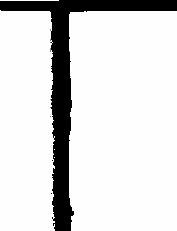
Бостоне превратили его в сторонника молодой американской антропологической школы. По вполне
очевидным основаниям, в Соединенных Штатах развивались крайние формы расистских теорий,
направленных против черных, отмеченные именами: Нортона, Гиддона и Нотта, — приверженцев новых
методов изучения черепных способностей, или мозгового индекса.
Эта школа была признана и имела некоторое влияние на европейском континенте: немец Карус, чтобы
продемонстрировать неравенство человеческих рас, опирался на краниологию Мортона; Ренан соглашался с
расовой классификацией, предложенной Ноттом и Гиддрном в «Коренных расах земли».
В Великобритании, напротив, подобные концепции встречали в первой половине XIX века сильное сопро-
238
тивление. Враждебность к материализму, пришедшему с континента, особливо из Франции, объединялась
там с «библиопоклоннической» критикой, описанной нами в предыдущей главе. Конечно, превосходство
белых было общепризнанным, но считалось, что люди способны к усовершенствованию и возрождению,
благодаря христианской религии, практически во всеобщем масштабе.
Антрополог Вильям Лоуренс (1783—1867) буквально подвергался преследованию за то, что он с 1819 года
развивал в своих «Лекциях по физиологии, зоологии и естественной истории человека» взгляды,
предвосхищавшие дарвинизм. Его критики ставили ему в вину не то, что он отказал неграм в «возвышенных
чувствах, мужественных добродетелях и нравственности», а то, что он уравнял человека
с животным,
утверждая, что одни и те же правила определяют у этих двух видов нравственные и интеллектуальные каче-
ства, и вообще настаивал на всесилии наследственности. Его начальство в госпитале, где он работал,
объявило книгу безнравственной и опасной для общества, и он был вынужден изъять ее из обращения. В
этой обстановке
столь сдержанный французский автор, как Кувье, подвергся критике собственных
переводчиков, настаивавших, что, прежде всего, образование формирует человека. Антропология Причарда,
приведенная в соответствие со Священным писанием — типичное изложение английских принципов того
времени. Благочестивые критики расового детерминизма все же проявили похвальную проницательность: в
1834 году пастор Ричард Ватсон обвинил негласный союз плантаторов и «
философов»:
«Первый класс образован теми, кто, борясь со стастями и пороками негров, находящихся на стадии
язычества, избрал для их улучшения единственным стимулом хлыст и суровый голос власти. Второй класс
составлен нашими философами, судящими об интеллектуальных способностях по форме черепной кости,
измеряющими ум с помощью линейки и компаса, ставящими нравственность в зависимость
от
конфигурации головы и определяющими, таким образом, предрасположенность к познанию и спасению.»
Филипп Д. Кертин, у которого позаимствована эта цитата, пишет в своем труде, что расовый детерминизм
ста-
239
новится господствующей теорией в Великобритании только с середины века. В 1850—1860-х, годах такие
читаемые и влиятельные авторы, как утилитаристы Джон Стюарт Милль и Томас Бакль, — проповедники
разума и прогресса, продолжали исповедовать всеобщую роль окружающей среды, сводя все этнические и
культурные различия к различию климатов и образов жизни. Доктор Джеймс Хант — основатель
«Антропологического общества», заявил, что «факты, относящиеся к физическим, умственным и
моральным характеристикам негров, никогда не были предметом дискуссии в Лондоне, тогда как во
Франции, Америке и Германии свободно обсуждаются уже долгое время». В этом «научном запаздывании»
видна специфика английского умонастроения.
Вернемся к континентальной колыбели расизма. Взгляды, типичные для Франции второй четверти XIX
века, лучше всего представлены в сочинениях Опоста Конта.
Для основателя позитивной философии само собой разумелось, что элиту или авангард человечества
составляет белая раса, точнее — народы западной Европы. Он считал только изучение истории «предков
этого привилегированного населения» представляющим какой-то интерес, а ориен-талистские исследования,
популярные в его время, бесполезными и даже вредными. Признавая три расы: белую, жёлтую и чёрную
, он
отдавал: первой — интеллектуальное начало, второй — деятельное, третьей — чувствительное. Эти
различия должны были исчезнуть в эпоху гармонии человечества, пророком которой он был: «ибо всеобщая
гармония Великого Существа требует тесного содействия этих трех рас: спекулятивной, активной и
аффектной». Все нации и расы должны быть представлены в Высшем Свете, предусмотренном его планом
«религии человечества — даже черная раса, какую бы спесь не вызывала в нас она, обреченная на
безвозвратный застой».
Конт сказал своё слово и по поводу старого спора о сравнительной роли окружающей среды и
наследственности. Последняя, для него, активнее климата влияла на общество. Но он отказывал ей в
преобладающей роли, критикуя авторов, думавших иначе. В 1850 году он писал, что «наши мнимые
мыслители повсеместно отдают предпочтение этому
240
странному объяснению». Свидетельство, заслуживающее быть отмеченным. Действительно, в эту эпоху уже
многочисленны, особенно во Франции, авторы, видевшие в расах частичное, либо даже всеобщее
объяснение исторического развития, что сменяло теологическую интерпретацию научной, а Провидение —
физиологией. Вопрос был уже не в том: обладают ли расы неравной ценностью (так думали все или почти
все
), а в том, чтобы извлечь из этого неравенства историко-философские выводы (на манер Гобино и неко-
торых других). Обратимся к первым таким писателям.
Раса — двигатель истории
В предшествующих главах мы видели, как, во все времена, европейские народы уделяли изначальную важ-
ность своему происхождению и своей «расе», и, как в Реставрацию иные полемисты и историки объединяли
древние традиции и новые антропологические или «физиологические» концепции, обозначали
революционное движение в терминах «борьбы рас», не уточняя, однако, что для них означает
термин
«раса». Один из них, Шарль Конт (1782— 1837), чьё имя заслуживает быть извлеченным из забвения,
вменял в вину «расовой гордыне» политические распри Европы. В Германии наполеоновские войны
послужат новому воинственному развороту старого понятия о «расовом» германском превосходстве, но там
оно оставалось еще христианскими ценностями и религиозной традицией: миссия немецкого народа, как
и
английского, счилалась предопределенной божественным образом. Первое пристанище расовый
детерминизм обрел во Франции, где под «идеологическим» влиянием — законы науки, назначенные пово-
дырем человеческого развития, в начале XIX века освобождаются из-под божественной опеки. Когда Тьерри
написал, что и физиология и история доказывают влияние расы, он уже доверил последней заботу о первой.
Необходимо было найти брод между древними расами европейских мифологий и расами, открытыми
антропологами в масштабе планеты.
Эта крепкая задачка выманила немало интеллектуальных тупиков. «Исторические» расы, произошедшие от
16 Зак. 1209
241
мифического предка, являлись древними поселениями в Европе, причисляемыми классификаторами XVIII
века к белой расе. Новая историческая перспектива, подталкиваемая национализмом и раздуваемая
журнальной полемикой, толкала на поиск «физиологических» подразделений в самой этой расе, и эти
подразделения чаще приводили к смене рас и древних «народов», или древних культур и языков Европы.
Французские и английские
авторы приходили к заключению о наличии на их земле двух или более «рас».
Хактерно что немецкая антропология XIX века не столкнулась с этой лже-проблемой и разработала более
стройные концепции.
Эти двусмысленности предвидел франко-английский натуралист В.Ф.Эдвардс — будущий основатель
парижского «Этнологического общества», поставивший в программном письме 1829 года адресованном
Тьерри проблему соответствия между «историческими» и «физиологическими» расами. «Вы
устанавливаете, — писал он, — исторические расы, которые могут быть совершенно независимы от рас,
открытых естественной наукой. Вы имеете на это право, ибо каждая
наука имеет свои принципы, но может
статься, что, следуя им, вы придёте к результату, которого достигают с помощью другой науки.»
Фактически, смешение возникло сразу: выражая надежду «встретиться» с историком, натуралист предлагал
выяснить: «до какой степени различия, установленные историей между народами, могут согласовываться с
различиями, установленными природой.»
Эдварде признавал, что «народы, поселившиеся в различных климатах, могут веками сохранять свои типы»,
и, присоединяясь к критике старой «теории климатов» — которую он считал противоречащей лингвистике
— ставил двойную проблему: наследственной стабильности расовых признаков и строгого соотнесения
физики и морали, постулированную такими авторитетами, как Кабанис и Бруссе. Сам он пытался
установить различия,
руководствуясь случаем. Пример евреев он относил в пользу абсолютной «расовой
устойчивости», но не был уверен, что положение повсюду одно и то же: «Не все народы в равной степени
способны на сопротивление.»
242
Интересно, что евреи, для Эдвардса, являются расой. И это — знак времени. Раньше — удовлетворялись
связью «еврейской нации» с белой расой, а ее специфическая судьба была обусловлена либо волей
Провидения, либо подурневшими условиями. Такова была эта каста, или «историческая раса», возведённая в
ранг «физиологической расы», вскоре окрещенной «семитской». И другие авторы приводили их
случай. Мы
видели, как убеждение, что они составляют «чистую расу», привело Мишле к приписыванию их
исторических несчастий этой чистоте.
Таким образом, проблема расового детерминизма была поставлена Эдвардсом — скажем мы теперь — в
междисциплинарном аспекте. В то же время, другие его забытые современники, минуя его сомнения и
вопросы, склонялись к тому, чтобы соорудить из неё универсальное объяснение.
Такой представляется, с первого взгляда, система, предложенная в 1827 году Шарлем Контом —
воинственным республиканцем, чтобы осознать эксплуатацию человека человеком: раба — господином,
крестьянина — сеньором. Если присмотреться, «расы» — по нему, были скорее социальные классы,
объединенные условиями жизни и общим происхождением.
«Когда завоевание сводит на одной земле народы различных рас, каждая из них сохраняет и передает своим
потомкам нравы и предрассудки, произошедшие от господства и рабства.» В его глазах физиологическая
принадлежность этих народов или «каст» не играла большой роли: «Если две. касты принадлежат к одному
и тому же виду, и если,
как следствие, они не различаются по физическим признакам, они различаются по
искусственным признакам... Европеец ценит не то или иное имя, не ту или иную уважаемую черту, а
возможность иметь среди предков человека, принадлежащего расе-завоевательнице»; к этому во Франции
привела «ссора двух рас». Конт считал, что история руководствуется такими противопоставлениями во
всемирном масштабе. «Как в архипелагах Океании..., так и во всех странах Европы», повсюду он
обнаруживал эти группы-антагонисты: «Те, кто были её первыми владельцами, кто её поднял и по-
прежнему возделывает; и те, кто, придя позже, захватил землю и земледельцев.» Ему
243
симпатичны, конечно, последние, — галлы всех стран, неким образом превращённые в «инструмент»:
«...при таком режиме, люди, принадлежащие к завоеванному классу, низведены до ранга вещей». Это
больше напоминает о Карле Марксе, чем о Гобино; Конт показал себя большим скептиком в отношении
различия ценности рас, кроме того, он колебался в высказываниях, ссылаясь на
несовершенство знаний его
времени. Будучи оригинальным мыслителем, он, во всяком случае, умел провести различие между
реальностью расы и ее полным образов представлением (можно было бы сказать: между «природой» и
«культурой»), и описывал расовые мифы в их изменении особым языком:
«То тщеславие, которое оставляет человеческий ум последним — есть расовое тщеславие: человек может
отказаться от личного тщеславия, от семейного, от национального; но тщеславие вида нелегко устранить,
этому чувству надо приписать наши системы формирования и разделения народов...»
Его друг — экономист Бартоломе Дюнуайе настаивал на расовом неравенстве и придавал физиологии
первостепенную роль, по его мнению, подтверждаемую политическими реалиями: «Почему не черная раса
правит? Почему не белая раса прислуживает?» Либерал, как и Шарль Конт, Дюнуайе, сожалел об этом
всеобщем неравенстве: «И все же люди не равны; то же самое и
расы — не будем закрывать глаза...Из
неравенства рас могут произойти достаточно грустные вещи, например, невозможность всем в равной
степени стать трудолюбивыми, богатыми, образованным, нравственными, счастливыми.» И без особого
энтузиазма, в результате своих размышлений, он отдает первенство и звание высшей расы германцам. Разве
история не указывает, что их надо «рассматривать как
основателей современных обществ»? Правила
эстетики, как древнего, так и современного искусства, по его мнению, устанавливают другое превосходство
«тевтонского типа» над «кельтским типом» — суждение, которое в ту же эпоху можно найти у Бальзака в
окостеневшем контрасте «франкской» аристократической осанки Люсьена де Рюбенпре и плоскостопия и
«велыпской» шеи его друга Давида Сешара
. Между Дюнуайе и Шарлем Контом разгорелась полемика: один
упрекал другого в том, что он,
244
несмотря на выводы науки, отрицает неравенство человеческих рас; Шарль Конт защищался, говоря, — что
вынес определённое суждение по весьма неопределенному предмету.
И сен-симоновец Виктор Курте де Лиль видел в германцах высшую расу, разыскивая первопричины,
правящие историей человеческих обществ — «органические причины, соответствующие существованию
человека». Эта раса прежде была распространена в Европе, «как живописная картина наций»; она была
«великой, сильной, прекрасной», она представляла «прекрасный идеал физической природы человека» и
была самой природой
призвана подчинить себе расы, образовывавшие римскую империю. Но это, считал
Курте, принадлежало далекому прошлому; на Западе смешение рас произошло вследствие «эгалитарного
духа», которым отличались и христианство, и революция. Мы видели, как Курте предлагал «разложить» эту
смесь рас во имя мира в Европе; в своем главном труде «Политическая наука, основанная на науке
о
человеке» (1837) он выдвинул новый план. Книга претендовала на реалистичность. Главным указанием на
качество была способность расы к господству: господа, по определению, были выше рабов. С этой точки
зрения, европейцы, смешанные, как только можно, имели шанс продемонстрировать свое превосходство в
планетарном масштабе. Тот же критерий привел Курте к утверждению превосходства
не только азиатов, но
и американских индейцев над неграми, которых он вместе со своим веком помещал в самый низ
классификации, доказывая тем, «что они не подчинили себе никакой чужой расы; они подчиняют только
друг друга».
Оригинальность идеи Курте в том, что человеческая история обусловлена не только межрасовыми битвами
— «физически», но и более глубоким способом, меняющимися смешениями или дозами крови —
«химически». Он, по-видимому, первым научно сформулировал эту мысль, которая через Гобино стала
догмой современного расизма. Характерно, что он считал её «прогрессивной», по отношению к прежним
представлениям, как это вытекало из его критики Тьерри: «Метод Тьерри имеет, к несчастью, реакционный
нетерпимый характер. Он занимается лишь первобытными
245
конфликтами между расами и ищет в воспоминании этих древних зверств, то есть в постоянстве ненависти,
