Репина Л.П. (ред.) История и память: историческая культура Европы до начала нового времени
Подождите немного. Документ загружается.


процесс формирования наций. История собственного народа и государства стала излюбленным предметом
сочинений. Другая форма истории — истории диоцеза (gesta ponliftcum, gestae episcoporum),
аристократического рода (дома) (genealogiae) , монастыря (gesta abbalum). Далее появляется история города.
III. ИСТОРИОГРАФИЯ X-XIII вв. и ЕЕ ОСОБЕННОСТИ Проблема периодизации
Средневековая историография взросла на почве позднеантич-ной языческой традиции, переосмыслив и
развив ее в соответствии с христианской системой представлений, и ее переодизация, подобно любой
периодизации, абсолютно условна. Канон форм и жанровых традиций сложился уже в раннее
Средневековье, и сам стиль сохранялся на протяжении последующего тысячелетия, так что историография
отмеченного общим культурным подъемом высокого Средневековья внешне отличается от историографии
предшествующих столетий главным образом лишь возрастанием количества историче-
Об этом роде истории см. главу 8.
Образ истории и историческое сознание...
289
ских сочинений, их большей распространенностью, многообразием форм и высказываемых в них воззрений.
Все это, впрочем, были свидетельства возросшего интереса к истории и признаки изменения исторического
сознания.
О том, когда эти изменения становятся столь заметными, что позволяют говорить о новом этапе в
формировании средневекового исторического сознания, существуют разные мнения. П. Гири (с акцентом на
южнофранцузском материале) называет период около 1000 г.
18
, отмеченный интенсивным изменением
социальных реалий. Можно говорить и о второй половине XI в., когда образ истории в историографии все
больше определяется активным взаимодействием церковных и политических структур. Х.-В. Гётц,
основываясь на германском и французском материале, предпочитает XII век
19
.
Действительно, XII век являет собой некий рубеж в духовном развитии общества, не замедливший сказаться
и на историческом сознании. Хотя прежние традиции не обрываются, перемены видны во всем. Большую
роль сыграли здесь подъем наук, связанный с «ренессансом» XII столетия, схоластическая философия и
экзегетика, с одной стороны, и изменение общественно-политической ситуации, — с другой: обострившееся
противоречие между властью короля, пап, князей нуждалось в толковании, а точнее, в обосновании
нуждалась новая расстановка политических сил. Поскольку аргументы выискивались, как обычно, в
Священном Писании, у отцов Церкви, в каноническом праве, возникло новое отношение к традиции .
Разумеется, речь идет не о взрывооб-разном, а о латентном изменении исторического сознания, которое
можно наблюдать начиная с X столетия. У разных авторов оно ощущалось с различной интенсивностью,
поэтому нижеследующие наблюдения сгруппированы не столько по хронологии, сколько вокруг кажущихся
наиболее значимыми характеристик содержательной стороны исторического сознания в X-XIII вв. —
проблем историчности, образа истории, идентичности и исторического интереса, который, в свою очередь,
обусловливает функции историографии.
Историчность мира
Современный историзм как форма осмысления истории, будучи плодом сравнительного и
ориентированного на процесс историче-
18
Geary P. Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton; N. Y., 1994.
19
Gotz H.-W. Geschichtsschreibimg (Vorwort).
30
Особенно в этом преуспели кафедральные школы в Париже и Шартре, в раннее Средневековье игравшие еше периферийную
роль.
10 - 3240
290
Глава 7
ского развития мышления, проявляется в осознании историчности всех явлений и духовного восприятия, в
историзации самого знания о прошлом. Историзм средневековый обусловлен теологической картиной мира
и представлением о Боге, направляющем человеческую историю. Земная история конечна и в этом смысле
целенаправленна. Отсюда — априорная убежденность в историчности мира, т. е. в непостоянстве и
преходящести всего земного, изменчивости (mutabilitas) людей и их истории, что и легло в основу идеи
прогрессивного исторического развития (progressus) в ее средневековом понимании. Таким образом, о
средневековом (особенно высокосредневековом) историческом мышлении нельзя сказать, что оно было
статичным. Фактор времени играл в нем существенную роль. Средневековый историзм характеризуется
представлением о поступательном движении времени (tempus), делящем историю на шесть возрастов (aetas)
человечества; от Адама до Ноя, от Ноя до Моисея, от Моисея до Давида, от Давида до вавилонского
пленения, от него — до Христа и от Христа до конца времен
21
. Авторы стремились хронологически
упорядочить материал: это было важно как для обозначения целенаправленного хода истории (progressus),
так и для ее периодизации, т. е. обозначения смены эпох (aetas).
Высокое Средневековье унаследовало и транслировало практически без изменений патриотическую
периодизацию истории и времени. Историко-теологическая концепция формулировалась вокруг двух
основных пунктов. Во-первых, Civitas Dei поочередно представлено библейскими патриархами, народом
Израиля и Церковью
22
. Во-вторых, в соответствии с видением Даниила, периодизация земной истории
отмечена четырьмя сменяющими друг друга мировыми империями («царствами»): ассирийской, мидийской
(персидской), греческой и римской. Такая смена мирового господства и иллюстрирует преходящесть всего

земного, изменчивость мира — главный мотив историографии, особенно всемирных хроник. Однако
изменчивость (mutabilitas) и поступательное развитие истории (progressus) не исключают континуитета,
выразившегося в идее translalio. Все Средневековье прошло под знаком эпохи римской «мировой империи».
Однако образ ее истории к XII веку подвергается существенным трансформациям. Остановимся на них
подробнее.
г|
Гуго Сен-Викторский выделял даже соответствующий каждому времени «тип» людей.
22
Яркий пример последовательного «воплощения» Civitas Dei дает Отгон Фрешингенский (Chronicon 4, 4).
Образ истории и историческое сознание.
291
Составляющие образа истории: tempus, locus, res gestae, personae
В XII столетии, когда структура исторического знания все чаще становится предметом рефлексии, Гуго Сен-
Викторский в Прологе к своей хронике напоминает, что для полной характеристики исторических событий
(gestae) и фактов (res gestae ) необходимы три других фактора — время (tempus), место (locus) и люди
(personae), которые » них участвуют. Историческое знание опосредуется последовательным изложением
событий, именно рассказ (narratio) и делает из «фактов» «историю» — narratio rerum gestarum. Поэтому
средневековый образ истории по способу изображения был нарративным
23
. А по сути своей он был
хронологическим и генетическим, т. е. ориентированным на непрерывное и последовательное развитие
взаимосвязанных событий. Целенаправленное развитие земной истории как истории спасения проявлялось в
непрерывной, благодаря идее «перенесения» (translatio), смене эпох, что делало эти эпохи как бы
генетически однородными. Представление о «генетической однородности» истории обусловило
представление об универсальности пространства. Последнее и лежит в основе идеи всемирных хроник как
хронологически выстроенном изложении истории от сотворения мира (или по меньшей мере от
грехопадения, или от Рождества Христова) до настоящего момента
24
.
Образец жанру дала хроника Евсевия из Кесарии в латинском переводе Иеронима. Традицию продолжили
затем всеобъемлющие труды Исидора Севильского, Иеронима, Беды. Цель всемирной хроники состояла в
объединении библейской, церковной традиции историографии с языческой античной в единых
хронологических рамках, дабы вместить собственную эпоху в мировую историю спасения, определить
собственные координаты в мировом времени. Эта потребность была в высшей степени свойственна
позднекаро-лингским авторам (Фрехульф из Лизьё, Адо Вьеннский, Регинон Прюмский). Однако они не
слепо следовали образцам своих великих предшественников, а развили собственную хронистику, в рамках
Melville G. Kompilation, Fiktion imd Diskurs. Aspekte zur heuristischen Methode der mittelalterlichen Geschichtsschreiber / Ch. Meier,
J. Riisen. Historische Methode. Munchen, 1988. S. 133-153,
2
На тему всемирных хроник подробно: Brinken A.-D, v. Studien zur lateinischen Weltchronik bis in das Zeitalter Ottos von Freising.
Diisseldorf, 1957; Idem. Die lateinische Weltchronistik / A. Randa. Mensch und Weltgeschichte. Zur Geschichte der
Universalgeschichtsschreibung. Salzburg; Munchen, 1967. S. 43-58.
10*
292
Глава 7
«мировой» истории все больше концентрируясь на современной, причем такое переосмысление
традиционного жанра не оставалось вне рефлексии самих авторов. Так, в Прологе всемирной хроники
(Chronicon) Регинона Прюмского (ум. 915) автор недвусмысленно сравнивает свой труд с трудом
историографов (historiograph!) прошлого — древних евреев, греков и римлян, которые писали о совре-
менных им событиях. Регинон называет и причины, побудившие его предпочесть делам минувшим день
сегодняшний. Во-первых, настоящее само по себе (per se) достойно описания. Отсюда следует, что
настоящее обусловливается и истолковывается не столько далеким прошлым, сколько деяниями
современников (actiones hominum). Во-вторых (и это уже авторская рефлексия о методе историописа-ния),
недавние события лучше документированы источниками. Причем источником его знаний является не
только прочитанное, но и услышанное и увиденное (visa et audita).
В «железном» X столетии историописание, как и вообще вся литературная деятельность, почти замирает. В
литературе преобладает жанр агиографии, в которой, впрочем, набирают силу элементы историографии,
особенно ощутимые в «деяниях» (gesta) — распространившемся с эпохи Каролингов и особенно в эпоху
Отгонов жанре биографий персон, облеченных властью и занимающих высокие общественные посты, —
королей, епископов, аббатов. Gesta — наиболее историчный биографический жанр, гак как вырос из
списков аббатов и епископов и являет собой форму истории группы (монастыря, диоцеза), даже если речь
идет, казалось бы, об одном человеке. Особенная популярность gesta с начала XI в. характеризует
примечательное изменение исторического сознания эпохи, выраженное в стремлении различных
социальных групп знать и упорядочить свою историю.
Основной вид каролингской хронистики — имперские анналы прекращаюгся уже около 830 г., и с тех пор
эпизодически ведутся (до 900 г.) при разных дворах. Возрождаться этог жанр начинает только с середины X
в. в крупных монастырях (Annales Флодоарда Реймсского, анонимные Annales Hildesheimenses, Annales s.
Blasii, Annales Ellwangenses, Annales Augustani и др.), которые перенимаюг (и продолжаюг иногда вплоть до
XII в.) традицию, существовавшую прежде при императорском дворе. Однако предметы их интереса
заметно мельчают: монастырские анналы концентрируются на локальных или региональных событиях. В
этот период восприятие истории явно «сужается». Каролингская историография, например, постоянно

стремилась вписать империю франков в общий порядок и
Образ истории и историческое сознание.
293
ход мировой истории. В Хв., при том что подъем саксонской династии обеспечил некоторую централизацию
власти в бывшем Восточно-Франкском королевстве и, соответственно, относительную политическую
стабильность, этот дискурс из исторических сочинений практически исчезает. Нет сомнений, на
историческое сознание X - начала XI в. повлияла общая ситуация в Европе того времени: усугубляемые
внешней опасностью и внутренними усобицами распад империи и конец династии Каролингов (а вместе с
нею и культурного подъема) в начале X в., угасание центральной власти и гог «власгный вакуум», который
не смогли заполнить возникшие на обломках империи государства. Однако, даже когда в жанре всемирных
хроник и не писали, копирование старых трудов продолжалось, поскольку эти хроники пользовались
большим спросом: прошлое обусловливало и объясняло настоящее.
К XII столетию ситуация меняется: эпохальные перемены в жизни общества пробудили особенный интерес
к истории, к историческому осмыслению событий и перемен. Активное копирование старых хроник
перестало удовлетворять запросам времени, возникает потребность основательно их переформулировать.
Следствием стал пересмотр традиции, стремление приспособить ее интерпретацию к актуальному моменту,
а необходимость оправдать собственную позицию в борьбе за главенство различных властных структур и
принадлежность к определенной партии обусловили усиленный интерес к исторической аргументации —
одной из основных функций истории. Таким образом, с XII века патристическая концепция истории как
всемирной исгории спасения вновь сгановится востребованной, однако, будучи обогащенной конкретным
опытом прошедших столетий, превращается в модель для интерпретации современности.
Главной чергой всемирных хроник высокого Средневековья, при внешней зависимосги ог традиции жанра,
следует признать постоянное сужение их пространственного и временного измерения. Так, Chronicon
Отгона Фрейзингенского демонстрирует традиционное прямолинейное развигие исгории ог ее начал прямо
в сегодняшний день и далее (в 8-й книге) до конца времен. Однако «универсальность» исгории у него
весьма — причем сознагельно — ограничена. Начиная с 3-й книги в центре внимания автора — Римская
империя, ее перенесение (translatio) на хрисгианские народы через империю Карла, от нее — на империю
Отгона и г. д. В посвященной периоду 1076-1146 гг. 7-й книге акцент делается на современных событиях и
их непосредственной предыстории, причем
294
Глава 7
именно (и только) в Южной Германии, которая и оказывается той единственной исторической ареной, на
которой в данный момент приводится в исполнение замысленный Творцом opus restaurationis.
В высокое Средневековье «универсальные» истории были таковыми только в отношении времени (хотя и
без того непропорционально короткая по отношению к повествованию о настоящем его предыстория в них
имела тенденцию все более укорачиваться) и непосредственной сопричастности к Божественному плану
спасения. Географически их горизонты неуклонно сужались. Конечно, всемирные истории
предшествующих эпох (позднеантичной или каролингской) тоже не были «всемирными» в современном
смысле, так как игнорировали, например, все нехристианские народы. Но всемирная хроника Германа из
Райхенау вообще была «швабской». Гуго Сен-Викторе кий концентрировался только на Франции. Ламперт
Герсфельдский или Бернольд из Санкт-Блазьена использовали принцип «всемирности» исключительно как
своеобразное риторическое обрамление своего труда. Таким образом, в XII в. возникают специфические,
«авторские», соотнесенные с настоящими временем и местом вариации всемирной истории спасения, в
которых образ истории фиксируется на собственной истории, а всякий взгляд вовне редок и используется
обычно только в контексте поучительного (для собственной истории) сравнения.
Традиционный средневековый образ истории был не только теологическим, но еще и политическим, так как
всегда соотносился с учением о мировых империях в целом и (в высокое Средневековье все чаще!) с
господством конкретной династии в частности. Действующий фактор истории — не только силы
Божественного Провидения, но и конкретные люди (personae), с деятельностью (negolium, actiones) которых
как земной проекцией воли Провидения соотносился весь ход событий.
История народа, аббатства или епископства — это история королей, аббатов или епископов. Хроника Гуго
из монастыря Флери (Liber qul modernorum regum Francorum confine! actus) являет собой историю
французских королей, заканчивающуюся рассказом о смерти Филиппа I в 1108 г. и его погребении в этом
аббатстве. Предмет хроники Адама Бременского (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum) — история
гамбургского диоцеза и его епископов, рассказ о том, что достойное воспоминания свершили они in diebus
siiis. Историографы предлагали судить о людях по их деяниям — gesta. Поэтому личность (persona) как бы
организует историю — narratio rerum geslarum. Автор концентрирует внимание не на лич-
Образ истории и историческое сознание.
295
ных качествах исторических деятелей (они являют собой стандартное «общее место» и полностью
соответствуют своду христианских добродетелей — catalogm virtutum), а на том, как они исполняли свою
должность. Личность, таким образом, определяет пространство (locus) — территорию, на которую

распространяются ее должностные полномочия, ее власть. Личность определяет и время (tempus), потому
что его периодизируют, соотнося с годами ее правления. «Хроника» Фрутольфа из монастыря Мишельсберг
или «Всемирная хроника» Мариана Скотта всю историю Римской империи представляют как череду
римских императоров начиная с Августа и вплоть до их современников. С периодом пребывания у власти
важных для данного автора персон соотносятся и все значительные события. Анналы шварцвальдского
монастыря Санкт-Блазьен помещают под титулом anno U20 только одно сообщение — об избрании папы
Сикста II, сопровождаемое припиской: «в этом же году была основана сия обитель при аббате
Адильхельме». В возникшей около 1132-1142 гг. метцской хронике (Gesta episcoporum Mettensium) каждому
епископу посвящена отдельная глава, причем указывается, на правление какого короля приходится его
пребывание в должности. Первому метцскому епископу, Арнульфу — достославному предку Карла
Великого и святому, уделено, разумеется, особенное внимание как свидетелю (и свидетельству) великого
прошлого данного диоцеза и гаранту его нынешнего и будущего исторического значения в масштабах всей
истории спасения. Впрочем, следуя этой логике, исторические заслуги метцских епископов весьма уступали
заслугам тулльских, которые, согласно Gesta episcoporum Tullensium (XII в.), все без исключения были
святыми.
В тех же масштабах — вклада личности во всемирную историю спасения — оценивался и сам факт
основания монастыря (церкви, епископской кафедры, города, образования королевстза и т. п.), тогда как вся
последующая история этого места служила свидетельством непрерывной традиции, мостиком между
прошлым и настоящим. Автор хроники из монастыря Сэлем так и назвал свои труд; Historia brevls monasterii
Salemitani, или «Как и от кого пошла обитель сия» — vel quando vel a quibus person is hoc cenobium initiatum
sit.
Историописание высокого Средневековья характеризуется еще одним примечательным новшеством.
«Ренессанс» XII столетия обостряет чувство литературной формы и отношение к ней: пробудился интерес к
классическим образцам, а также к риторике и рифмованной прозе. Историография как narratio rerum
gestamm стала литературой,
296
Глава 7
искусством, о чем свидетельствуют стихотворные Carmen de hello Saxonico о саксонской войне Генриха IV,
Carmen de Federico 1 in Lombardia о первом итальянском походе Фридриха Барбароссы. Появляются новые
— рифмованные — версии старых историй: Ligimnus Гунтера Парижского в значительной степени является
переложением Gesta Frederici Отгона Фрейзингенского, Внимание к форме, в которую авторы облекают
создаваемые ими картины прошлого, — свидетельство осознанного подхода к проблеме его изображения,
рефлексии о критериях отбора не только материала, но и выразительных средств. Открытие новых
предметов исторического повествования, которое возводится до уровня высокого искусства поэзии,
углубленное внимание к риторике и относительное многообразие высказываемых историографами точек
зрения отличает, таким образом, историографию высокого Средневековья от предшествующих столетий и
отчасти позволяет рассматривать ее как предысторию современной.
Историческое сознание и идентичность
Историческое сознание и идентичность в их взаимосвязи — два ключевых понятия современной
методологии изучения исторической культуры — отражают сознательную или неосознанную идентифи-
кацию авторов и потребителей историографической продукции с собственной историей, с историей группы
или института (что, впрочем, также не исключает их критического отношения к ним). Вопрос об
«исторической идентичности», т. е. о связи между идентификацией и лежащим в ее основе образе истории,
словом, об идентификации с собственной историей, в свою очередь, тесно сопряжен с групповым
(институциональным) историческим сознанием.
О чувстве «мы» (nos, nosier) у средневековых историографов современные историки заговорили прежде
всего применительно к их национальному самосознанию . В хрониках национальная идентичность дает
знать о себе уже с того момента, когда на развалинах империи Каролингов начинается образование
национальных государств, и усиливается к XII столетию в ориентированных на династическую историю
хрониках, которые открыли новый этап в развитии этого рода историографии. Сочинения Готтфрида из Ви-
тербо, Отгона Фрейзингенского, Гунтера Парижского, Гуго из Фле-
5
Jeismann К. Е. GsschichtsbewuBtsein / Handbuch der Geschichtsdidaktik.
S. 40-43.
26
Подробно тема национального самосознания в средневековой историографии освещена в: KerskenN. Geschichlsschreibung im
Europa der „nationes". Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter. K6ln; Weimar; Wien, 1995.
Образ истории историческое сознание.
297
ри были продолжением не каролингской (хотя она и использовалась как источник), а позднеантичной
традиции хроник, т. е. своеобразным возвращением к истокам жанра. Перед авторами стояла задача не
только восполнить информационный вакуум X - начала XI в. и написать (или дописать) историю за
прошедшие столетия, по традиции соотнося свою страну (или регион) с другими мировыми империями
прошлого, но и определить ее историческое место в современном мире через отношение к другим
современным государствам-соседям. Так, в «национальной» картине истории у Отгона Фрейзингенского
regnum Teutonicum отграничивается от regnum Francorum. Возникают разнообразные «национальные

истории»: анонимная датская история Gesta Cnutonis regis (XI в.), славянская хроника (Chronica slavorum)
саксонского автора Хельмольда из Босау (XII в.). Historia Anghrum Генриха из Хангтингтона или Gesta
regum Anglomm Вильгельма Малмесберийского (XII в.) предлагают читателям англо-нормандскую версию
английской истории.
Любопытно, что патристическая идея translatio империи обретает у разных авторов разные толкования:
исторические корни для собственной национальной идентичности искали не только у римлям — в
соответсгвии с идеей translatio, но и у галлов, у германцев. Некоторые англо-нормандские хроники
обращались, например, к своему британскому прошлому: Historia regum Britanniae (1137г.) Готфрида Мон-
мугского — это ранняя история Британии до нормандского завоевания. В XIII в., прежде всего у
французских историографов, всплывает миф о преемственности их государственности от древней Трои.
Исгорическая идентификация авторов высокого Средневековья осуществлялась в отношении государства,
Церкви и ее структур, более мелких групп (дом, гильдия, цех) и т. д. Названный в Посвятительном
послании или Прологе, предваряющих практически каждое историческое сочинение, адресат уже позволяет
судить об идентичности. Равно как и жанр произведения — historia, gesta, genealogia.
Так, монастырское историческое сознание и, соответственно, идентичность дают о себе знать в истории
обители, писавшейся обычно в жанре деяний аббатов (gesta abhatorum) или жития основателя (vita) и, как
правило, ее первого насгоятеля, даже в житиях святых -— патронов монастырей. Важно отметить, что в
таких тексгах отражается не просто институциональное историческое сознание монахов (мо-
27
Прекрасный пример — Gesta abbatum Gemblacenssium Сигиберта из
Гембло.
298
Глава 7
нахинь) как сознание, сформировавшееся под влиянием монашеских libertas и жизни extra mundi и в этом
смысле противопоставляющее себя или отграничивающее себя от всякого другого, имперского или
родового, например. Внутри институциональной монашеской идентичности можно обнаружить проявления
идентичности более мелкой группы, объединенной общими целями и идеями. Она конституируется,
например, в житиях «собственного» святого или особенно прославленного аббата и отличает одну общину
от другой. Так, написанные практически одновременно жития горцского аббата Иоанна и клюнийского
аббата Одо содержат историю, характеристику и идеологию монашеских реформ X века, однако в них
представлено разное групповое сознание — сознание носителей лотарингской и клюний-ской реформы,
отчасти соперничавших друг с другом.
Идентификация со «своей» историей, связь историописания с определенными группами и институтами
позволяет говорить не только о групповом (институциональном) историческом сознании авторов.
«Обратный эффект» такой историографии — в конституи-ровании идентичности социальной группы.
Знание собственной истории способствует консолидации группы и является условием последующей
самоидентификации ее членов, ибо всякое сообщество представляет собой то, что оно само о себе помнит.
Принцип создания образа истории группы — «общесредневековый»: группа существует в определенных
пространстве (locus) и времени (tempus), которые, в свою очередь, связаны со значимыми для нее
личностями (personae), но не в силу их индивидуальных качеств, а вследствие их функциональной роли. К
«основателям», «покровителям», «славным предкам» возводится изначальный этап истории группы, своей
персоной они сакрализуют ее существование и узаконивают ее место в божественном миропорядке,
перенимая на себя роль объекта групповой (сословной, профессиональной, родственной) самоиден-
тификации ее членов и символизируя длинную традицию ее славных деяний (fama~)
t
отграничивающую
данную группу от всех «других».
Так, с историей основателя монастыря могла быть тесно связана история всех последующих поколений его
рода. Житие св. Бенно, оснабрюкского епископа, было составлено в основанном им монастыре Ибург и
способствовало впоследствии возникновению домовой традиции — аристократической родовой memoria —
его потомков. Первые
Melvill G. Institutionen als geschichtswissenschaftliches Thema / G. Melvill (Hg.). Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte
und mittelalterliche Befim-de. Koln; Weimar; Wien, 1992. S. 1-24.
Образ истории и историческое сознание...
299
«династически ориентированные» монастырские анналы— Annales Weingartensis Welfici (XII в.). Вайнгартен
был частным монастырем рода Вельфов, и его хроника презентирует соответственно не только групповое
монашеское, но и династическое историческое сознание.
Свойственные историческому сознанию структуры идентификации многослойны: идентичность может быть
обусловлена разными признаками одновременно. В Gesta Hammaburgensis ecclesiae ponlificum Адам
Бременский идентифицировал себя как принадлежащего к своему диоцезу — в церковном смысле, а в
мирском — к провинции Саксония. Для анонимного автора истории рода Вельфов (Historia Welforum)
объектом идентификации (nostri) был этот род, ибо сам он принадлежал дому (domus) Вельфов, что не
исключало и имперского сознания: о Фридрихе Барбароссе он пишет noster imperator.
Исторический интерес и функции историографии
Историческое сознание актуализирует историческое знание для определенных целей, так что за всяким

обращением к прошлому стоит какой-нибудь (и чаще не один) исторический интерес —- научный,
религиозный, политический, этический, групповой и даже развлекательный. Он и объясняет функцию
исторического мышления и историописания, поэтому наряду с историчностью и образом истории к
содержательным характеристикам исторического сознания следует отнести и исторический интерес в его
разнообразных проявлениях
2
.
В высокое Средневековье именно история стала средством толковать и даже решать возникшие в новых
жизненных условиях противоречия и конфликты, что дало свежий импульс рефлексии по поводу ее смысла,
хода, действующих сил. Углубление групповой (институциональной) ориентации исторического сознания
вело к тому, что в интерпретации средневековых историографов именно «собственная» история стала играть
главную роль в глобальном плане спасения человечества: ее события рассматривались как решающие
проблему или оправдывающие партийную позицию. Действия или аргументы оппонентов, напротив,
приписывались дьявольскому внушению и, соответственно, противоречили божественному замыслу. Таким
образом, толкование и оценка современной исторической ситуации зависели от этических убеждений,
групповой принадлежности и политических
24
О функциях историографии и историческом интересе см.: Idem. Wozu Geschichte schreiben? Stellung und Funktion der Historic
im Mittelalter/ R. Koselleck, H. Lutz, J. Riisen. Formen der Geschichtsschreibung. Milnchen, 1982. S. 86-146.
300
Глава 7
воззрений историографа. В силу этих обстоятельств предлагаемый историографией образ истории
неизменно был селективным, так как отбор фактов осуществлялся сознательно, в соответствии с их значе-
нием для исторического интереса автора и с «истинностью».
Значение приводимых историографом res gestae определялось как его внутренними интенциями, так и
функциональной направленностью текста. Сочиняя свой труд, автор обычно пользовался «источниками» —
более древними записями историографической традиции, которые он перерабатывал соответственно
актуальным потребностям момента. При этом собственный вклад историографа заключался прежде всего в
том, чтобы из «хаоса» фактов, известных из предшествующей историографии, составить новый
исторический труд (opus), отвечающий интересам времени и группы.
Историчность фактов и их достоверность, т. е. то, что делает сочинения историческими, связаны с
проблемой критерия истинности в историческом сознании, который в Средние века, как известно, не
совпадал с современным.
В историографии фиктивные истории отличать не так легко, как, например, фиктивные грамоты в
дипломатике. Однако сознательно сфальсифицированные сообщения — лишь верхушка того айсберга
проблем, с которыми сталкиваются современные исследователи при поиске «исторического зерна» в
средневековых источниках . Чаще историографы сами свято верят в истинность того, что сообщают — для
этого они и пишут историю по-своему. Средневековье с большим пиететом относилось к исторической
истине. Сообщать только достоверные факты — девиз всех авторов, о чем упоминается практически в
любом из дошедших до нас Прологов к историческим сочинениям. С одной стороны, это упоминание —
дань риторике, одно из неизбежных «общих мест», порою весьма изящно сформулированных. Chronicon
Вильгельма Тирского, историографа государств крестоносцев, возводит любовь к истине в ранг «долга
писателя» (pfficlum scriptoris), условия выполнения которого мы находим у его современника Адальбольда
— автора жизнеописания императора Генриха II (Vita Heinricill. Imperatoris prol): писатель остается верен
истине тогда, когда избегает в своем труде четырех вещей — «ненависти и плотской любви, зависти и
адской лести». С другой стороны, сплошь и рядом наталкиваясь в исторических сочинениях на явный
вымысел,
Образ истории и историческое сознание...
301
30
Подробнее об этой большой теме: Schmale F.-J. Falschungen in der Ge-
schichtsschreibung / Falschungen im Mittelalter. Internationaler (Congress der MGH in Munchen (1986). 5 Bde. Hannover, 1988. Bd. I. S. 121-
132.
мы не можем обвинять их авторов в сознательном стремлении сфальсифицировать историю, поскольку в
соответствии со средневековыми критериями истинности далеко не всегда вымышленное считалось
ложным: граница между verus nfalsus пролегала не там, где теперь. «Додумывание» автором «исторических
фактов» мотивировалось его убежденностью в их существовании. Всегда можно было допустить, что
прежняя традиция не сохранила их или прежние свидетельства были в силу разных причин утеряны
31
.
Другим типичным случаем непреднамеренной фальсификации сообщений была ситуация, когда автор
прочитывал имеющийся у него источник через призму современной ему ситуации. Так, в эпоху спора за
инвеституру «пропапски» настроенные авторы (Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate Гуго из
Флери; Liber de controversia inter Hildebrandum et Heinricum imperatorem Гвидо Оснабрюкского) искали в
своих источниках исторические доказательства практики низложения королей папами. Таковых, как теперь
известно, не было. Однако тогда им было трудно поверить, что все имевшие место в прошлом факты
низложения королей (каковых в истории было немало) происходили без участия пап. И они интер-
претировали источники неправильно .
В функциональном отношении образ истории был прежде всего дидактическим, поскольку соответствовал
не только когнитивной, но и общей этической функции. История давала урок. Поэтому историографы не
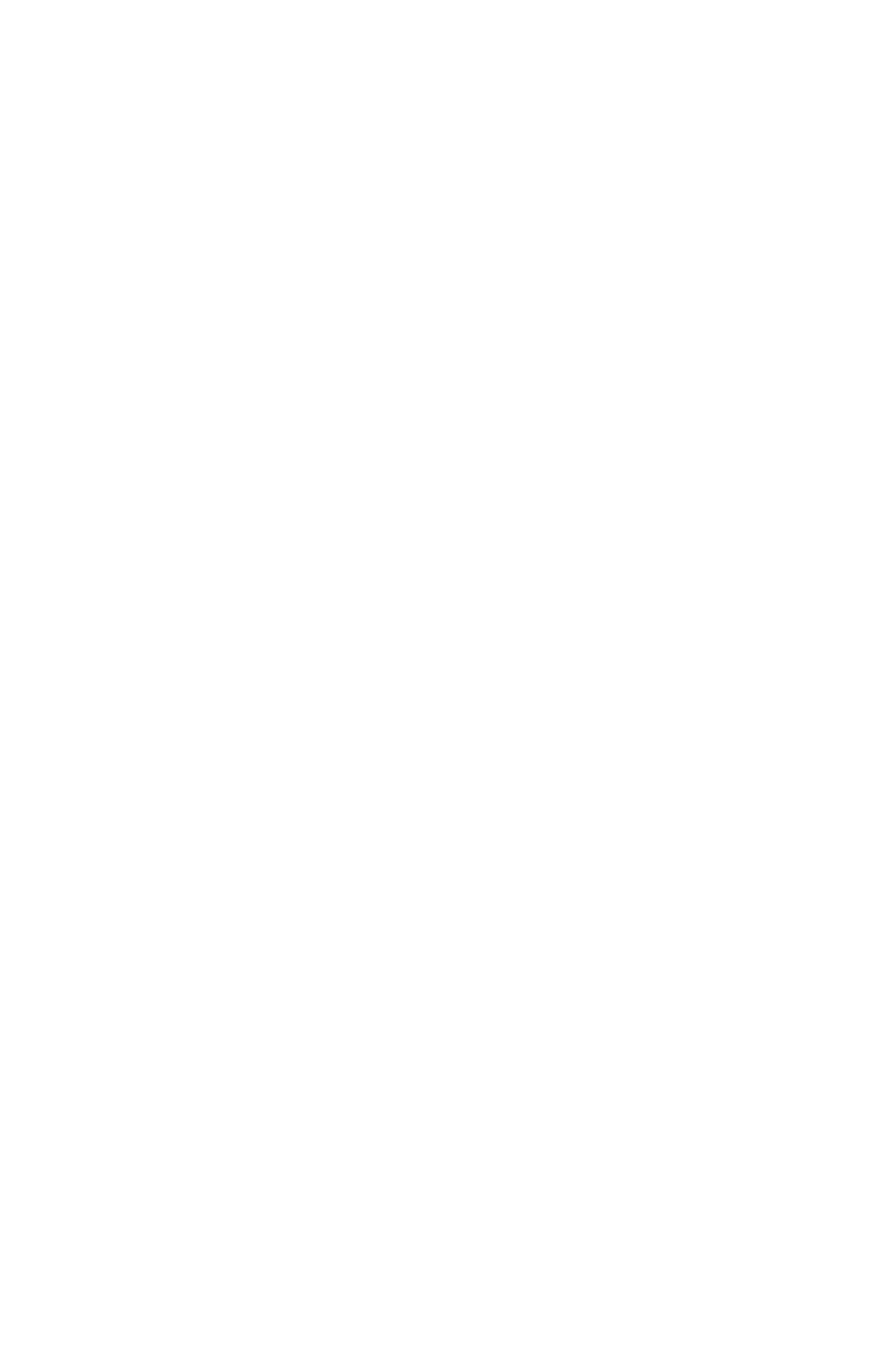
только сообщали о событиях, но сами же их и толковали (что позволяет приблизиться к выяснению их
собственных воззрений). Толкование велось в рамках христианских этических норм, но могло быть и вполне
прагматическим, обусловленным конкрет-
3
' Вот типичный пример авторской мотивации этой установки: «.. .о чудесах блаженнейшего Гангульфа, которые он совершил,
еще будучи в теле, мы ничего не смогли найти, но он поэтому нисколько не дэлжен считаться ниже прочих святых, и мы не
сомневаемся, что он был равен им верой и святостью, и мы не сомневаемся также, что он совершил многие чудеса, пока жил. Но
либо по ленивому небрежению писавших они не были вверены письменам, каковое обстоятельство нанесло не меньший урон и
памяти о других святых, либо, скорее, если что-либо из его деяний и было записано, то или оно одряхлело под действием
древности, либо в несчастные времена, когда монастыри и церкви были разрушены и все вещи потеряны, эти писания точно
так же обратились в ничто, потому что люди тогда разбегались кто куда и заботились только о себе и своей жизни, нисколько не
обременяя себя спасением книг» (Vita s. Gangulfi. Cap. 14).
32
Goetz H.-W. Falschung und Verfalschung der Vergangenheit. Zum Ges-chichtsbild der Streitschriften des Investiturstreits / Falschungen im
Mittelalter. Bd. I. S. 165-188.
304
Глава 7
права или политики, служит для легитимации претензий или прав и создания исторической идентичности.
Историческое сознание высокого Средневековья прямо-таки ориентировано на функцию легитимации,
поэтому ее можно обнаружить в любом историографическом жанре. Так, сознательное обращение к
мифическому (в наших глазах) прошлому, к «историческим истокам» служит не только объяснению
происхождения группы (института, практики, феномена), но и свидетельствует об их почтенном возрасте и,
следовательно, уза-коненности традицией. Для истории группы и чувства ее идентичности было важно
поэтому подчеркнуть длительность ее существования во времени. Многие европейские династии в
genealogia возводили свой род к Цезарю и Августу, историографы Священной Римской империи
напоминали о преемственности ее власти от Рима и даже от Трои. Возраст группы, свидетельствующий о ее
причастности к великим людям далекого прошлого и их славе (fatna), был важнее исторической истины, так
что в ход шли любые малейшие пункты соприкосновения: династиям Вельфов или Штауфенов нужно было
вспомнить о своем родстве с Карлом Великим именно тогда, когда устои их власти находились под угрозой.
В-третьих, взгляд на прошлое предлагал идеал, на который нужно ориентироваться настоящему, чтобы
достичь его в будущем. Историю пишут для современников и потомков, поэтому идеал, эксплицируемый
историографом из прошлого, обретает черты вневре-менности, универсальности. Правда, подобно тому, как
прошлое бывает разным, бывают разными соответственно и идеалы. В этой ориентированности на прошлое
и предлагаемый им «вневременный» идеал лучше всего видна зависимость образа истории от настоящего и
его актуальных потребностей.
Causa scribendi: мотивы и интенции историографов
Если рассматривать историографию как процесс литературной обработки информации под определенным
углом зрения, неизбежно встает вопрос об авторских интенциях. Историографические тексты —
нарративные источники, в которых актуализируется историческое знание автора о настоящем и о прошлом.
Иными словами, они преподносят читателям — реципиентам автора — то, что можно назвать «процессом
формирования опыта», облеченным в определенную литературную форму, и, таким образом, дают им
иллюзию соучастия в этом процессе и его понимания. «Понимание» читателей управляется
функциональными интенциями и автора (например, желанием на примере исторического опыта дать
поучение), и реципиентов (например, речь может идти о самоидентификации), — сло-
Образ истории и историческое сознание.
305
вом, мотивами коммуникативного действия. Насколько реализуемы интенции обеих сторон — автора и
реципиентов, — зависит во многом от суммы знаний читателя, его подготовленности и способности
воспринять текст. Поэтому жанр произведения играет роль своего рода интерактивной структуры. Особенно
«эффективным» с точки зрения «интерактивности» жанром следует считать, пожалуй, относительно
«легкий» жанр исторических анекдотов, т. е. поучительных историй. Хрестоматийный пример — «Деяния
Карла» (Gesta Karoli) монаха Ноткера Заики (конец IX в.). Это адресованный внуку Карла Великого
императору Карлу Толстому свод занимательных и в то же время назидательных историй, прославляющих
добродетели его великого предка как «идеального правителя». Легкость и подчас даже юмористичность
изложения долгое время вводили в заблуждение исследователей, усматривавших в этих записках ученого
библиотекаря едва ли не фиксацию «народной традиции», щедро расцвеченную собственной фантазией
автора и абсолютно непригодную для изучения «истории Карла Великого». Однако Gesta Karoli, хотя ди-
дактичность и сближает их с функциями жанра зерцал, — это все же историческое сочинение. Просто
Ноткер пишет «истории», а не «историю». За кажущейся легковесностью формы (и это пример творческого
переосмысления позднеантичной жанровой традиции exemplum) скрывается серьезная рефлексия о
состоянии современого общества, на основе которой адресату, Карлу Толстому, в ненавязчивой форме
дается урок государственного управления.
С переходом к высокому Средневековью мотивы историографии все больше концентрируются на поиске
принципа упорядочения перемен в картине мира, их объяснении и приведении в гармоническое
соотношение с прежней историографической традицией. Средства обработки исторического материала мало
изменились и заключались в переосмыслении и переписывании заложенной еще в патристике концепции и
практики толкования истории применительно к новой обстановке и новым общественным потребностям.
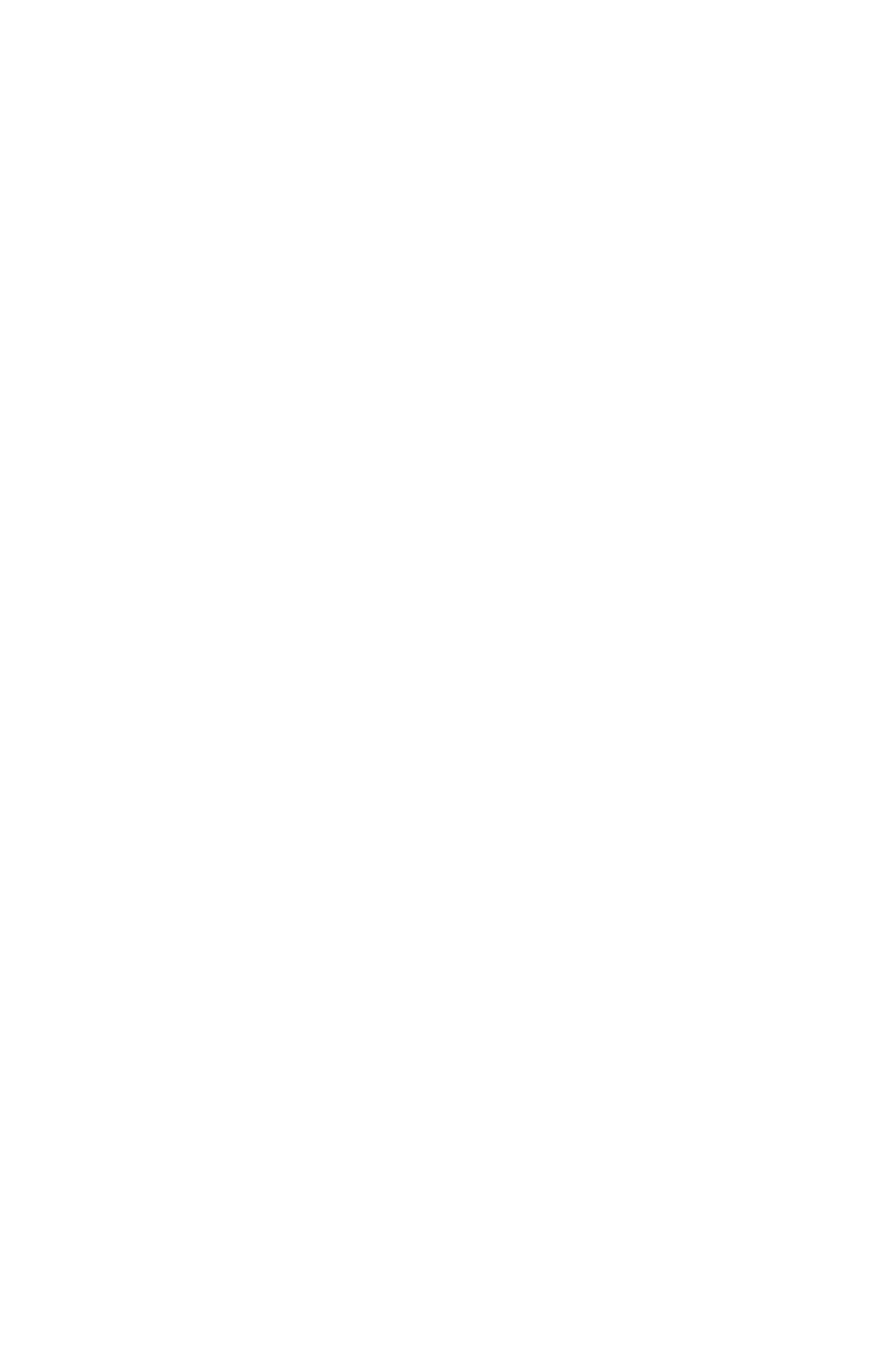
Поэтому, с одной стороны, обозначаемые авторами в Прологах цели их труда были традиционными —pro
memoria славных времен и в назидание потомкам; познание деяний Божиих, открывающихся в деяниях
человеческих (так Иоанн Солсберийский охарактеризовал цель составления хроник в своей Historia
pontificalis); во славу Бога или (и) короля и т. п. Но, с другой стороны, на деле из исторических сочинений
эксплицируются и другие, гораздо более приземленные, мотивы. Историография оживляет память о
прошлом по вполне конкретным поводам, будь то стремление к легитимации власти (особенно ощутимое в
домовой
306
традиции королевских и аристократических родов) или историческая аргументация прав собственности или
свобод. В этом смысле средневековые исторические тексты были многофункциональны: историографы
были озабочены не только «сохранением памяти» (a memoria viventium) о достославных деяниях
замечательных личностей прошлого, но и тем, чтобы предостеречь от посягательств на владения и иму-
щество их потомков, их «группы», а если оно было отчуждено — исторически обосновать права на него и
попытаться вернуть.
К примеру, монастырские хроники (annales) помимо повествования о собственно истории монастыря
содержали скрупулезный перечень имен его дарителей и благодетелей, с полным описанием их
общественного положения и (в хронологической последовательности) даров, так что иногда такие хроники
напоминали скорее ур-барии (Annales Palidensis). Если речь шла о земельных владениях — подробно
описывалась территория. Борьба монастырей за свою независимость от епископов — тема актуальная на
протяжение всего Средневековья — чаще всего становилась causa scribendi для описания деяний их аббатов
(gesta abbatontm) или сочинения жития (vita) основателя, где с особым усердием перечислялись, т. е.
исторически обосновывались, все привилегии и свободы обители.
Историческое обоснование сочеталось обычно с наставлением на будущее — из истории следовало
извлекать урок. Житие св. королевы Матильды (Vita Mathildis Reginae posterior) является своеобразной
историей правления рода Отгонов, которую анонимный автор (конец X в.) адресовал ее внуку —
императору Отгону II. Однако все жизнеописание прославленных предков адресата — самой королевы, ее
супруга императора Генриха и их сына Отгона Великого, их усердия в «делах благочестия», особенно в
основании и поддержке монастырей, было гем исгорическим фоном, на когором разворачивается главная
идея сочинения — защита прав женского монастыря Нордхаузен, в котором было написано житие. Нордхау-
зен был основан и содержался Матильдой, рассчитывавшей закончить гам свои дни. Вскоре после смерти
вдовствующей королевы Отгон II подарил монастырь молодой жене — племяннице византийского
императора — в полную собственность, что могло не лучшим образом сказаться на судьбе монахинь.
Критическая ситуация, в которой оказался монастырь, стала непосредственным поводом для создания
жития, напоминающего о былом привилегированном положении обители. Подробнейший перечень
благодеяний (и дарений) Матильды по отношению к Нордхаузену должен был послужить ее внуку
примером, а описание кризиса власти Отгона! после 936г.,
Образ истории и историческое сознание.
307
произошедшего оттого, чго гот «препятствовал благочестивым деяниям матери» (как известно устраненной
им от политики и, главное, лишенной средсгв, предназначаемых для благотворительности) —
недвусмысленным предупреждением
35
. Впрочем, следует подчеркнуть еще раз, прагматическая ориентация
causa scribendi историографических сочинений не означала превалирования «светского» над
«теологическим» в историческом знании, равно как о всей средневековой историографии нельзя сказать, что
она была исключительно функциональной: политический или любой другой практический аспект органично
вплегался в мировую историю спасения.
Итак, в конце раннего и в высокое Средневековье образ истории в историографических сочинениях
содержит некую сумму представлений о прошлом, которые, как правило, и интерпретация случившегося, и
объяснение, увиденное из перспективы настоящего. Он покоится на исторической теологии и
упорядоченном хронологически историческом знании, в основе которого — христианско-
теологическое мировоззрение и индивидуальное историческое сознание автора, в свою очередь являющееся
разновидностью соотнесенного с социальной группой (институтом) коллективного исторического сознания
эпохи. Однако историография опосредует не «историю», а различные варианты образа истории —
селективной, упорядоченной и подвергнутой оценке, т. е. то, что современная историческая наука о
культуре называет исторической («культурной» в терминологии Я. Ассманна, «коллективной» — М.
Хальбвакса) памятью. Разумеется, эти образы истории включены в многовековую традицию, но всякий раз в
определенной степени переосмыслены в соответствии с авторскими ингенциями и функциональной направ-
ленностью исторических сочинений. В этом смысле средневековая историография являет собой форму
сознательного обращения к тому прошлому, в когором нуждается (причем в письменной, жесткой форме
фиксации) историческая память настоящего. Поэтому историографические сочинения отражают не только
заключенную в них версию минувшего, но и лежащее в основе свойственного им образа истории
историческое сознание — определенную установку в отношении к истории и определенную интерпретацию
функции истории применительно к современности.
35
AlthoffG. Causa scribendi und Darstellungsabsicht: Die Lebensbeschreibun-gen der KCnigin Mathilde und andere Beispiele// M.

Borgolte, H. Spilling (Hg.) Lit-terae medii aevi. Festschrift f. J. Auteimeth. Sigmaringen, 1988. S, 117-135.
ГЛАВА 8
MEMORIA ВЕЛЬФОВ:
ДОМбВАЯ ТРАДИЦИЯ
АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ РОДОВ*
I. Memoria аристократических родов и ее особенности
Феномен memoria в последнее время все чаще находится в центре самых разнообразных исследований из
области исторических наук о культуре . Ян Ассманн прогнозирует даже, что «вокруг понятия воспоминание
выстраивается новая парадигма наук о культуре, которая позволит увидеть различные культурные
феномены и поля — искусство и литературу, религию и право — в новых взаимосвязях» . Применительно к
изучению Средневековья такая парадигма выстроилась гораздо раньше, чем о ней заговорили
3
. Именно
медиевистика установила, в чем социальные корни memoria в культурах, предшествующих Современности
(нем. Moderne), т. е. в Античности, в Средние века и даже еще в раннее Новое время: memoria есть форма
социальных действий индивидов и групп, которая основывается на религии, метафизике, литургии и
непосредственно связана с ними, но одновременно имеет правовой характер, а значит покоится на правовых
связях и сама создает их. Кроме того, memoria находит свое выражение в разнообразных проявлениях
культуры — в текстах, картинах, памятниках и общественных институтах . Как
* Перевод Ю. Е. Арнаутовой.
Oexle О. С. Метопа in der Gesellschaft und in der Kultur des Mittelalters / J. Heinzle (Hg.). Modernes Mittelalter. Frankfurt a. M.;
Leipzig, 1994. S. 297-323; D. Geunisch, O. G. Oexle (Hgg.). Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters. Gottingen, 1994;O.G. Oexle
(Hg.). Memoria als Kultur. Gottingen, 1996.
AssmannJ. Das kulturelle Gedachtnis: Schrift, Erinnerung und politischc Identitat in friihen Hochkulturen. Munchen, 1992. S. 11.
3
K. Schmid, J. Wollasch (Hgg.). Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des titurgischen Gedenkens im Mittelalter. Munchen, 1984;
K. Schmid (Hg.). Gedachtnis, das Gemeinschaft stiftet. Munchen / Zurich, 1985; Oexle O, G, Gruppen in der Gesellschaft. Das
wissenschaftliche Oeuvre von K.. Schmid // Frilhmittelalterliche Studien. Bd. 28. 1994. S. 410-423.
4
Oexle O. G. Memoria und Memorial uberlieferung im iruheren Mittelalter//
Домовая традиция аристократических родов
309
форма социальных действий индивидов и групп, относящихся к живым (особенно к отсутствующим) и к
мертвым, memoria является в то же время существенным условием возникновения и функционирования этих
групп, поскольку конституирует группу и обеспечивает ее существование во времени .
Пока мы еще очень далеки от сравнительной истории социальных групп под углом зрения memoria в
доиндустриальных обществах. Однако медиевистика в последние 30-40 лет весьма продвинулась на этом
пути, особенно в области изучения memoria знатных семей, домов, родов
6
. Уже сейчас можно утверждать,
что в отличие от форм манифестации memoria других групп, например, монашеских общин или
каноникатов, гильдий и коммун, memoria аристократических семей и домов имеет три отличительных
признака.
Во-первых, здесь memoria служит не только образованию группы, но и по существу является залогом ее
сословного «качества», т. е. ее знатности и благородства: аристократизм обусловливается происхождением
7
.
Индивид или его семья тем знатнее и благороднее, чем далее в глубину веков прослеживается ряд их
предков, а значит, чем длиннее мемориальная традиция. Утрата memoria означает одновременно утрату
аристократического достоинства, равно как ее возрастание способствует «приращению» благородства. Не
удивительно поэтому, что современные социологические исследова-
Fruhmittelalterliche Studien. Bd. 10. 1976. S. 70-95; Idem. Die Gegenwart der Toten / H. Braet, W. Verbeke (Hg.) Death in the Middle
Ages. (Mediaevalia Lovaniensia I, 9), Lowen, 1983. S. 21-77; Idem. Memoria und Memorialbild/ K. Schmid, J. Wollasch. Memoria. S.
384-440.
5
Об этом подробнее: Oexle О. G, Liturgische Метопа und historische Erinnerung. Zur Frage nach dem GruppenbewuBtsein und
dem Wissen der elgenen Geschichte in den mittelalterlichen Gilden / N. Kamp, J. Wollasch (Hg.). Tradition als historische Kraft.
Interdisziplinare Forschunge.i zur Geschichte des friihen Mittelalters. Berlin; New York, 1982. S. 323-340.
6
Фундаментальными и задающими тон в этой области можно считать работы К. Шмида «К вопросу о семье, клане, роде, доме
и династии в Средние века» (1957) и «Самосознание Вельфов» (1968) (SchmidK. Gebetsgedenken und adliges Selbstverstandnis im
Mittelalter. Ausgewahlte Beitrage. Sigmaringen, 1983. S. 183-244; 424-453). Ср. также: Oexle О. G. Gruppen in der Gesellschaft.
Непосредственно о роде Вельфов см.: Scheidmiiller В. Landesherrschaft, welfische Identitat und sachsische Geschichte / P. Moraw
(Hg.). Regionale Identitat und soziale Gruppen im deutschen Mittelalter. Berlin, 1992. S. 65-101.
7
Oexle O. G. Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der fruhen Neuzeit / H.-U. Wehler (Hg.). Europaischer Adel 1750-
1950. Gottingen, 1990. S. 19-56(5.2 Iff).
310
Глава 8
ния, изучающие тетопа как производное социальных действий индивидов и групп
8
, зарождающееся в
процессе коммуникации и интеракции в рамках социальной группы (причем культурная память групп и их
идентичность взаимно влияют друг на друга и взаимно обусловлены), наиболее полно могут осветить этот
процесс именно на примере аристократии
9
.
Во-вторых, с тетопа аристократического рода нераздельно связаны его знатность и слава — honor, gloria,
fama, honneur. Memoria a fama являются основным конституирующим фактором по отношению друг к
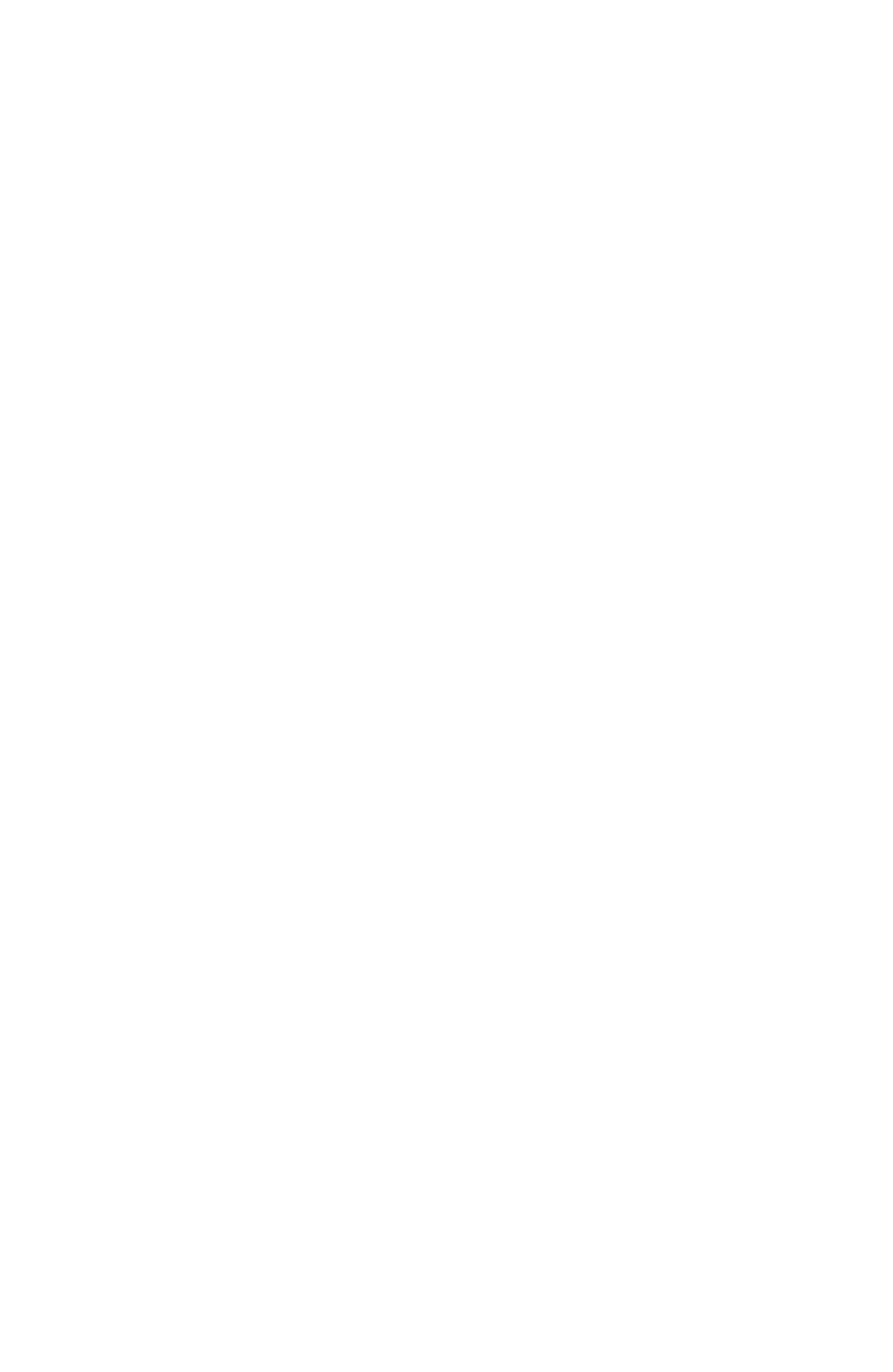
другу: fama увеличивает memoria,, а тетопа есть необходимое условие для/ята . «Ретроспективная»
memoria, включающая поминовение мертвых и сохранение памяти о них и их славных деяниях, служит
предпосылкой и основанием для тетопа «проспективной», направленной на будущее, на то, чтобы в разных
формах — в текстах, картинах и монументальных памятниках — преумножить и увековечить эту славу для
грядущих поколений''.
И наконец, в-третьих, следует упомянуть специфический для аристократии момент взаимосвязи тетопа и
власти, господства'
2
. Наличие длинного ряда поколений знатного рода одновременно свидетельствует о его
непрерывно, в течение столетий, возрастающей способности к власти. Метопа непосредственно
легитимирует власть, поскольку «власть нуждается в происхождении»
13
.
II. Метопа как форма презентации власти
Эти вводные замечания предваряют тему тетопа дома Вель-фов в XII в., которая в сравнении с другими
аналогичными ей фено-
Halbwachs M. Les cadres sociaux de memoire. Paris, 1925. Ibid. Cap. 7 (Le classes sociales et leur tradition).
Oexle O. G. Die Memoria Heinrichs des Lo"wen / D. Geunisch, O. G. Oexle (Hg.). Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters. S. 128-
177.
AssmannJ. Das kulturelle Gedachtnis. S. 61, 70 f.
Признание существования этой связи стало предпосылкой для того, чтобы современное изучение истории аристократических
родов пошло рука об руку с изучением их memoria. Оба направления взаимно стимулировали друг друга.
Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis. S. 71. Ассманн предлагает и здесь различать «ретроспективную сторону» memoria и
«проспективную», способствующую «узурпации будущего» власть предержащими: «Они хотят, чтобы о них вспоминали,
создают себе памятники своими деяниями, заботятся, чтобы эти деяния остались в рассказах, были воспеты, увековечены в
монументальных памятниках или по меньшей мере в архивных документах». Власть «легитимирует себя в ретроспективе и
увековечивает в перспективе».
Домовая традиция аристократических родов
311
менами является едва ли не единственной в своем роде. Действительно, мемориальной традиции, которую
можно было бы сравнить с тетопа рода Вельфов, не было ни прежде — у Каролингов, Отгонов или Салиев,
ни непосредственно в XII в. — в королевских родах Капетингов, Плантагенетов или Штауфенов. Можно
выделить шесть оригинальных признаков традиции тетопа Вельфов, характеризующих ее неповторимые
особенности.
Во-первых, это ее удивительная интенсивность, т. е. большое количество очень быстро возникающих и
сменяющих друг друга во времени примеров манифестации тетопа этого знатного рода. То же самое
можно сказать о многообразии форм ее выражения — в текстах, картинах и скульптуре, в литургии и
историографии. Далее — необычно высокое качество и новаторский характер этих свидетельств, особенно
заметные, например, в тех памятниках тетопа Вельфов, которые были изготовлены по поручению Генриха
Льва для его супруги Матильды
14
. Во-вторых, уникальной является длительность этой тетопа во времени, о
чем уже писали исследователи
15
и еще пойдет речь ниже. В-третьих, в источниках, где манифестируется
тетопа Вельфов, содержатся рассуждения о возникновении и структуре тетопа аристократических родов
вообще, что само по себе весьма необычно. В-четвертых, поражает свойственная этим свидетельствам
необыкновенная ясность и осознанность, с которой члены дома Вельфов выступают в них как носители и
инициаторы своей родовой тетопа. В-пятых, нужно отметить, что все деяния, направленные на
продолжение тетопа, сопровождаются одновременной рефлексией о ней, т. е. существует
непосредственная связь между мемориальной практикой и ее осмыслением. И наконец, в-шестых, следует
обратить внимание на живую связь между традицией тетопа этого рода и его властью. В XII в. свои
претензии на власть, как на юге, так и на севере Германии, Вельфы самым неповторимым образом
презентировали в форме тетопа, причем в ее историческом развитии. Всякий раз манифестация тетопа
непосредственно следовала за образованием их родового владения, и в этом смысле тетопа была как
формой репрезентации власти, так и одновременно формой рефлексии о ней.
Тесная связь между появлением новых свидетельств тетопа рода Вельфов и образованием их родового
владения позволяет вы-
14
SchmidK. Welfisches Selbstverstandnis. S. 183-244.
ls
На примере истории искусства эта тема разработана Swarzenski G. Aus dem Kunstkreis Heinrichs des Lowen // Stadel-Jahrbuch.
Hft. 7/8. 1932. S. 241-397.
312
Глава 8
делять отдельные фазы memoria Вельфов, в свою очередь соотносимые с определенными периодами
истории господства этого рода. В начале имеет место фаза итоговой консолидации власти Вельфов на Юге,
что произошло уже после спора за инвеституру и стало предпосылкой для учреждения и формирования
memoria Вельфов герцогом Генрихом Черным (ум. 1126г.). Эту фазу можно датировать первой половиной
1120-х гг. Далее следует этап усиления господства Вельфов на Севере, в герцогстве Саксония и за его
пределами, прежде всего при герцоге Генрихе Гордом (ум. 1139г.). Третья фаза истории memoria Вельфов
соотносится с периодом их одновременного господства в двух регионах: в Саксонии, где правил Генрих
Лев, и в Швабии, где правил его дядя Вельф VI. Данный период характеризуется близостью интересов
Вельфов и Штауфенов в начале правления Фридриха Барбароссы, который по линии своей матери Юдит
тоже был Вельфом, что во многом способствовало переходу королевства под власть Штауфенов в 1152 г.
