Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью
Подождите немного. Документ загружается.


высшим руководством компании. Во все возрастающей степени консультант по
проблемам коммуникации ответствен за выработку стратегии развития предприятия и его
тактических планов.
Глава 2. Грамматика связей с общественностью
•)Первоначальное определение
•)Связи с общественностью и реклама
•)Внутренние связи с общественностью
•)Внешние связи с общественностью
«Не в том состоит затруднение, что выражение «связи с общественностью» не имеет
смысла, а скорее в том, что так называют массу совершенно разных вещей». Это
признание Стивена Фицджеральда (Stephen Fitzgerald) не является констатацией
исследовательского бессилия, но подтверждением многообразия явлений, в равной
степени соответствующих этому до удивления неуловимому термину. За океаном дошли
даже до того, чтобы назвать PR «искусством побуждать людей вести с вами свои дела»!
(Роберт Р. Апдеграф — Robert R. Updegraff) Во Франции же этот термин относится скорее
к сфере и понятиям морали — обозначает распространение универсальной, всеобщей и
необходимой для каждого информации, цель которой «восстановить истину там, где
воцарились ошибка и ложь», если следовать словам Л. Дево (L. Devaux), президента
нефтяной компании Shell Bene, которые он произнес на открытии конференции,
посвященной этике связей с общественностью.
Дать определение связям с общественностью сложно еще и потому, что нелегко выделить
собственно саму область этой деятельности, отграничив ее от рекламы, пропаганды,
отношений с прессой и даже от распространения технической документации. Не доходя
до утверждения, что предмета связей с общественностью не существует как такового,
остается признать, что это весьма относительное понятие. Однако есть основная идея,
согласно которой PR с самого начала были ориентированы на интересы всего общества,
на распространение информации, важной для всех и каждого, т.е., осмелимся утверждать,
что их характерная черта — беспристрастность. Еще Иви Ли говорил, имея в виду Рок-
феллера, что «большая компания не сможет выжить, если она не объяснит людям, и в
первую очередь своим сотрудникам, в чем состоит ее роль на уровне местного сообще-
ства, региона или страны, и какую пользу она всем им приносит». Главную идею связей с
общественностью следует искать в формуле «хорошо работать и рассказывать об этом».
Их символом останется стеклянный дом Шарля )Блонделя, то есть невозможность какого
бы то ни было обмана, ловкачества и очковтирательства, ассоциировавшихся одно время с
деловой жизнью.
Связи с общественностью относятся к тому типу деловой этики, которая вытеснила в
прошлое эпоху «буржуа-конкистадоров» с их жестокой конкуренцией на ножах.
«Огромное преимущество, незаменимое достоинство широко распространяемой
достоверной информации (которая и составляет саму суть PR) состоит в том, что она
заставляет руководство реформировать то, что плохо работает, в том числе, реформиро-
вать самих себя». Автор этой формулы Луи Саллерон (Louis Sallerori)
1
, сам не желая того,
воспроизводит идеал Конфуция, согласно которому настоящий человек претворяет свои
слова в дела, после чего сопровождает свои дела словами. А грамматика связей с
общественностью именно и состоит в гармоничном сочетании «слова» и «дела»: и их
диалектика являет собой не пустую риторическую формулу, но руководство к действию.
1

1
Hommes et mondes, septembre 1951.
Первоначальное определение
Согласно определению Л. Саллерона, «связи с общественностью суть набор способов,
применяемых предприятиями для создания климата доверия в коллективе, а также в
среде, с которой им приходится взаимодействовать, и обычно в обществе как таковом — с
целью обеспечить поддержку своей деятельности и способствовать своему развитию. В
конечном итоге они должны создать гармоничный комплекс социальных связей,
порожденных экономической деятельностью в условиях лояльности и правдивой
информации»
1
.
Три критерия данного определения, с которым согласился Л. Дево и которое мы
принимаем в качестве рабочей основы, — общий интерес («вносить определенный
вклад»), введение в научно-исследовательский инструментарий некоего онтологического
понятия и «полное освобождение от каких бы то ни было элементов рекламного
свойства». Соответственно специалист по связям с общественностью не должен делать
следующих вещей: считать себя менеджером по персоналу, пытаться «отмыть добела
черного кобеля», стремиться занять пост руководителя рекламной службы, орга-
низовывать в рамках предприятия центры по изучению астрологии, мистики и даже
философии. По мнению Л. Дево, специалист по PR должен быть «честным человеком в
духе XX в. и согласно букве века XVII», т. е. человеком сдержанным, компетентным и
серьезным, не «эстрадным конферансье, не торговцем развлечениями», но точным и
достоверным информатором.
Рене Тавернье и Стефан Феликс, два первых основателя Французской ассоциации связей с
общественностью (AFREP), справедливо отмечали, что появление PR в англо-саксонской
и преимущественно протестантской стране не выглядит случайностью, ибо осуждающий
богатство католицизм прославляет земную бедность
2
. В странах латинского мира
богатыми действительно не восхищаются — к ним испытывают ревность. Уильяму Питту
(William Pitt) принадлежат известные уже в конце XVIII в. слова: «Бедность — не порок,
но в ней есть что-то чертовски вызывающее». Цитируя Питта, Гэлбрейт (Galbraith)
добавляет: «В сегодняшней Америке бедность уже не является вызывающей. Это —
порок». Связи с общественностью исходят из представлений о труде, являющихся в дан-
ном случае фундаментальными. Согласно таким представлениям, богатство — это хорошо
— если процветающая компания вносит полезный вклад в жизнь общества, членом (или
частью) которого она является; в этом случае стоит и даже необходимо рассказывать о ее
богатстве к вящему укреплению ее авторитета, чести и достоинства.
Впрочем, главной и первостепенной целью связей с общественностью является
информация.
Эта информация не может быть ни ошибочной, ни ложной, что само собой разрушило бы
структуру связей с общественностью. Один пример: несколько лет тому назад госу
дарственная организация, занимающаяся связями с общественностью в пищевой
промышленности, Центр информации и взаимосвязи в области питания (Centre
d'information et de liason de l'alimentation — CILA) начала акцию под названием «Индекс
Кобак» («L'index Cobac»). Суть ее состояла в том, чтобы выразить наличие микробов в
продуктах посредством цветовой гаммы. Розовый цвет обозначал самую безопасную, с
бактериологической точки зрения, продукцию, а желтый — самую неблагополучную.
Другие цвета соответствовали различным промежуточным показателям. Пришедшие на
заводы инспекторы брали образцы продукции, запечатывали их в стерильные флаконы и
1
1
2
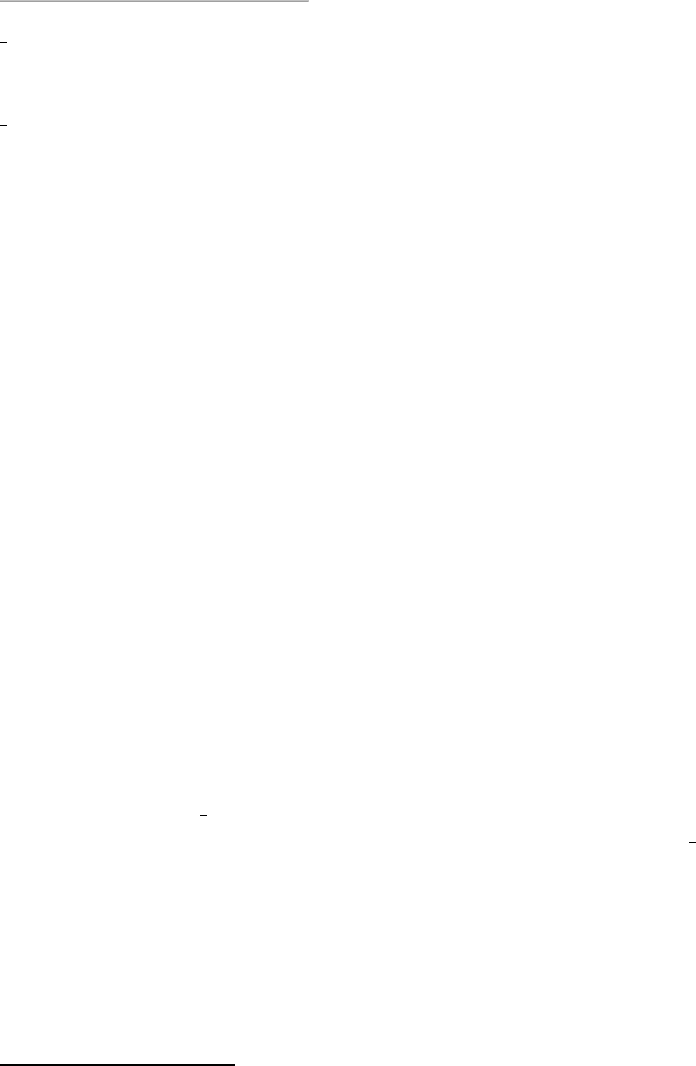
через восемь дней посылали ответ, что в таком-то продукте обнаружены такие-то
микробы. Однако большинство руководителей не понимали, что означает то или иное
греческое название микроба, и цветовое табло помогло им сориентироваться в вопросе,
насколько токсичен исследованный продукт. Розовый цвет индикатора был показателем
наивысшего качества, и благодаря цветовой шкале многие производители сумели серьезно
улучшить свою продукцию по такому показателю как количество микробов. Таким
образом, была продемонстрирована тесная связь технического прогресса с прогрессом
моральным.
1
См. Les relations publiques dans la societe moderne, AFAP, 1957. Статьи Leading article
президента Тавернье (Tavernier), С. 31—46. А также Techniques actuelles des relations
publiques, Hommes et Techniques, 1959 (Tavernier et S. Felix).
2
Ibid.
Связи с общественностью и реклама
Реклама и связи с общественностью часто предстают в облике сестер-соперниц. В первый
период своего существования связи с общественностью подвергались столь сильным
нападкам со стороны коллег-рекламщиков, что появился еще один вариант расшифровки
аббревиатуры PR — «подпольная реклама» (publicite resquillee)! В статье, опубликованной
в газете «Le Monde», Юбер Бев-Мери (Hubert Beuve-Мегу) дал определение рекламы как
«формы классической афиши», подчеркнув, что она «информирует и разъясняет, но
только коммерческую сторону, и всегда с выгодой для предлагающего». В рекламе нет
двойного дна: она говорит то, что хочет сказать. Два специалиста по рекламе (см. книгу Б.
де Бла — В. De Bias и Г. Вердье — Н. Verdier «Реклама») вносят уточнение:
«Коммерческая реклама — это набор способов массового воздействия, призванных
принести пользу предприятию путем приобретения, расширения и удержания его
клиентуры».
Иные желчные умы и сегодня готовы видеть в связях с общественностью скрытую
рекламу, осуществляемую посредством прямого или опосредованного давления,
оказываемого на печатные или электронные СМИ.
На деле руководитель рекламного отдела работает совершенно иначе, чем его коллега,
действующий в сфере PR. Первый преимущественно приобретает рекламные площади,
второй транслирует информацию, сообщает редакторам газет сведения, которые могут
представлять для них интерес, независимо от того, будут ли они опубликованы. И в
любом случае не может быть и речи о том, чтобы платить журналисту за размещение
нужного материала
1
.
Впрочем, вот конкретный пример, использованный в книге Вердье
2
. Итак, рекламная
кампания производителя синтетических моющих средств будет состоять из расклейки
рекламных плакатов, рассылки буклетов, публикации объявлений в газетах, организации
выставок, экспозиций, изготовления значков, вымпелов, наклеек и раздачи рекламных
образцов продукции. Вся эта деятельность будет направлена на создание высокоц оценки
товара, на то, чтобы его название, его упаковка и его качество (всегда «превосходное»)
стали известны широким массам. Радио и телевидение могут дополнить кампанию своими
средствами. Теперь предположим, что та же фирма захочет провести кампанию по связям
1
2
1
2

с общественностью. Внешние связи с общественностью (ориентированные на клиентуру)
потребуют создания специального журнала для женщин, который необходимо будет
разослать тысячам читательниц, среди которых окажутся руководители, работники
органов власти, экономисты и домохозяйки. «В этом журнале не будет рекламы в прямом
смысле этого слова, а только материалы, расска зывающие о том, что так или иначе
связано с использованием продукции и с фирмой-изготовителем, перемежаемая интерес-
ными рассказами и дамской хроникой». В дополнение к этому фирма устроит также
серию «бесплатных семинаров по домашнему хозяйству, об организаторе которых станет
известно общественности». Она предложит экскурсии по предприятию, создаст женские
клубы и т. п.
Очевидно, впрочем, что основное различие между рекламой и PR кроется в точности
информации. Конечно, реклама не врет, но она представляет истину очень специфически,
«ретуширует» ее, «приодевает», слегка провоцирует. Сообщение, передаваемое в рамках
PR, должно быть, напротив, совершенно аутентичным. Реклама не может не «деформиро-
вать», или даже не приукрашать или «возвеличивать» имидж марки. «Связи с
общественностью, — говорит почетный председатель Французской федерации рекламы
Анри Эно (Henri Henault), — показывают истинное лицо предприятия».
На уровне коммерческого предприятия нередко происходит смешение рекламы и PR, а в
государственных службах подобное бывает с PR и пропагандой. Действительно, если речь
идет об отношениях администрации или же самого государства с обществом, как
избежать риска подмены связей с общественностью пропагандой?
В четко очерченном случае тоталитарного государства роль пропаганды будет состоять в
вовлечении общества в строгую политическую, идеологическую или религиозную
систему, и убеждение будет осуществляться здесь жесткими принудительными методами.
Здесь будут стремиться к «промыванию мозгов». Пропаганда принципиально отличается
от связей с общественностью в той мере, в какой она стремится воспитать сознание в духе
религиозного поклонения и фанатизма там, где связи с общественностью ограничиваются
представлением, информированием или обеспечением свободного доступа к
документации. «К примеру, американская церковь, — справедливо замечает Г. Вердье, —
будет вести PR-кампанию в том случае, если ее цель будет показать себя и завоевать
расположение в том сообществе, где она существует. Но если она намеревается обращать
людей и переманивать их у церквей-соперниц — налицо пропаганда. Марсель Блештейн-
Бланше (Marcel Bleustein-Blanchet) поведал о том, как его упрекал советский посол: «"Вы
ведь так часто лжете в ваших газетах!"... — "Да, господин посол, — ответил я, — но я не
могу повторяться, ведь во второй раз мне никто не поверит. Это была бы уже
пропаганда!"» Анекдот кажется нам весьма показательным, особенно если вспомнить
слова президента Publicis, добавлявшего: «Нелегко порой провести грань между рекламой
и пропагандой, однако очевидно, что последняя апеллирует только к силе и власти, она
навязывается с жестокостью рукоприкладства. Что до рекламы, то она порождение
свободного выбора, игры спроса и предложения».
Превосходно проанализированное Сергеем Чахотиным (Serge Tchakhotine) насилие над
толпой, в котором уже присутствовали следы «психологического действия»,
представляется чем-то в корне противоречащим самому принципу связей с
общественностью. Напротив, свобода суждения, в идеале уважаемая рекламой и
основанная на достоверной, полной и целостной информации, указывает нам верный путь
развития связей с общественностью. В то же время пропаганда, как бы этого порой ни
хотелось избежать, следует по пятам за связями с общественностью везде, где их
принимают по доброй воле. Таким образом, если критерием отличия PR от рекламы
является истина, то от пропаганды его позволит отделить свобода.
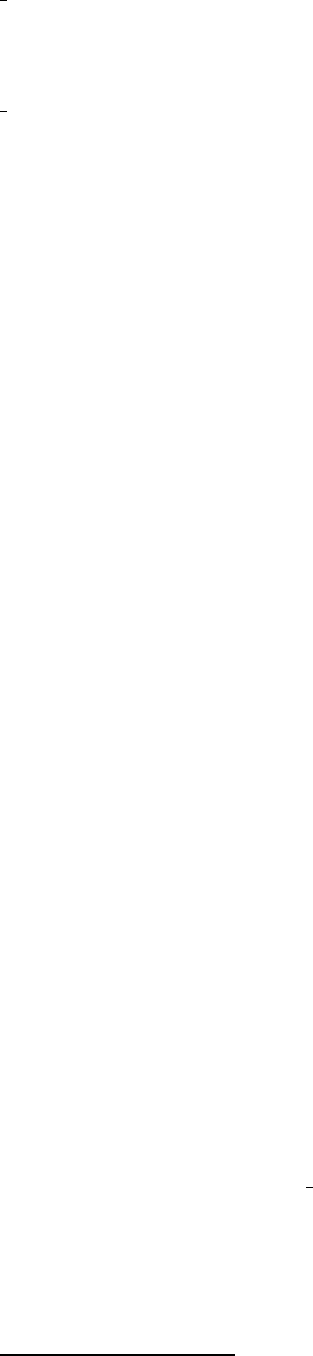
1
Нечто подобное произошло в 1956 г., когда многие французские журналисты получили
чеки от владельцев Суэцкого канала (Compagnie umverselle du canal de Suez) с
благодарностью за публикацию своих коммюнике. Все вернули свои чеки назад, указав,
что они всего лишь делали свое дело. (Случай приводится в книге М. Тавернье).
2
Verdier H. Les relations publiques, Paris, 1959.
Внутренние связи с общественностью
Несколько лет тому назад я ехал однажды в такси с угрюмым шофером. При каждом
неожиданном скрежете в коробке передач он сквозь зубы цедил ругательства в адрес
нанявшей его компании. На вопрос, кто же из руководства столь перед ним провинился,
он ответил уклончиво. Ему, как и его сотоварищам, не нравилось, что компания
предоставляет им ма лопригодные, часто старые машины, качество которых всегда
оставляет желать лучшего, и это сказывается и на работе, и на доходах. Ничего не
понимая в технике, я поставил вопрос с человеческой точки зрения, и оказалось, что,
проработав пять лет в компании, этот шофер ни разу не видел ни «хозяина», ни менеджера
по персоналу, ни вообще кого бы то ни было из высшего руководства. В то же самое
время он хорошо знал членов профсоюзного комитета и мог легко назвать с десяток их
имен.
Пусть этот маленький случай послужит руководителям предприятий пищей для
размышления: когда процесс администрирования выходит за рамки «маленькой
мастерской», руководители обязаны все же поддерживать отношения с персоналом, каким
бы он ни был многочисленным. Самые крупные компании это уже поняли, что привело к
появлению идеи внутренних связей с общественностью, которые получили у
специалистов названия:
1. связи с акционерами (в случае акционерного общества);
2. связи с поставщиками;
3. связи с персоналом.
Что касается персонала, то в зависимости от того, о ком идет речь — о руководителях
высшего звена, об агентах или менеджерах, о служащих или рабочих, — проблема может
выглядеть и решаться по-разному. Впрочем, единственной и главной проблемой остается
поиск, сохранение и поддержание прочных контактов с сотрудниками, которые были бы
свободны от патернализма минувших лет.
Самые классические проявления внутренних «связей с общественностью» — общие
собрания и собрания по группам, показы фильмов, семинары, производственная пресса,
Шуточный «Оскар» или операции «Правда» или «Качество» (недавно гренобльская фирма
Merlin & Gerin провела операцию «Тотальное качество», давшую превосходные
результаты). Эти мероприятия, основанные на данных предварительных исследований и
подчиненные общему плану, одновременно гибкому и решительному, успешно разряжают
обстановку в коллективе. Те же самые принципы будут действовать и в отношении
поставщиков с акционерами: понимание, сотрудничество, взаимодействие должны стать
направляющими для связей с общественностью. Приведем замечательный пример —
Gaieties orleanaises в Орлеане
1
. Там: все новые сотрудники получают «подъемные»;
повышение квалификации обеспечивается прослушиванием лекций и индивидуальным
дистанционным обучением; работа в команде стимулируется проведением всевозможных
акций, например премированием сотрудников, которых их же коллеги назовут лучшим
продавцом или лучшим товарищем и т.п.; кроме того, каждый сотрудник получает
премию ко дню рождения. Наконец, существуют четыре внутренних печатных органа:
1
2
1

«Эхо галерей» («L'echo des Galeries»), предназначенная не только для сотрудников, но и
для всех заинтересованных; «Галереи нашими глазами» («Galeries vu et lu pour vous») —
преимущественно для управленческого звена магазина; «Алло, алло... говорит дирекция»
(«Alio... alio..., la direction vous parle») — в основном для среднего персонала и «Галереи:
специальный выпуск» («Galeries edition speciale») — на злободневные темы, которые
могут представлять интерес для сотрудников. Иными словами, система внутренних связей
с общественностью представляет собой попытку улучшить общение между людьми:
невозможно, чтобы хоть кто-то из рабочих Renault не знал (и патернализм тут ни при
чем), кто является генеральным директором и каковы показатели компании в минувшем
квартале. Тем самым создаются условия для работы, в которых доверие и симпатия все
более вытесняют страх, зависть и ненависть.
1
См. превосходные доклады, сделанные генеральным секретарем К. Шапо (Cl. Chapeau),
ответственным за связи с общественностью в Galeries orleanaises.
Внешние связи с общественностью
Адресатом внешних связей с общественностью, как правило, служит публика в широком
смысле этого слова. Производственное издание, изначально ориентированное на внешнее
распространение, позволяет подробно информировать широкий круг клиентов. Самыми
известными средствами внешних PR являются экскурсии по предприятию, организа ция
зарубежных поездок, передвижных выставок, конкурсов, показ фильмов, распространение
пресс-бюллетеней и престижных изданий, в особенности сводок финансовых показателей
с комментариями, которые предназначены в первую очередь для акционеров, в том числе
и возможных.
К области связей с общественностью относится также поощрение наук, искусств и спорта;
создание исследовательских центров и лабораторий, работающих над качеством про-
дукции (в пищевой промышленности их деятельность привела к появлению гаммы
продуктов категории light). Связи с общественностью могут сделать совершенно
оригинальный ход — создать, например, персонаж, который призван символизировать
какое-нибудь дело. Так, в США выбрали фотомодель, олицетворяющую... хлопок!
National Cotton Maid стала PR-открытием. Она совершила турне по Соединенным Штатам,
а потом и по всему миру, общалась с ведущими кутюрье, участвовала в бесконечных
приемах, фуршетах для прессы, давала интервью — все это для того, чтобы достоинства
хлопка получили большую известность.
Внешние связи с общественностью должны учитывать и региональную специфику:
например, это летняя раздача даров моря в Провансе, дорожных карт на пропускных
пунктах платных автострад, продажа со скидкой изделий местных промыслов и вручение
подарков покупателям. А вот в городе Бетюн попытались вытеснить из массового
сознания образ «палача»
1
, создав фигурку Беффи, маленького дракончика с часовой
башни. Его можно встретить на значках, наклейках, открытках, в виде пластиковой
игрушки. Он, подобно доброму гению городка, освящает своим присутствием все обще-
ственные мероприятия.
Впрочем, от организаторов PR-акций часто ускользает необходимость четкого разделения
внутренних PR (например, производственного бюллетеня, содержащего новости, занима-
тельные лишь для сотрудников) и внешних (роскошного журнала, расписывающего
достоинства льняных полотен, шоколада или сейфов). У рабочего прядильного комбината
1
1

из-под Валансьена, получившего престижный журнал «Синий цветок» («Fleur bleu») с
рассказом о льне, обязательно засвербит на душе от полного ощущения бессмысленности
потраченных на это издание денег. А широкая публика только пожмет плечами, увидев в
Kodeco совершенно ненужные для себя сведения о перемещениях по службе, рождении
детей и кончинах.
Итак, следует четко разграничить область связей с общественностью на внешний и
внутренний сектора.
Наконец, PR может распространиться и на сферу межгосударственных отношений. Так,
некое королевство наняло французское агентство по связям с общественностью для про-
ведения PR-кампании в Европе и в особенности во Франции. Институт арабского мира
(Institut du monde arabe) также представляет собой акцию по связям с общественностью,
направленную на распространение исламской культуры. С точки зрения внешних PR
совершенно очевидно, что здесь Франция располагает двумя «агентствами» самого
высшего уровня — «Альянс Франсез» (Alliance francaise) и Генеральной дирекцией
культурных связей (Direction generate des relations culturelles).
1
«Бетюнский палач» — персонаж романов А. Дюма-отца «Три мушкетера» и «Двадцать
лет спустя», казнивший миледи Винтер и убитый ее сыном Мордаунтом. — Прим. пер.
Глава 3. Философия связей с общественностью
•)Чувство «совместного созидания»
•)Ментальность, устремленная вперед: информация, сообщения, коммуникация
•)Тайное внушение и аутентичность
«Ты намереваешься торговать воздухом?» — ужаснувшись, воскликнул как-то отец
одного из самых известных сегодня во Франции деятелей рекламного бизнеса.
Если реклама часто обвиняется в продаже воздуха, то легко представить, сколько ехидных
замечаний можно отпустить по адресу связей с общественностью. Ведь здесь нет ни рек-
ламных площадей в газетах и журналах, ни телевизионных или радиоклипов — есть
только «сообщения», полезная информация. Никаких актов купли-продажи! Это парадокс
связей с общественностью.
PR в значительно меньшей степени являются наукой или даже методикой, чем способом
воспринимать мир, схватывать окружающую реальность. Несомненно, что поле их
применения — общественная сфера; в ней кроется их главное призвание, однако это и
жестокая необходимость: в той мере, в какой PR располагают скорее методом, чем
объектом; все для них содержится в способе, а не в предмете. Для полноты определения
скажем, что PR формируют особый дух — «дух связей с общественностью».
Из чего же состоит этот дух? Подобно духу религиозному или научному,
юмористическому или шутливому — одним словом, просто «духу», его составляющие
чрезвычайно тонки, если не сказать — неуловимы. В статье 1955 года «Что такое связи с
общественностью»
1
PR удалось назвать «серьезным учением», включающим, однако,
«необычные элементы нематериального свойства, более или менее присутствующие
исподволь в нашей повседневной жизни». При всем при этом удалось поместить в одну
корзину такие вещи как «дух Reader's Digest», «производительность труда» и связи с
общественностью. Таким образом, было бы верно говорить скорее о настроении, чем о
реальности, о менталитете, чем об объективном содержании, о душевном повороте и
тайной уверенности, чем о количественно измеряемой продукции.
1
1

1
Jean Chaumely, Les lettres nouvelles, mars 1955.
Чувство «совместного созидания»
«Хорошая среда — теплая среда», — любил говорить Гастон Башляр (Gaston Bachelard).
Поверим на слово этому глубокому исследователю «нового научного духа». Ничего дос-
тойного не может получиться без того человеческого тепла, каким политические,
коммерческие или административные круги столь редко располагают сами по себе.
Благоприятная среда удесятеряет энергию людей: именно поэтому пионеры связей с
общественностью были потрясены невероятным ростом производительности труда там,
где им удалось установить прямые отношения с рабочими, служащими или управ-
ленческим персоналом. Сначала им казалось, что все проблемы можно решить, улучшив
освещение цехов, окрасив станки в зеленый цвет, установив оборудование в раздевалках и
санузлах. Но более всего, как показал богатый опыт, трудящиеся оценили то, что их
проблемы кого-то интересуют и что ими занимаются.
На предприятии современного типа неквалифицированный рабочий все чаще ощущает
себя притесняемым и угнетаемым. Он часто страдает от ощущения неполноценности,
унижения. «Если задаться целью пересмотреть методы управления в соответствии с
серьезным исследованием психологии трудовых отношений, — писал Мишель Крозье, —
можно с успехом заменить законопослушание рабочего "духом доверительности", или
"корпоративным духом", от чего все окажутся в выигрыше».
Сердечность «американского образа жизни» всегда поражала специалистов по
повышению производительности труда, которые оказывались за океаном с 1944 года и по
нынешний день. Щедрость, симпатия в общении и душевный жар, который может быть
как восходящим (от рабочих к работодателям), так и нисходящим (от хозяина к рабочим),
породили ту технику коммуникации, которая лежит в самом основании связей с
общественностью. Но речь не идет о какой угодно форме коммуникации, а только о вза-
имном понимании, искренней привязанности друг к другу, которая может облегчить
общение между людьми, создать между ними ощущение сотрудничества и полной
безопасности.
Гастон Башляр в своем «Психоанализе огня» рекомендует: «Когда речь идет об
исследовании людей, равных, братьев, основанием методики должна служить взаимная
симпатия». А на производстве эта симпатия постоянно ставится под вопрос. Невозможно
рассчитывать раз и навсегда обеспечить себе любовь персонала. Очень быстро возникнут
конфликты, сформируется напряженность, появятся сопротивление и сомнение. Все
согласно знаменитому принципу Гегеля: «Каждое сознание стремится к смерти другого».
Решение этой проблемы, каждый раз новое, предлагают связи с общественностью,
разумеется, в том контексте и в той мере, в какой сами они осознают себя благодаря
постоянному пересмотру своих основ и переоценке окружающей социальной реальности.
Р.А. Пейджет-Кук, цитируя доктора Джонсона (Johnson), напоминает нам, что «г-н Н.Н.
должен постоянно поддерживать приятельские отношения, если хочет, чтобы они
оставались неизменными, на том же уровне». Суть действий в сфере связей с
общественностью и будет состоять в том, чтобы поддерживать взаимопонимание между
людьми, основанное на симпатии как на средстве познания. Это означает, что
сообщаемый PR настрой не может иметь ориентиром объективное или вещественное, но
не затрагивающее сердца и умы знание. Вот почему девизом связей с общественностью
1

может быть знаменитое высказывание Поля Клоделя (Paul Claudel): «Toute connaissance
est une co-naissance» («Всякое знание есть одновременное рождение»
1
)) ).
1
Игра слов в цитате. Connaissance — co-naissance: «знание — одновременное рождение».
—Прим. пер.
Ментальность, устремленная вперед: информация, сообщения, коммуникация
Недостаточно, впрочем, одной теплоты в человеческих отношениях, подобной той, что
возникала на народных гуляниях (к слову сказать, одной из форм PR, появившейся
задолго до самого термина). Необходимо еще, чтобы созданная благодаря PR новая
ментальность была обращена преимущественно вперед. Управлять — это предвидеть.
Связи с общественностью уже по своему определению готовят будущее. Их не заботит ни
непосредственная отдача, ни улучшение статистических показателей производства по
отношению к вчерашнему дню, они всецело обращены ко дню завтрашнему. Для них
важно не добиваться улучшения и без того удовлетворительных сегодняшних
результатов, но готовить «сияющее завтра», которое предприятие просто не может себе
представить ни в своем секторе рынка, ни в своей активной части, ни в своих движущих
силах, ни в процессе ускоренного производства. PR озабочены проблемой «доброго
имени», в то время как основная часть деловых кругов занимается своим «золотым
поясом». Генрих IV, обещавший курицу в кастрюле, средневековые феодалы-разбойники,
клявшиеся отправиться в крестовый поход, финансисты XX в., спонсирующие науку и
искусство, следуют по одному и тому же пути связей с общественностью: отнюдь не
случайно Нобелевская премия мира учреждена изобретателем динамита. Видимо, речь
идет скорее не о «компенсации» в настоящий момент времени, а о компенсации с лихвой
для будущего.
Однако самое необычное в связях с общественностью проистекает из самого их
определения как связей. Французское выражение полностью меняет содержание англо-
язычного термина: по-французски «иметь связи» означает «установить дружбу».
Нормальный человек ищет дружбы, он любит поддерживать добрые отношения с
окружающими, с коллегами по работе и начальством. Когда он вступает с ними в
конфликт, это происходит из-за невозможности найти иное решение, из-за безысходности,
отсутствия хорошей «коммуникации».
Задача связей с общественностью — наладить или восстановить это общение, «навести»
все возможные «мосты», которыми могут служить личные послания, различные публика-
ции, выставки, встречи, корпоративная пресса и т. п., что устанавливает, наряду с
иерархией властных отношений, связи между личностью и коллективом. В результате
серьезной проблемой станет ликвидация изолированных, противодействие
оппозиционерам и запрет упрямым восставать. Раймон Арон (Raymond Aron) так уточнял
это: «Если француз считает, что счастье состоит в том, чтобы бунтовать, то американец
находится на совершенно противоположном полюсе. Американец считает, что
нормальным является растворение индивидуума в группе»
1
. Поэтому крылатое
выражение Алена (Alain): «Мыслить — это говорить "нет!"» не имеет смысла в рамках
понятия связей с общественностью. Для них противодействие группе есть невроз, нормой
же выступает подчинение. Отсюда та первостепенная значимость понятия коммуникации.
1
1
1

На коммуникационных технологиях базируется вся методика управления человеческими
ресурсами. Мишель Крозье так и говорит: «Понятие коммуникации — основное понятие
управления человеческими ресурсами (которое подчас именуется коммуникационной
техникой)». По мнению специалистов по human engineering, первой потребностью любого
человеческого существа является общение. Оно начинается с момента рождения, ибо
дыхание — это уже одна из его форм. Общаться означает «установить отношения»,
«иметь нечто общее, разделять нечто между собой». Человек общается с внешней средой
и с себе подобными. И в окружающем мире он ищет прежде всего ощущение
сопричастности, совместного житья с другими. Худшее, что с ним может произойти, —
это отлучение, когда общество поворачивается к нему спиной. За исключением смертной
казни, самое жестокое наказание для преступника — одиночное заключение. Однако
«коммуникация» не является однонаправленным процессом — она всегда подразумевает
действие и реакцию. Нельзя общаться со стеной или с кем-то, кто вами пренебрегает —
общаются всегда и только с теми, в ком есть желание общаться.
Методики оздоровления коммуникации неизбежно ведут к реорганизации иерархических
отношений (принимая во внимание необходимость общения) и изменению представлений
о господстве и подчинении. Предпринимаемые в рамках программ по связям с
общественностью усилия будут всегда, когда это возможно, направлены на то, чтобы
заменить страх духом товарищества, а подчинение — вовлеченностью. «Основное
правило — нравиться и трогать за душу», как в театре. Мольера или Расина.
Человеческим отношениям будет отдано предпочтение при «коллективном руководстве»,
которое придет на смену единоличной диктатуре; повсюду исчезнут фавориты, будут
установлены таблицы соответствий между степенями, званиями, стажем и заработной
платой. Именно в этом духе организована TWI (Training Within Industry
2
), сыгравшая
существенную роль в развитии связей с общественностью в США. Но эта коммуникация
возможна лишь в тесной связи с информацией. Предприятие должно быть настоящим
«домом из стекла», прозрачным извне и изнутри для правительства и прессы, для
клиентов и конкурентов. Такова цена безопасности. Неясные взаимоотношения,
непонимание целей, незнание структуры организации приводят к атмосфере по-
давленности. Молчание руководства о его планах делают ее особенно тягостной.
Информация же позволит сделать намерения руководства достоянием публики, ясно
продемонстрировать, куда движется компания, показать каждому, ради чего работает весь
коллектив, и позволить всем внести свой вклад в общее дело, почувствовать себя
объединенными общей доброй волей в одном душевном порыве. Внутрикорпоративная
пресса (house organ) сделает эту связь эффективной, она серьезно поможет наведению
мостов между различными группами и сообществами. В результате работники пред-
приятия найдут то звено, которое обязательно объединит их в горячо переживаемом
ощущении причастности к единой группе. И с этих пор связи не смогут более не быть
общественными.
1
La societe americaine et sa sociologie, in Cahiers internationaux de sociologie, vol. 26, PUF,
1959.
2
Программа внутрикорпоративного тренинга. — Прим. пер.
Тайное внушение и аутентичность
2
1
2
