Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты - Тема - Приемы - Текст
Подождите немного. Документ загружается.

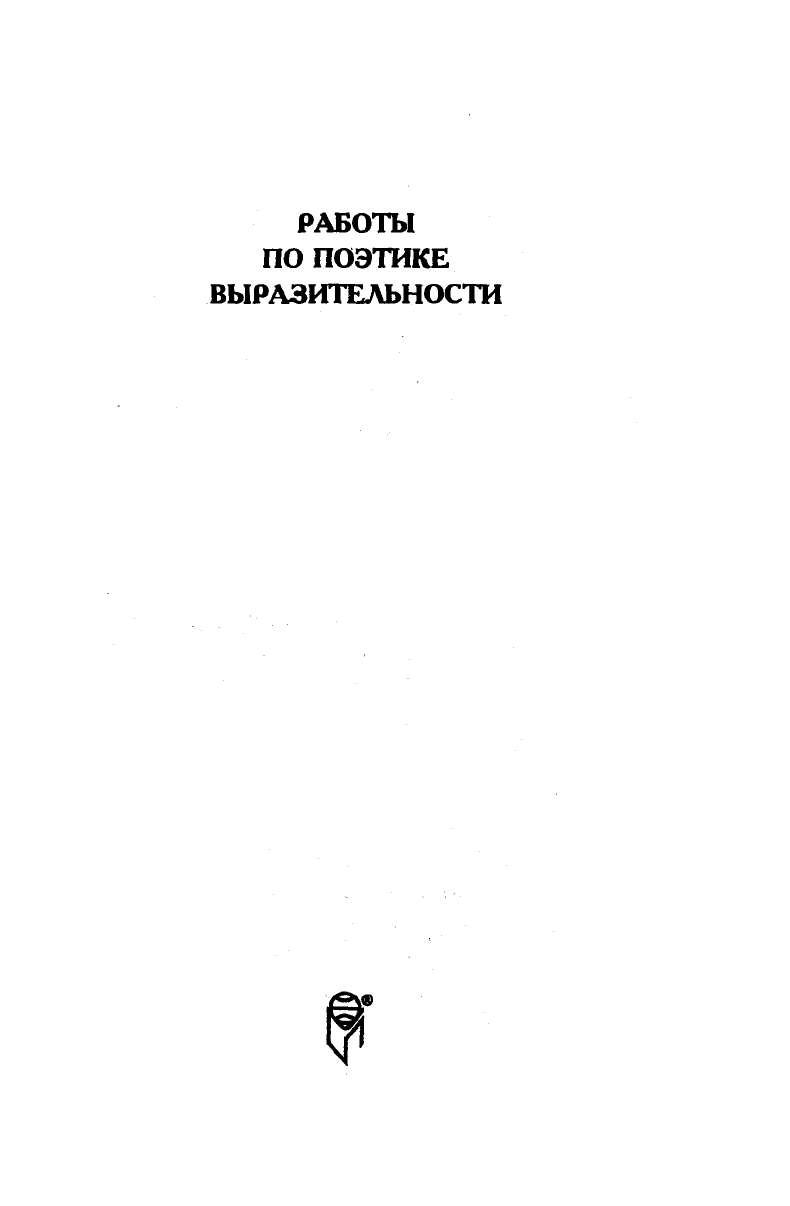
РАБОТЫ
ПО
ПОЭТИКЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
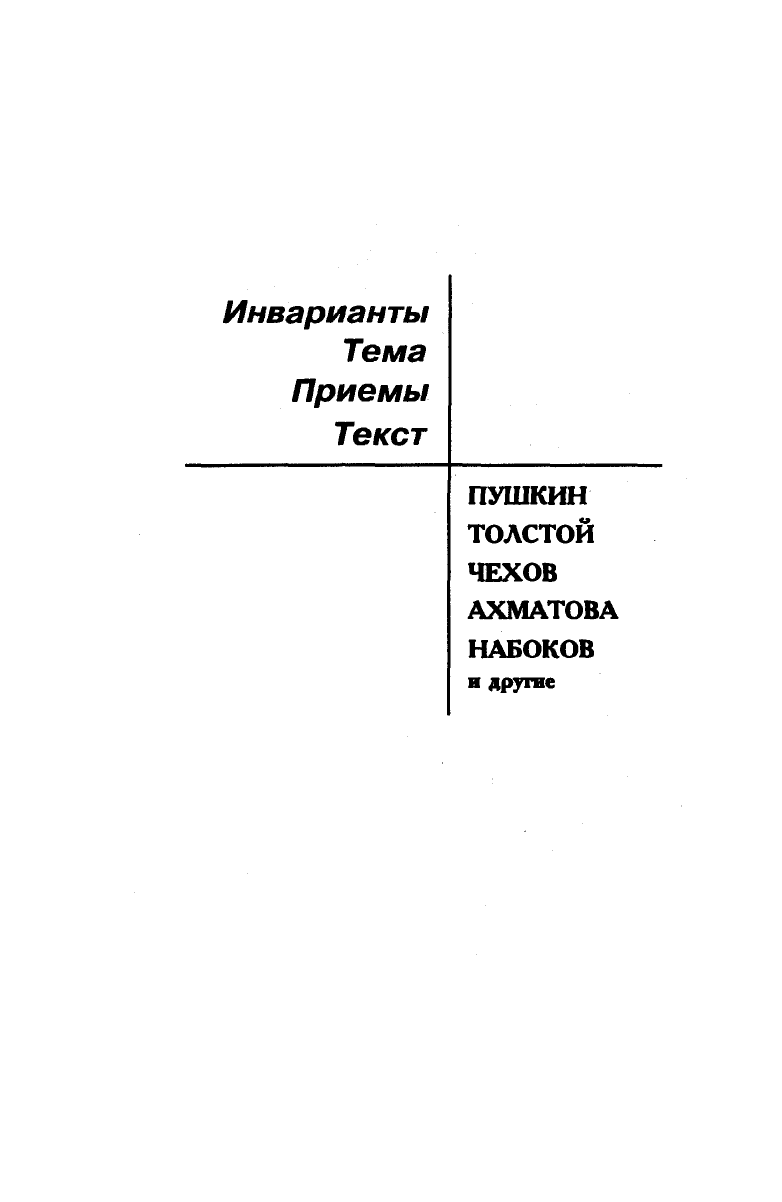
Инварианты
Тема
Приемы
Текст
ПУШКИН
толстой
ЧЕХОВ
АХМАТОВА
НАБОКОВ
я
другие
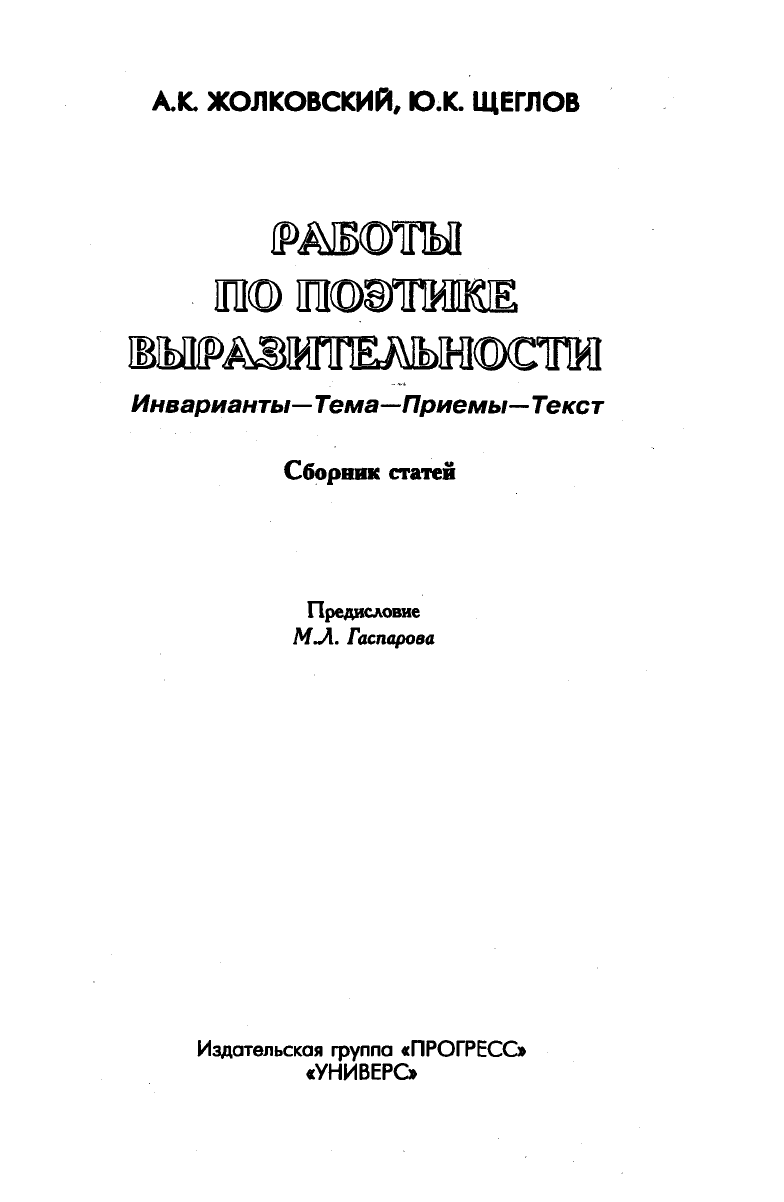
А.К.
ЖОЛКОВСКИЙ,
O.K.
ЩЕГЛОВ
Инварианты—Тема—Приемы—Текст
Сборник
статей
Предисловие
М.Л.
Гаспорова
Издательская группа
«ПРОГРЕСС»
«УНИВЕРС»
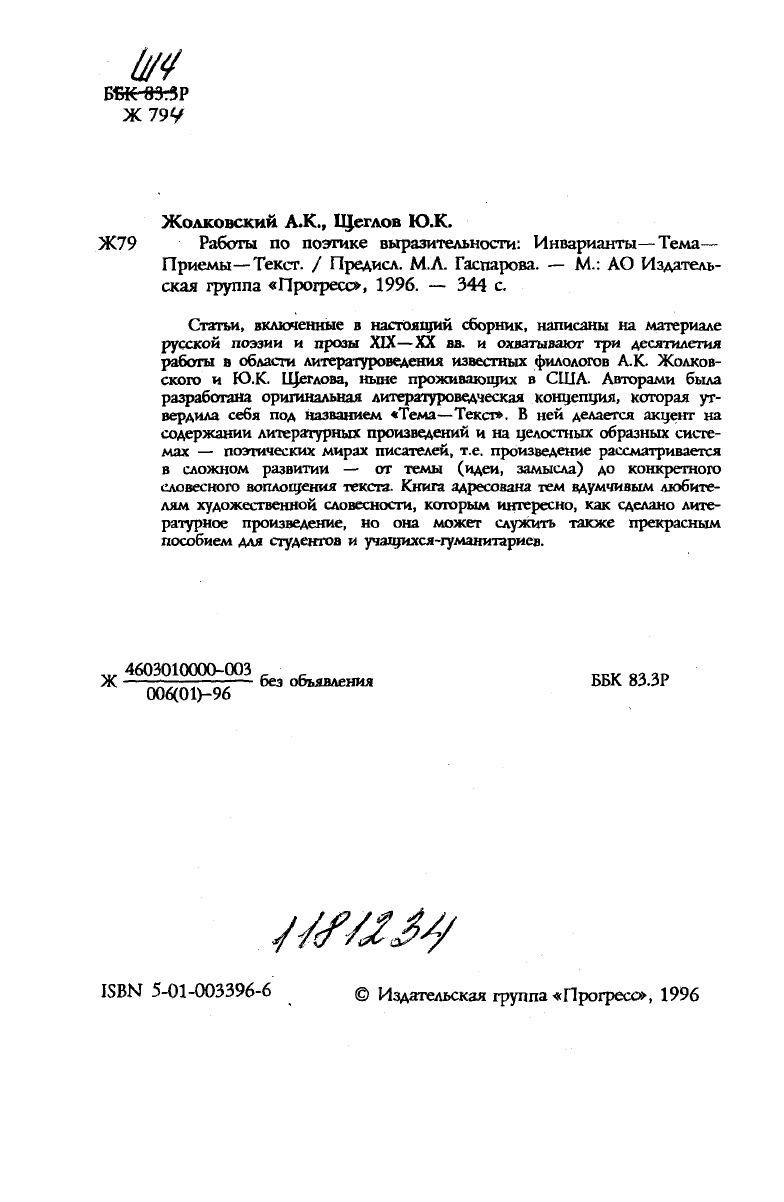
Ж79У
Жолковский
А.К.,
Щеглов
Ю.К.
Ж79
Работы
по
поэтике
выразительности:
Инварианты—Тема—
Приемы—Текст.
/
Предисл.
М.Л.
Гаспарова.
—
М-:
АО
Издатель-
ская
группа
«Прогресс»,
1996.
— 344 с.
Статьи, включенные
в
настоящий сборник, написаны
на
материале
русской поэзии
и
прозы
XIX—XX
вв. и
охватывают
три
десятилетия
работы
в
области
литературоведения
известных филологов А.К. Жолков-
ского
и
Ю.К.
Щеглова, ныне проживающих
в
США. Авторами была
разработана оригинальная
литературоведческая
концепция, которая
ут-
вердила себя
под
названием
«Тема—Текст».
В ней
делается акцент
на
содержании литературных произведений
и на
целостных образных систе-
мах
—
поэтических мирах писателей, т.е. произведение рассматривается
в
сложном развитии
— от
темы
(идеи,
замысла)
до
конкретного
словесного
воплощения
текста.
Книга
адресована
тем
вдумчивым
любите-
лям
художественной словесности, которым интересно,
как
сделано
лите-
ратурное произведение,
но она
может
служить также прекрасным
пособием
для
студентов
и
учащихся-гуманитариев.
w
4603010000-003
,',
--„
О
о
,
D
Ж
———
— без
объявления
ББК
83.3Р
ISBN
5-01-003396-6
©
Издательская
группа
«Прогресс»,
1996
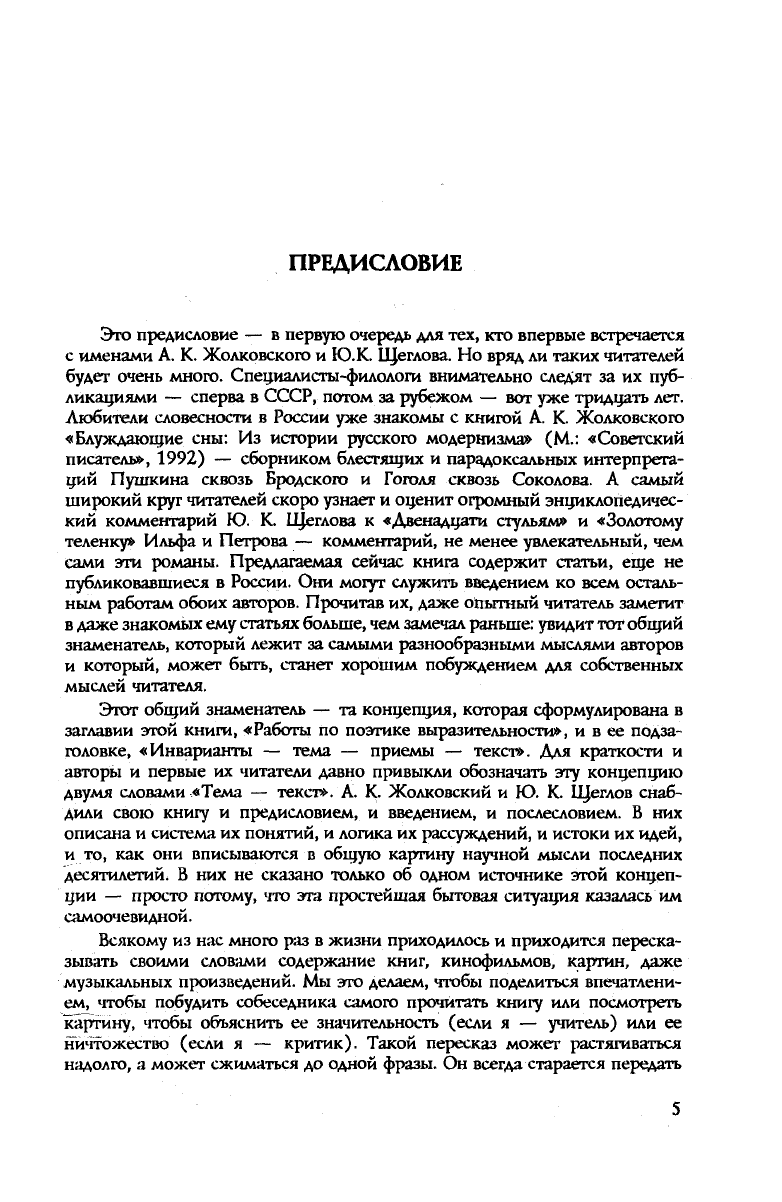
ПРЕДИСЛОВИЕ
Это
предисловие
— в
первую
очередь
для
тех,
кто
впервые встречается
с
именами
А. К.
Жолковского
и
Ю.К. Щеглова.
Но
вряд
ли
таких читателей
будет
очень много.
Специалисты-филологи
внимательно
следят
за их
пуб-
ликациями
—
сперва
в
СССР, потом
за
рубежом
— вот уже
тридцать лет.
Любители словесности
в
России
уже
знакомы
с
книгой
А. К.
Жолковского
«Блуждающие сны:
Из
истории русского
модернизма»
(М.: «Советский
писатель»,
1992)
—
сборником блестящих
и
парадоксальных
интерпрета-
ций
Пушкина сквозь Бродского
и
Гоголя сквозь Соколова.
А
самый
широкий круг читателей скоро узнает
и
оценит огромный энциклопедичес-
кий
комментарий
Ю. К.
Щеглова
к
«Двенадцати стульям»
и
«Золотому
теленку» Ильфа
и
Петрова
—
комментарий,
не
менее
увлекательный,
чем
сами
эти
романы.
Предлагаемая
сейчас книга
содержит
статьи,
еще не
публиковавшиеся
в
России.
Они
могут служить введением
ко
всем осталь-
ным
работам
обоих авторов. Прочитав
их,
даже опытный читатель заметит
в
даже
знакомых
ему
статьях больше,
чем
замечал раньше:
увидит
тот
общий
знаменатель,
который лежит
за
самыми разнообразными мыслями авторов
и
который,
может
быть, станет хорошим побуждением
для
собственных
мыслей
читателя.
Этот общий знаменатель
— та
концепция, которая сформулирована
в
заглавии
этой книги, «Работы
по
поэтике
выразительности»,
и в ее
подза-
головке,
«Инварианты
—
тема
—
приемы
—
текст».
Для
краткости
и
авторы
и
первые
их
читатели давно
привыкли
обозначать
эту
концепцию
двумя
словами
«Тема
—
текст».
А. К.
Жолковский
и Ю. К.
Щеглов снаб-
дили
свою
книгу
и
предисловием,
и
введением,
и
послесловием.
В них
описана
и
система
их
понятий,
и
логика
их
рассуждений,
и
истоки
их
идей,
и то, как они
вписываются
в
общую картину научной мысли последних
десятилетий.
В них не
сказано только
об
одном источнике этой концеп-
ции
—
просто потому,
что эта
простейшая бытовая ситуация казалась
им
самоочевидной.
Всякому
из нас
много
раз в
жизни приходилось
и
приходится переска-
зывать
своими словами содержание книг, кинофильмов, картин,
даже
музыкальных
произведений.
Мы это
делаем, чтобы поделиться впечатлени-
ем,
чтобы побудить собеседника самого прочитать книгу
или
посмотреть
картину,
чтобы объяснить
ее
значительность (если
я —
учитель)
или ее
ничтожество
(если
я —
критик). Такой пересказ
может
растягиваться
надолго,
я
может
сжиматься
до
одной фразы.
Он
всегда
старается
передать
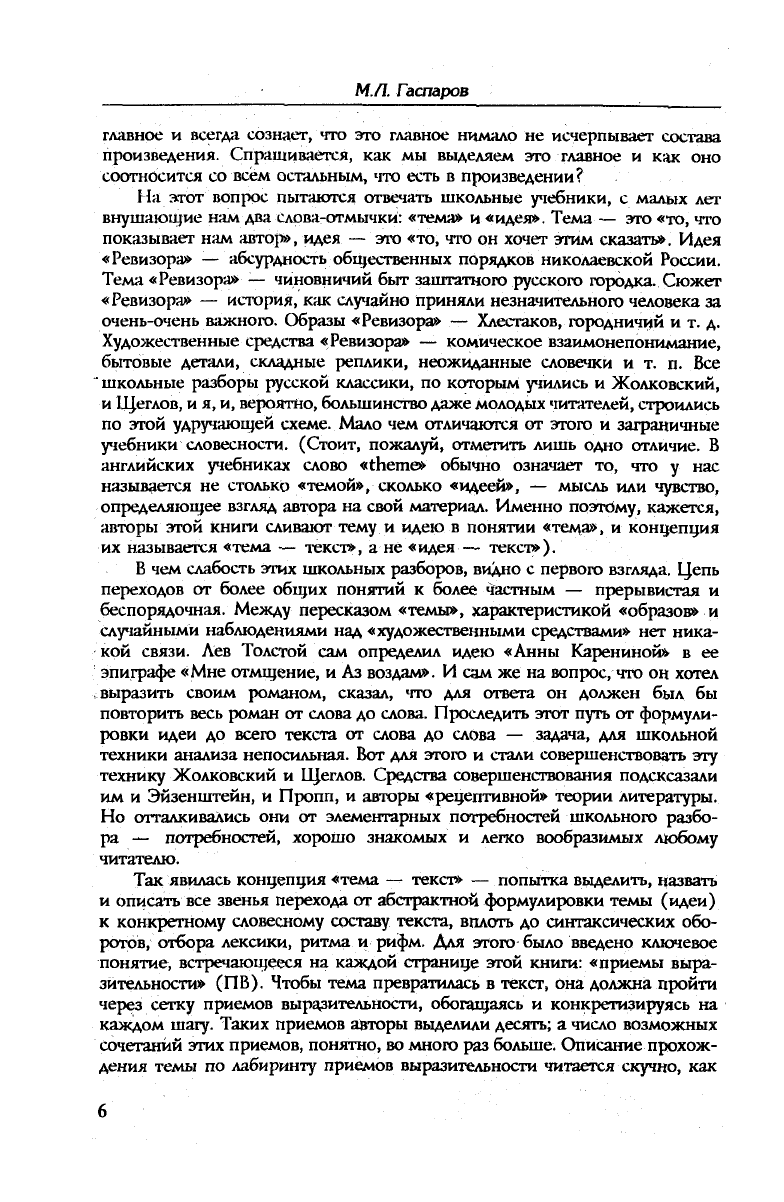
М.Л.
Гаспаров
главное
и
всегдя
сознает,
что это
главное
нимало
не
исчерпывает состава
произведения.
Спрашивается,
как мы
выделяем
это
главное
и как оно
соотносится
со
всём остальным,
что
есть
в
произведении?
На
этот
вопрос пытаются отвечать школьные учебники,
с
малых
лет
внушающие
нам два
слова-отмычки:
«тема»
и
«идея». Тема
— это
«то,
что
показывает
нам
автор»,
идея
— это
«то,
что он
хочет этим сказать». Идея
«Ревизора»
—
абсурдность общественных порядков николаевской России.
Тема
«Ревизора»
—
чиновничий
быт
заштатного русского
городка.
Сюжет
«Ревизора»
—
история,
как
случайно приняли незначительного человека
за
очень-очень
важного. Образы «Ревизора»
—
Хлестаков,
городничий и т. д.
Художественные
средства
«Ревизора»
—
комическое взаимонепонимание,
бытовые детали, складные реплики, неожиданные словечки
и т. п. Все
"
школьные разборы русской классики,
по
которым
учились
и
Жолковский,
и
Щеглов,
и
я,
и,
вероятно, большинство даже молодых читателей, строились
по
этой удручающей схеме. Мало
чем
отличаются
от
этого
и
заграничные
учебники
словесности. (Стоит, пожалуй, отметить лишь одно отличие.
В
английских
учебниках слово
«theme»
обычно означает
то, что у нас
называется
не
столько
«темой»,
сколько
«идеей»,
—
мысль
или
чувство,
определяющее
взгляд
автора
на
свой материал. Именно поэтому,
кажется,
авторы
этой
книги
сливают тему
и
идею
в
понятии
«тема»,
и
концепция
их
называется
«тема
—
текст»,
а не
«идея—
текст»).
В
чем
слабость этих школьных разборов, видно
с
первого взгляда. Цепь
переходов
от
более общих понятий
к
более частным
—
прерывистая
и
беспорядочная.
Между пересказом
«темы»,
характеристикой
«образов»
и
случайными
наблюдениями
над
«художественными средствами»
нет
ника-
кой
связи.
Лев
Толстой
сам
определил
идею
«Анны
Карениной»
в ее
эпиграфе
«Мне отмщение,
и Аз
воздам».
И сам же на
вопрос,
что он
хотел
:
выразить своим романом, сказал,
что для
ответа
он
должен
был
бы
повторить весь роман
от
слова
до
слова. Проследить этот путь
от
формули-
ровки идеи
до
всего текста
от
слова
до
слова
—
задача,
для
школьной
техники анализа непосильная.
Вот для
этого
и
стали совершенствовать
эту
технику Жолковский
и
Щеглов. Средства совершенствования
подсксазали
им и
Эйзенштейн,
и
Пропп,
и
авторы «рецептивной» теории литературы.
Но
отталкивались
они от
элементарных потребностей школьного разбо-
ра —
потребностей,
хорошо
знакомых
и
легко вообразимых любому
читателю.
Так
явилась концепция
«тема
—
текст»
—
попытка выделить, назвать
и
описать
все
звенья перехода
от
абстрактной формулировки темы
(идеи)
к
конкретному словесному составу текста, вплоть
до
синтаксических обо-
ротов,
отбора
лексики, ритма
и
рифм.
Для
этого-
было введено ключевое
понятие, встречающееся
на
каждой странице этой книги: «приемы выра-
зительности»
(ПВ).
Чтобы
тема
превратилась
в
текст,
она
должна пройти
через сетку приемов выразительности, обогащаясь
и
конкретизируясь
на
каждом шагу. Таких приемов авторы выделили десять;
а
число возможных
сочетаний этих приемов, понятно,
во
много
раз
больше. Описание прохож-
дения темы
по
лабиринту приемов выразительности читается скучно,
как
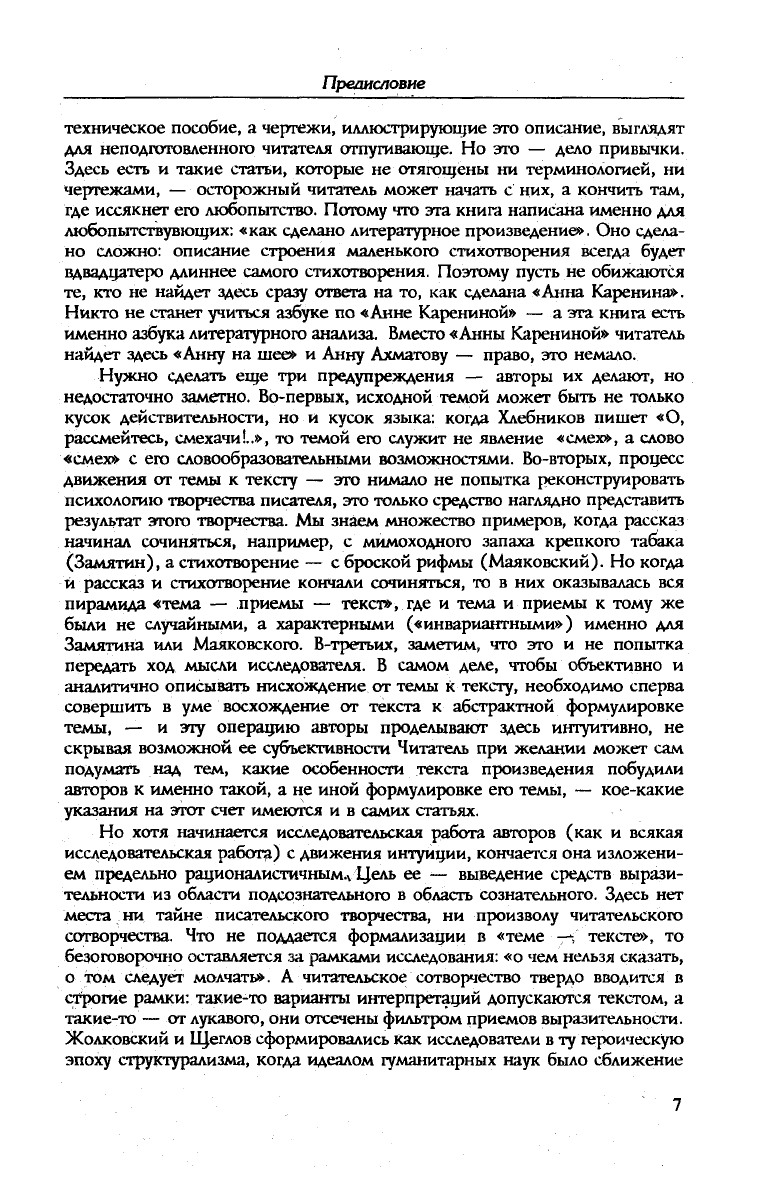
Предисловие
техническое пособие,
а
чертежи, иллюстрирующие
это
описание,
выглядят
для
неподготовленного читателя отпугивающе.
Но это —
дело
привычки.
Здесь есть
и
такие статьи, которые
не
отягощены
ни
терминологией,
ни
чертежами,
—
осторожный читатель
может
начать
с
них,
а
кончить там,
где
иссякнет
его
любопытство. Потому
что эта
книга написана именно
для
любопытствувющих:
«как сделано литературное
произведение».
Оно
сдела-
но
сложно: описание строения маленького стихотворения всегда будет
вдвадцатеро
длиннее самого стихотворения. Поэтому пусть
не
обижаются
те, кто не
найдет
здесь
сразу
ответа
на то, как
сделана «Анна
Каренина».
Никто
не
станет
учиться азбуке
по
«Анне
Карениной»
— а эта
книга есть
именно азбука литературного анализа. Вместо «Анны Карениной» читатель
найдет
здесь
«Анну
на
шее»
и
Анну
Ахматову
—
право,
это
немало.
Нужно сделать
еще три
предупреждения
—
авторы
их
делают,
но
недостаточно заметно. Во-первых, исходной
темой
может
быть
не
только
кусок
действительности,
но и
кусок
языка:
когда Хлебников пишет
«О,
рассмейтесь,
смехачи!..»,
то
темой
его
служит
не
явление
«смех»,
а
слово
«смех»
с его
словообразовательными возможностями. Во-вторых, процесс
движения
от
темы
к
тексту
— это
нимало
не
попытка реконструировать
психологию творчества писателя,
это
только средство
наглядно
представить
результат этого творчества.
Мы
знаем множество примеров, когда рассказ
начинал
сочиняться, например,
с
мимоходного запаха крепкого табака
(Замятин),
а
стихотворение
— с
броской рифмы
(Маяковский).
Но
когда
и
рассказ
и
стихотворение
кончали
сочиняться,
то в них
оказывалась
вся
пирамида
«тема
—
.приемы
—
текст»,
где и
тема
и
приемы
к
тому
же
были
не
случайными,
а
характерными
(«инвариантными»)
именно
для
Замятина
или
Маяковского. В-третьих,
заметим,
что это и не
попытка
передать
ход
мысли исследователя.
В
самом деле,
чтобы
объективно
и
аналитично
описывать
нисхождение
от
темы
к
тексту, необходимо сперва
совершить
в уме
восхождение
от
текста
к
абстрактной формулировке
темы,
— и эту
операцию авторы проделывают здесь интуитивно,
не
скрывая возможной
ее
субъективности Читатель
при
желании
может
сам
подумать
над
тем, какие особенности текста произведения
побудили
авторов
к
именно такой,
а не
иной формулировке
его
темы,
—
кое-какие
указания
на
этот
счет имеются
и в
самих статьях.
Но
хотя начинается исследовательская
работа
авторов (как
и
всякая
исследовательская
работа)
с
движения интуиции, кончается
она
изложени-
ем
предельно
рационалистичным^
Цель
ее —
выведение средств вырази-
тельности
из
области подсознательного
в
область сознательного. Здесь
нет
места
ни
тайне писательского творчества,
ни
произволу читательского
сотворчества.
Что не
поддается формализации
в
«теме
--,'
тексте»,
то
безоговорочно оставляется
за
рамками исследования:
«о чем
нельзя
сказать,
о том
следует молчать».
А
читательское сотворчество твердо вводится
в
строгие рамки: такие-то варианты интерпретаций допускаются текстом,
а
такие-то—
от
лукавого,
они
отсечены фильтром приемов выразительности.
Жолковский
и
Щеглов сформировались
как
исследователи
в ту
героическую
эпоху
структурализма, когда идеалом гуманитарных
наук
было сближение
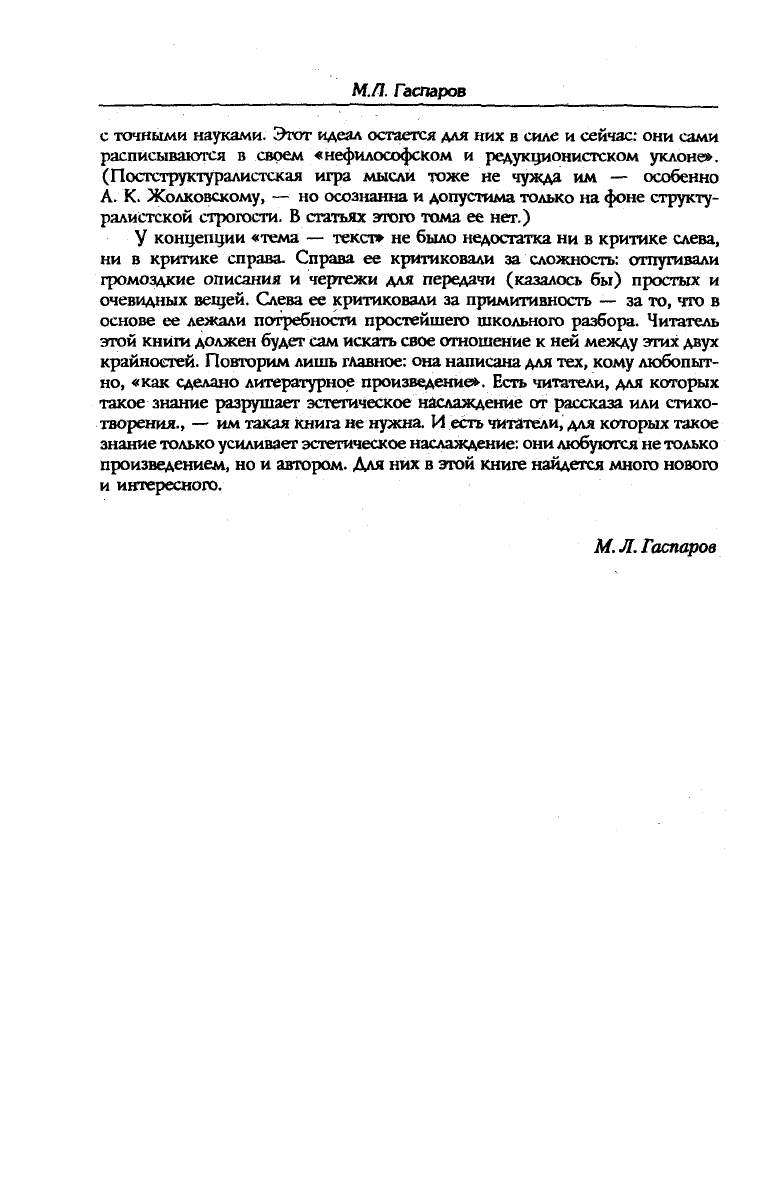
МЛ.
Гаспаров
с
точными науками. Этот
идеал
остается
для
них в
силе
и
сейчас:
они
сами
расписываются
в
своем
«нефилософском
и
редукционистском
уклоне».
(Постструктуралистская игра мысли
тоже
не
чужда
им —
особенно
А.
К.
Жолковскому,
— но
осознанна
и
допустима только
на
фоне структу-
ралистской строгости.
В
статьях этого
тома
ее
нет.)
У
концепции
«тема
—
текст»
не
было недостатка
ни в
критике
слева,
ни
в
критике
справа.
Справа
ее
критиковали
за
сложность: отпугивали
громоздкие
описания
и
чертежи
для
передачи (казалось
бы)
простых
и
очевидных вещей. Слева
ее
критиковали
за
примитивность
— за
то,
что в
основе
ее
лежали потребности простейшего школьного разбора. Читатель
этой книги должен будет
сам
искать свое отношение
к ней
между этих двух
крайностей. Повторим лишь главное:
она
написана
для
тех, кому любопыт-
но,
«как сделано литературное
произведение».
Есть
читатели,
для
которых
такое
знание разрушает эстетическое наслаждение
от
рассказа
или
стихо-
творения.,
— им
такая книга
не
нужна.
И
есть читатели,
для
которых такое
знание только усиливает эстетическое
наслаждение:
они
любуются
не
только
произведением,
но и
автором.
Для них в этой
книге найдется много нового
и
интересного.
М.
Л.
Гаспаров
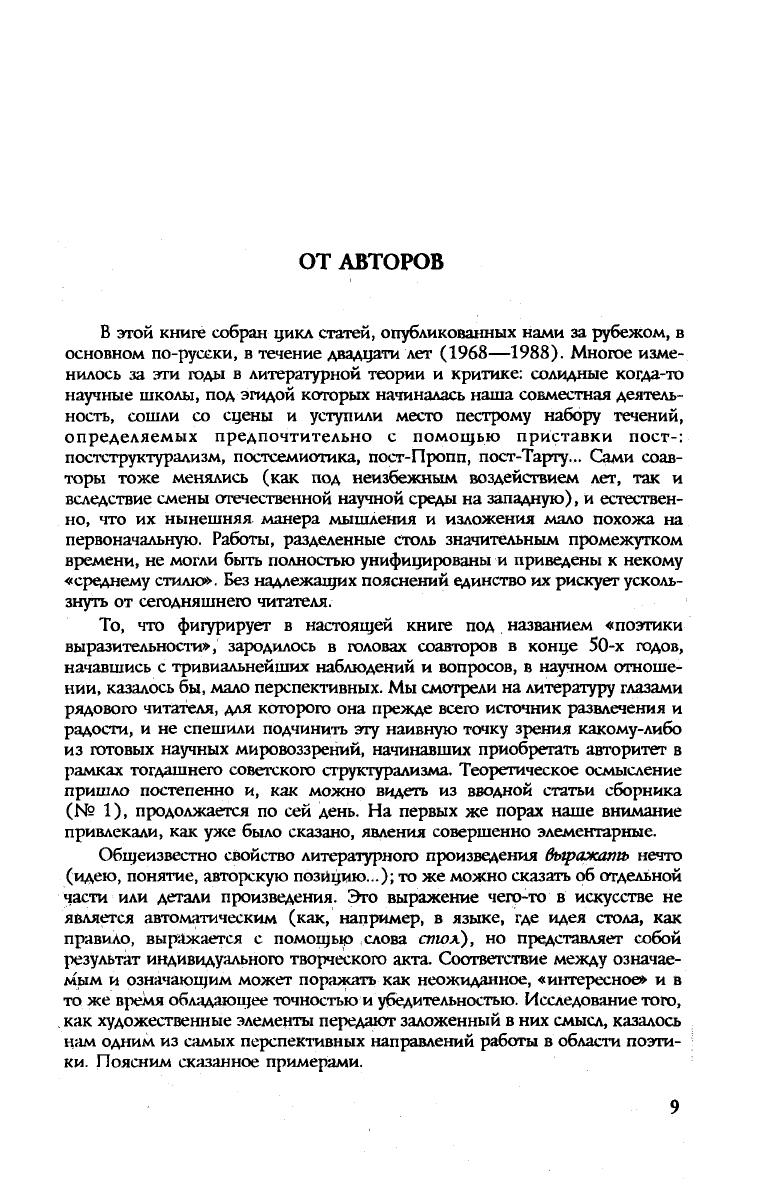
ОТ
АВТОРОВ
В
этой книге собран цикл статей, опубликованных нами
за
рубежом,
в
основном
по-русеки,
в
течение
двадцати
лет
(1968—1988).
Многое
изме-
нилось
за эти годы в
литературной теории
и
критике: солидные
когда-то
научные
школы,
под
эгидой которых начиналась наша совместная деятель-
ность,
сошли
со
сцены
и
уступили
место
пестрому набору течений,
определяемых предпочтительно
с
помощью приставки
пост-:
постструктурализм, постсемиотика, пост-Пропп, пост-Тарту... Сами соав-
торы
тоже
менялись
(как
под
неизбежным
воздействием
лет,
так и
вследствие смены отечественной научной среды
на
западную),
и
естествен-
но,
что их
нынешняя
манера мышления
и
изложения мало похожа
на
первоначальную.
Работы, разделенные столь значительным промежутком
времени,
не
могли
быть
полностью унифицированы
и
приведены
к
некому
«среднему
стилю».
Без
надлежащих
пояснений единство
их
рискует усколь-
знуть
от
сегодняшнего
читателя.
То, что
фигурирует
в
настоящей книге
под
названием «поэтики
выразительности»,
зародилось
в головах
соавторов
в
конце
50-х
годов,
начавшись
с
тривиальнейших наблюдений
и
вопросов,
в
научном отноше-
нии,
казалось
бы,
мало перспективных.
Мы
смотрели
на
литературу глазами
рядового читателя,
для
которого
она
прежде всего источник развлечения
и
радости,
и не
спешили подчинить
эту
наивную точку зрения какому-либо
из
готовых
научных
мировоззрений, начинавших приобретать
авторитет
в
рамках тогдашнего советского структурализма. Теоретическое осмысление
пришло
постепенно
и, как
можно
видеть
из
вводной статьи сборника
(№
1),
продолжается
по сей
день.
На
первых
же
порах наше внимание
привлекали,
как уже
было
сказано, явления совершенно элементарные.
Общеизвестно свойство литературного
произведения
выражать нечто
(идею,
понятие, авторскую
позицию...);
то же
можно сказать
об
отдельной
части
или
детали произведения.
Это
выражение
чего-то
в
искусстве
не
является
автоматическим
(как,
например,
в
языке,
где
идея
стола,
как
правило,
выражается
с
помощью слова
опоя.),
но
представляет
собой
результат
индивидуального
творческого акта. Соответствие между означае-
мым и
означающим
может
поражать
как
неожиданное,
«интересное»
и в
то же
время обладающее точностью
и
убедительностью. Исследование того,
,
как
художественные элементы
передают
заложенный
в них
смысл, казалось
нам
одним
из
самых перспективных направлений работы
в
области поэти-
ки.
Поясним сказанное примерами.
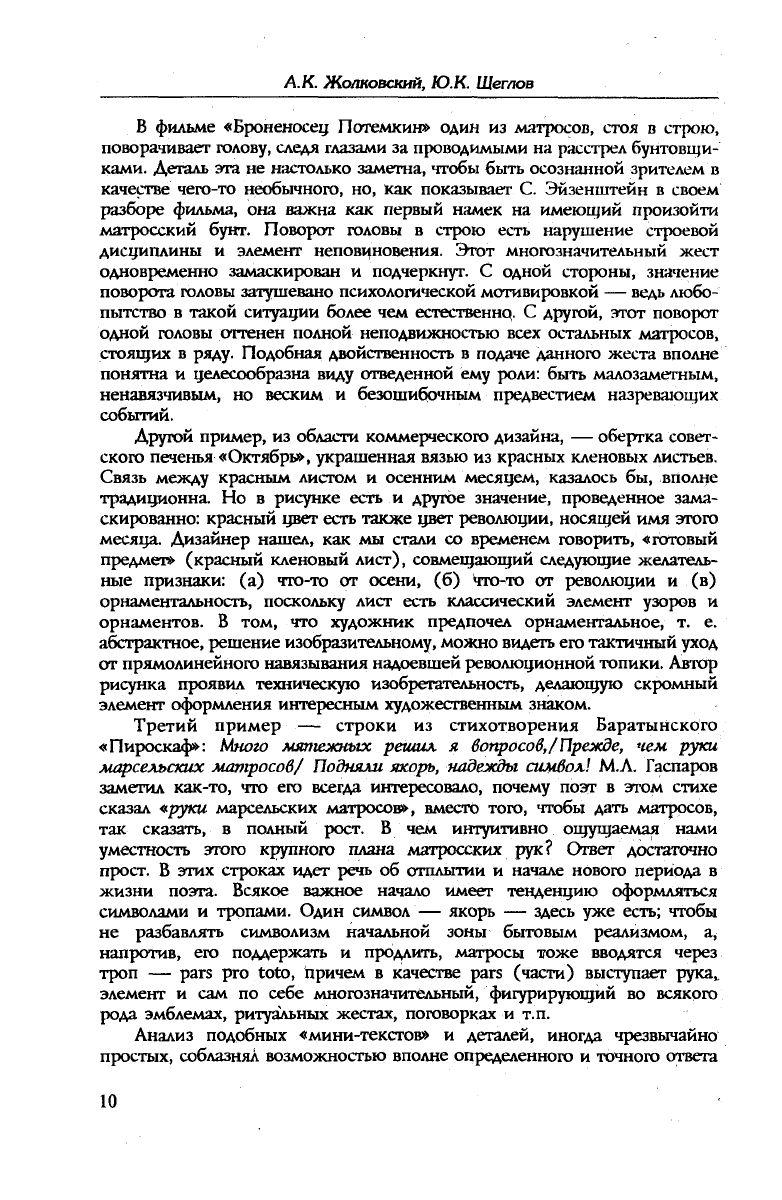
А.К.
Жолковский,
Ю.К.
Щеглов
В
фильме «Броненосец Потемкин»
один
из
матросов,
стоя
в
строю,
поворачивает
голову,
следя
глазами
за
проводимыми
на
расстрел
бунтовщи-
ками. Деталь
эта не
настолько заметна, чтобы быть осознанной зрителем
в
качестве
чего-то необычного,
но, как
показывает
С.
Эйзенштейн
в
своем
разборе
фильма,
она
важна
как
первый намек
на
имеющий произойти
матросский бунт. Поворот
головы в
строю есть нарушение строевой
дисциплины
и
элемент неповиновения. Этот многозначительный жест
одновременно замаскирован
и
подчеркнут.
С
одной стороны,
значение
поворота
головы
затушевано психологической мотивировкой
—
ведь
любо-
пытство
в
такой ситуации более
чем
естественно.
С
другой, этот поворот
одной
головы
оттенен
полной
неподвижностью всех остальных
матросов,
стоящих
в
ряду-
Подобная двойственность
в
подаче данного жеста
вполне
понятна
и
целесообразна виду отведенной
ему
роли: быть малозаметным,
ненавязчивым,
но
веским
и
безошибочным предвестием назревающих
событий.
Другой пример,
из
области коммерческого дизайна,
—
обертка совет-
ского
печенья
«Октябрь»,
украшенная вязью
из
красных
кленовых листьев.
Связь
между красным листом
и
осенним месяцем, казалось
бы,
вполне
традиционна.
Но в
рисунке есть
и
другое значение, проведенное зама-
скированно: красный цвет есть также цвет революции, носящей
имя
этого
месяца. Дизайнер нашел,
как мы
стали
со
временем
говорить,
«готовый
предмет»
(красный кленовый
лист),
совмещающий следующие желатель-
ные
признаки:
(а)
что-то
от
осени,
(б)
что-то
от
революции
и (в)
орнаментальность,
поскольку лист есть классический элемент узоров
и
орнаментов.
В
том,
что
художник предпочел орнаментальное,
т. е.
абстрактное, решение изобразительному, можно
видеть
его
тактичный
уход
от
прямолинейного навязывания надоевшей революционной топики. Автор
рисунка
проявил техническую изобретательность,
делающую
скромный
элемент оформления интересным художественным знаком.
Третий пример
—
строки
из
стихотворения Баратынского
«Пироскаф»:
Много
мятежных
решил,
я
вопросов,/Прежде,
чем
руки
марсельских
матросов/
Подняли
якорь, надежды символ!
М.Л.
Гаспаров
заметил как-то,
что его
всегда интересовало, почему поэт
в
этом стихе
сказал
«руки
марсельских
матросов»,
вместо того, чтобы дать
матросов,
так
сказать,
в
полный рост.
В чем
интуитивно ощущаемая нами
уместность этого крупного плана матросских рук? Ответ достаточно
прост.
В
этих строках идет речь
об
отплытии
и
начале нового периода
в
жизни поэта. Всякое важное
начало
имеет
тенденцию оформляться
символами
и
тропами. Один
символ
—
якорь
—
здесь
уже
есть; чтобы
не
разбавлять символизм начальной
зоны
бытовым реализмом,
а>
напротив,
его
поддержать
и
продлить, матросы
тоже
вводятся
через
троп
—
pars
pro
toto,
причем
в
качестве
pars
(части) выступает
рука,,
элемент
и сам по
себе
многозначительный, фигурирующий
во
всякого
рода
эмблемах, ритуальных жестах, поговорках
и
т.п.
Анализ
подобных «мини-текстов»
и
деталей, иногда
чрезвычайно
простых,
соблазнял возможностью вполне определенного
и
точного ответа
10
