Журнал - Сцена 3(25) 2003
Подождите немного. Документ загружается.

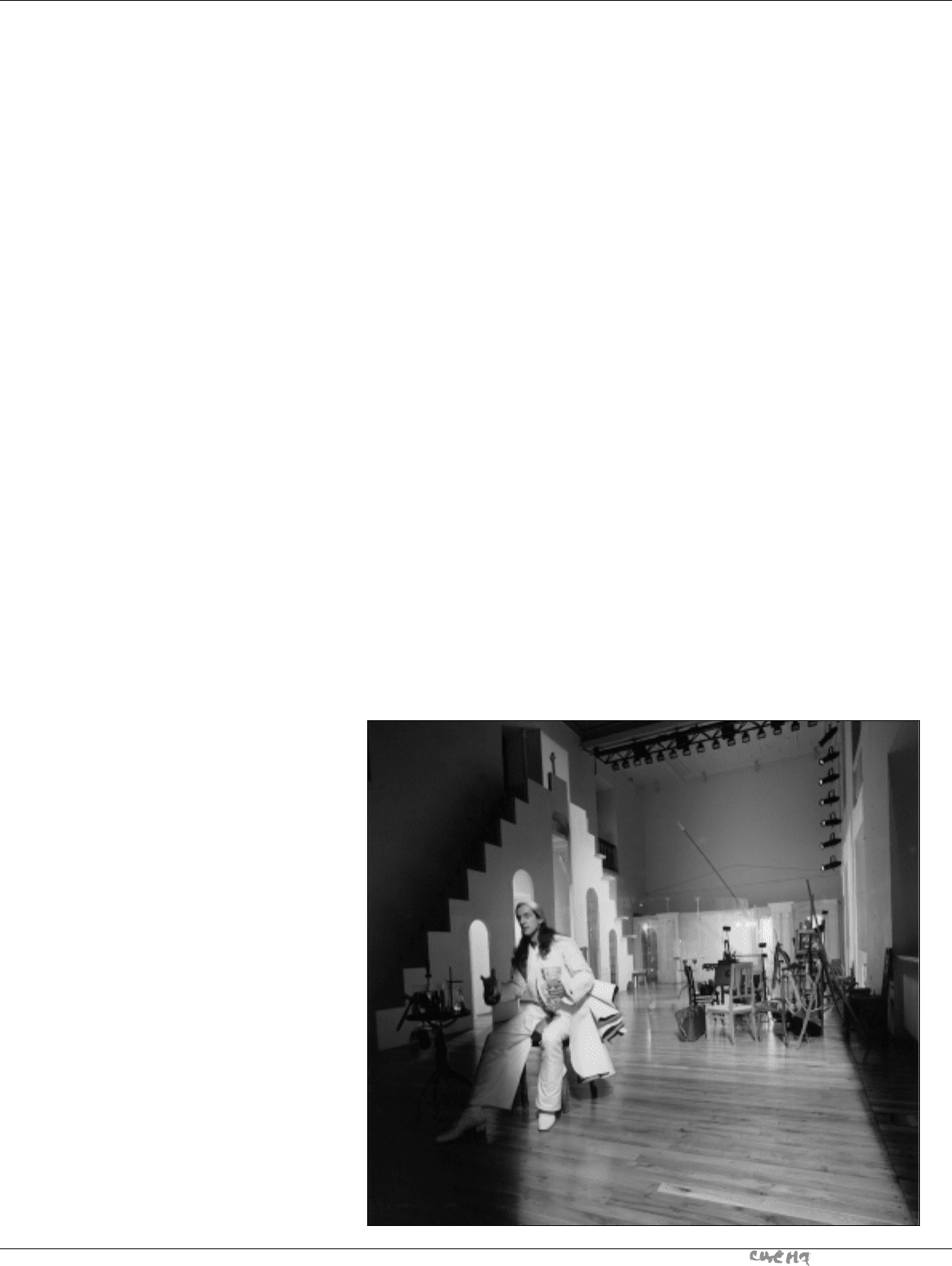
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
9
№25
досье—спектакль
ника Командору. Разделённость этого визуального
мотива надвое отвечает общему принципу разделе<
ния текста как фрагментов поэм, так и отданного
Пушкиным тому или иному персонажу «Каменного
гостя», между всеми исполнителями: две актрисы
читают за Лауру и за Донну Анну, три актера — за
Дона Гуана, что отвечает эстетическому постулату
режиссера, сформулированному еще во время ре<
петиций «Амфитриона», — «актер не выступает
персонажем. Актер выступает участником притчи»,
и в полной мере относится к спектаклям пушкин<
ского цикла. В качестве своеобразных «пьедеста<
лов» для расположения актеров Попов и Васильев
расставили по бокам зала и в глубине специально
сконструированные круглые высокие сидения (ти<
па тех, что у стоек бара). Полустоя — полусидя на
этих пьедесталах, актеры произносят пушкинские
строки. Такое положение обусловило особую, при<
чем одинаковую для всех исполнителей, пластику
тела — как бы зафиксированность в некоей позе
игрового характера и вместе с тем готовность в лю<
бое мгновение легко и свободно выйти из нее, пе<
рейти в другое место или на другое сидение, чтобы
там снова зафиксироваться и озвучить новые сти<
хотворные строки.
Если «натюрморт» на полу предназначен только
для визуального восприятия (только однажды на
него падает, головой в блюдо с фруктами, потеряв<
шая сознание Донна Анна, и ее фигура на какое–то
время становится частью этой композиции), то вы<
сокие сидения служат, своего рода, постоянно дей<
ствующими «аппаратами» для актерского
исполнения.
Другой заранее заготовленный элемент оформле<
ния, — свернутый в рулон ковер, включается в дей<
ствие единожды. В какой–то момент актер
А.Ануров эффектно раскатывает его к ногам Лауры,
сам отходит к правой стене, поднимается на при<
ступку, привязывает себя, принимая позу Святого
Себастьяна, и застывает в ней, пока Лаура поет
«Прозерпину». Затем уходит в проем левой стены,
и через какое–то время с громким топотом возвра<
щается уже в роли Дон Гуана и убивает из пистоле<
та Дона Карлоса. Тот падает на ковер, закручивается
в него, а, спустя мгновение, раскручивается, делает
на ковре кульбит, потом свертывает ковер снова
в рулон, относит его в глубину и бросает там, как
вещь, спектаклю уже больше не нужную.
Само пространство зала «Школы» в этом спектакле
архитектурно дополнено классическим порталом,
который Попов построил на месте центральной
части постоянной задней стены. Оставшиеся неиз<
менными боковые арочные проемы с пилонами
и портиками обрамляют этот портал. За ним ху<
дожник впервые обозначил еще одно, иное прост<
ранство, как бы запредельное по отношению
к метафизическому игровому пространству зала.
Ощущение запредельности передает потусторонне
светящаяся голубизна, — при этом поверхность,
по которой она разливается, физически углублена
всего лишь на расстояние не более одного метра.
Визуально зияя на протяжении всего спектакля, это
обрамленное порталом пространство включает
в себя фигуры актеров только в некоторые момен<
ты: в самом начале, когда там появляется один из
пяти исполнителей (В.Лавров), читающий первые
строки «Гаврилиады». Он не покидает своего места
вплоть до начала текста сцены в комнате Лауры.
После этой сцены, в обрамлении портала замирает
актриса (Н.Коляканова), держа над собой высокую
бамбуковую трость с благовониями и свечой.
До этого момента она (во время озвучивания парт<
нерами фрагмента из «Клеопатры») совершает це<
лую акцию ритуального свойства — сначала,
покинув тумбу у правой стены, медленно идет
к «натюрморту», опускает верхний конец трости
с благовониями и свечой к огню свечи в бронзовом
подсвечнике, отступив в центр, производит с этим
источником благоухания и носителем огня завора<
живающие магические коловращения, после чего
так же медленно направляется вглубь к ряду свечей
вокруг памятника, зажигает их одну за другой
и только затем замирает в обрамлении портала. Да<
лее портал становится «воротами Мадрида», через
которые появляются Дон Гуан и Лепорелло, — си<
нева глубинного пространства темнеет, созвучно
словам «Дождемся ночи здесь», и исполнители идут
к своим «пьедесталам» (в данном случае у левой сте<
ны), чтобы прочитать в лицах последующий диа<
лог, а на текст «это место знакомо нам» переходят
в противоположный порталу край зала, где за барь<
ером располагаются зрители. Следом за этим эпи<
зодом, вдоль пространства портала проходит
некий путник в черном плаще и шляпе с загнутыми
полями. Он несет перед собой фонарь в виде зер<
кального куба с горящей свечой внутри — это со<
зданное Поповым совершенное произведение
дизайнерского творчества. Путник с фонарем, как
бы застыв на ходу (одна нога — с опорой на носок),
читает в этом запредельном пространстве, на фоне
огромной уродливой собственной тени, «Погасло
дневное светило». Наконец, в финале, туда, в портал
уползает Дон Гуан, бросив коляску с памятником,
которую он выкатывает с переднего плана и за ко<
торой через весь планшет тянется песочный след.
Одновременно с этим, как бы отзываясь на пригла<
шение Лепорелло (в этой сцене он появляется с ги<
гантским, чуть ли не до потолка, крестом за спиной,
собранным из склеенных скотчем и связанных ве<
ревкой картонных коробок) «оживает» и второй
памятник Дон Гуана. Голова в шлеме начинает
вращаться вокруг своей оси, а затем отрывается,
поднимается вверх и зависает в воздухе.
* * *
Иной вид обрело метафизическое пространство
зала «Школы» в «Моцарте и Сальери». Являясь
и здесь априорно «чистым листом», на котором ре<
жиссер рисует игру–действо актеров «Школы», оно
поначалу было семантически отмечено только
единственным визуально значимым знаком, — вы<
ступавшим из потолка гипсовым слепком божест<
венной длани. Центральную часть задней стены
Попов и Васильев снова замкнули. Вдоль левой же
стены они выстроили белую конструкцию лестни<
цы в форме ступенчатой пирамиды. Смысл ее от<
крывался только во второй части спектакля, когда
начинался «Реквием» В. Мартынова. До этого мо<
мента она воспринималась как образ чистой, клас<
сической по симметричным пропорциям,
архитектуры, прорезанной арками разной высоты.
В середине — самая высокая, по сторонам от нее,
пониже, а у самого края, на уровне первых ступе<
ней, совсем маленькие арочки, чуть поднимающие<
ся над полом. Яркий белый свет, льющийся через
арочные проемы, создает на блестящей поверхнос<
ти планшета и в пространстве зала резкие светоте<
невые контрасты, созвучные графике костюмов
главных персонажей: Моцарт в черном, Сальери —
в белом. (Идея костюмов полностью принадлежала
Васильеву, воплощалась вторым художником теат<
ра В.Ковальчуком, Попов только консультировал, —
за исключением одеяния бессловесного персонажа
Рыцаря К., которое было сделано по его же эскизу
костюма князя из «Дядюшкина сна», поставленного
в Венгрии).
К плоскости лестницы, захватывая центральный
арочный проем, подступает прозрачная, из искус<
ственного стекла, перегородка с прорезанными
в ней тоже арочными проходами. Она тянется до
половины ширины пространства зала, огибает его
полукругом и образует иллюзорно изолированную,
просматриваемую со всех сторон зону, где в опре<
деленные моменты пребывают Моцарт и Сальери.
Они сидят за круглым столиком, перед ними на
стеклянной столешнице художник поставил удиви<
тельной красоты натюрморт из трех свечей в стек<
лянных подсвечниках и хрустальной чаши.
Спектакль начинается с того, что Сальери выкаты<
вает из этого застеколья на самый передний план,
в притемненную зону зала, еще один, чуть помень<
В. Баженов
«Моцарт и Сальери»
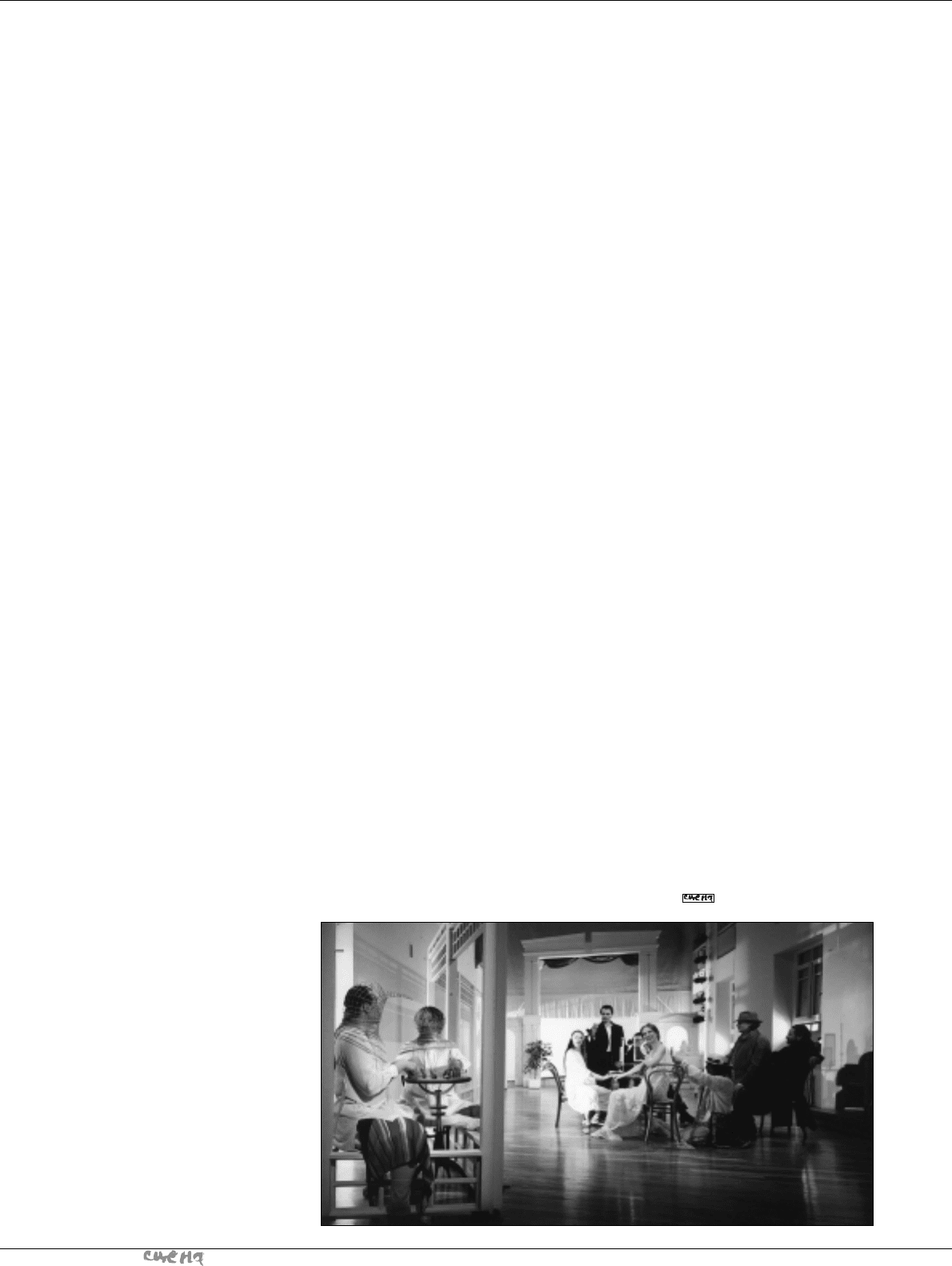
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
10
№25
досье — спектакль
ше, круглый столик с натюрмортом, скомпонован<
ным из инструментов и приборов для алхимичес<
ких опытов. Это горелки, колбы, металлическая
пластина, медицинский молоток, наконец, крест, из
днища которого Сальери извлекал «яд Изоры», что<
бы, после совершения (дважды в композиции спек<
такля) ритуала приготовления смертельного
снадобья, высыпать его в хрустальную чашу.
Третья зона игрового пространства зала предназна<
чается для музыкантов и создается ими. В облике
некоей бродячей оркестровой группы, в разношер<
стном облачении и черных очках, они выносят
приспособленные в качестве пюпитров мольберты
и стулья, расставляют их вблизи правой стены, за<
хватывая и центр сцены. Это их место, которое они
покидают после сцены со слепым скрипачом. За<
тем туда, к опустевшим стульям и мольбертам, пе<
ремещаются из застеколья Моцарт и Сальери. Там
они читают текст, который предварял момент, ког<
да Моцарт выпивает из рубинового бокала отрав<
ленное вино. И в этот миг внезапно падает черный
занавес, закрывая актеров и погружая зал в кромеш<
ный мрак.
Некоторое время в этом мраке, еще сильнее под<
черкивая его, виднеется тусклый огонек фонаря
(того зеркального куба, что висел в портале «Ка<
менного гостя») на длинной гибкой жерди. Его рас<
качивают над зрителями черные силуэты. И в это
же время слышатся — сквозь звуковой хаос аудио<
композиции — крики толпы, шум, свист, грохот, —
произносимые голосом Моцарта пушкинские
строки о противостоянии поэта и черни. А когда
завеса уходит, и после удара колокола включается
свет, взору зрителей предстают в пространстве за<
стеколья замершие в своих позах, сидящие за круг<
лым столом друг против друга, Моцарт и Сальери.
А на ступенях — фигуры прекрасных ангелов в зо<
лотисто–зеленых одеждах и с прозрачными, светя<
щимися ореолами вокруг голов. Только теперь
в полной мере открывается истинный смысл этого
архитектурного сооружения — «лестницы Иакова».
Ангелы поют «Реквием» В. Мартынова — под сопро<
вождение вновь занявших свои места музыкантов,
только уже не в качестве «бродячих», а составляю<
щих высокопрофессиональный оркестр «Opus
Post». В какой то момент ангелы поднимаются, мед<
ленно спускаются со ступеней и кружат хоровод на
планшете, среди музыкантов, огибая прозрачную
перегородку застеколья, где по–прежнему непо<
движно сидят герои пушкинской трагедии. Между
ними — еще один черный стул, который иногда за<
нимает безмолвный персонаж Рыцарь К., но чаще
этот стул остается пустым. Только изредка Моцарт
перелистывает отзвучавшую страницу нотного кла<
вира и откладывает ее на край стола. А под конец
берет хрустальный бокал и уже из него выпивает —
вторично в сценической композиции Васильева —
отравленное вино. Потом еще раз, крадучись, появ<
ляется Рыцарь К. с весами в руке, Сальери сверкаю<
щим кинжалом разрубает их, после чего снова
садится напротив Моцарта, и они в долгой паузе
смотрят друг на друга. Все это время ангелы и му<
зыканты остаются на своих местах, то вступая пе<
нием и звучанием, то смолкая. После
заключительного ухода Моцарта в центральную
арку и появления в ней двух черных монахинь,
держащих за края белое полотнище, ангелы, кру<
жась, совершают свое последнее шествие и мед<
ленно покидают пространство зала. За ними — уже
в полной тишине — следуют музыканты. В осво<
божденную ими зону входит оставшийся совер<
шенно один Сальери, садится на стул и, произнося
последние строки своего текста, передвигается
вместе со стулом все ближе и ближе к зрителям,
пока не обрушивается и не закрывает его черная
финальная завеса.
* * *
По сравнению с «Каменным гостем» и «Моцартом
и Сальери» пространство зала в спектакле «Из пу<
тешествия Онегина» предстало наиболее очищен<
ным. Если в первых двух имелись точно
отобранные аксессуары (в «Каменном госте» —
«натюрморт» на полу, в «Моцарте и Сальери» —
«натюрморты» на стеклянных столиках), обретав<
шие в процессе игры актеров ритуальную значи<
мость, то в негине» ничего подобного нет. Только
два стола, круглый и прямоугольный, необходи<
мые функционально для выстраивания за ними
и вокруг них композиций, да еще несколько вен<
ских стульев, которые исполнители сами для себя
ставят (переставляя и перенося их) в нужное мес<
то. Лишь однажды, к концу первой части, на пере<
двинутом в середину прямоугольном столе
выстраивается нечто подобное «натюрморту» (за<
жигаются три свечи перед экранами), и с этого мо<
мента в спектакле появляется место, вокруг
которого группируются основные мизансцены.
Но самым главным визуальным центром неизмен<
но остается белый концертный рояль, который
стоит в глубине. Пианистка, сидящая за роялем
и аккомпанирующая актерам, в этом спектакле —
одна из важнейших участников представления. Та<
ким образом, прекрасный музыкальный инстру<
мент не только включен в структуру спектакля,
но во многом задает его стилистику, как произве<
дение особого вида свободной, вольной, разного<
лосой и многовариантной театральной игры:
с вербальной музыкой пушкинского слова и с ее
вокальной версией Чайковского. Причем обе
ипостаси этой игры воедино воплощаются здесь
одними и теми же исполнителями. (Заметим, что
в предыдущих спектаклях — «Плаче Иеримии»,
«Каменном госте», «Моцарте и Сальери» они были
поделены: пел ансамбль «Сирин», стихи читали
драматические актеры). Постоянное присутствие
рояля, — и во время пения, и при чтении поэтиче<
ского текста, — как бы визуально олицетворяло
органичное единение этих двух ипостасей: разво<
рачивавшейся театральной игры в созданном По<
повым минималистском пространстве.
На сей раз художник поставил вдоль левой стены
зала легкую белую ажурную конструкцию с пря<
моугольными проемами «окон», с высокой двухс<
творчатой дверью в середине, с проходящим
поверху и понизу характерным решетчатым деко<
ром. Это образ усадебного дома, хотя и полностью
сочиненный, хотя и исходно обусловленный (как
и все остальные сценографические элементы
в спектаклях «Школы») функциональной необхо<
димостью для реализации режиссерской партиту<
ры, но вместе с тем эмоционально удивительно
точный по ощущению красоты русского
классицизма в ее именно пушкинской версии.
Пространство между конструкцией и стеной вос<
принимается летней галереей, которая в передней
части делает изгиб, в результате чего образуется
беседка, где стоит круглый столик. Пространство
галереи и беседки заливают потоки ярких солнеч<
ных лучей. Это пространство манит своей фанта<
стической светозарностью, которая все время
служит своего рода визуальным камертоном.
В том числе и в те моменты, когда освещение ос<
тального пространства зала притемняется, и фи<
гуры актеров смотрятся силуэтами, потому что
столь же светозарна и глубинная зона, что откры<
вается за постоянными боковыми арками и за
порталом. Портал в этом спектакле — это высокий
портал старинного театра, а в нем — подмостки,
наклонные по диагонали справа налево. В опреде<
ленные моменты спектакля они закрываются па<
дающим занавесом с изображением Пегаса.
Совмещая в единой композиции архитектурный
мотив дома и театральный портал (перед которым
стоит рояль), Попов формирует еще один вариант
пространства игрового театра Васильева, предназ<
наченный для озвучивания и представления в ли<
цах сочиненной режиссером прекрасной,
воспринимаемой как глоток свежего воздуха, вер<
бально–вокальной фуги на тему «Онегина» Пуш<
кина–Чайковского. Выстраиваемые Васильевым
пластически выразительные композиции разно<
образных актерских дуэтов, трио, квартетов, квин<
тетов, хоров, звучащих и безмолвных,
драматичных и комедийных, ироничных и задор<
ных, красиво смотрятся в каждой зоне этого ми<
нималистского гармоничного пространства, —
в разных точках белого зала на Поварской. У роя<
ля. Вокруг прямоугольного стола со свечками.
У беседки. Внутри нее. В галерее (вдоль которой
медленно проходят и из которой появляются че<
рез раскрываемые дверные створы исполнители).
Наконец, — на подмостках театрального портала,
где сначала происходит мгновенное преображе<
ние Татьяны из провинциальной девочки в сто<
личную даму, потом возникает мизансцена
«кабаре», далее последнее объяснение Онегина
и Татьяны, появление кузин, ларинских дворовых
девушек, Графини из «Пиковой дамы». В финале
сгруппировавшиеся на подмостках портала ис<
полнители хором поют — к полной неожиданно<
сти зрителей — гимн городу на Неве («Слушай,
Ленинград, я тебе спою, задушевную песню
свою»), под звуки которого могучий «театраль<
ный» конь с четырьмя человечьими ногами
и большущими копытами увозит Онегина в его
странствия...
«Из путешествий Онегина»
Ан. Васильев

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
11
№25
досье—спектакль
Любовь ОВЭС
«Калькверк»
По роману Т. Бернхардта
Инсценировка,
постановка,
сценография,
свет Кристиана Лупы
12–й Фестиваль
Союза театров Европы
С. – Петербург, октябрь 2003 г.
Н
е знаю, как предыдущие одиннадцать,
но двенадцатый международный фести<
валь Союза театров Европы, произвел
странное и грустное впечатление. Так и осталось
неясным: мировой ли театральный процесс утра<
тил критерии качества, таковы ли особенности
данного фестиваля, или, может, это свойства лю<
бого фестиваля сегодня. Схожие впечатления от
экспозиции театральных художников в Праге
позволяли предположить последнее. Закралась
даже крамольная мысль: а не обман ли этот
«Союз театров Европы», не очередной ли «между<
собойчик», удобная структура, ценность которой
в организационном, а не творческом потенциа<
ле. Магическое словосочетание, осененное
именем его создателя Джорджа Стрелера,
при первом же знакомстве утратило большую
часть своего обаяния. На фестиваль привезли
произведения, не только не попадавшие под по<
нятие «мировые», но по любым самым провинци<
альным меркам, вызывавшие сомнения.
Невольно возникали вопросы: не было отбора
или таков мировой театральный процесс? Откро<
венно слабые постановки были найдены вдалеке
и по соседству: в Румынии и Финляндии, Венгрии
и Швеции. Не радовали и результаты копродук<
ции. Взрослые и серьезные люди собрались вме<
сте, чтобы изобрести нечто невнятное
и малоэстетичное — «Вакханок» Еврипида. Не<
благоприятное впечатление произвел и «Тар<
тюф», созданный Габором Жамбеки, нынешним
председателя Союза театров Европы. Волна разо<
чарований, поднятая финской «Филуменой Мар<
турано», разбившись о барселонского «Юлия
Цезаря», достойного лучшей участи, чем полупу<
стой зал Балтийского Дома, достигла пика на
спектакле, созданном преемником Стрелера. Пу<
стые залы на большинстве спектаклей, аншлаги
на немногих, чья афиша оказалась украшена зна<
ковыми именами, равнодушие студентов и пре<
подавателей Академии театральных искусств
к европейским коллегам (мастер–классы прохо<
дили в практически пустых аудиториях) — стали
реалиями 12 фестиваля Союза театров Европы.
Интерес сопутствовал «Арлекину, слуге двух гос<
под» Дж. Стрелера и «Двенадцатой ночи» Д. Дон<
неллана, «Шведской летней ночи» Эвы Бергман
и двум спектаклям Э. Някрошюса. Столь разные
по художественному качеству постановки при<
влекли равное внимание, обнаружив зависи<
мость зрителя от имиджа спектакля и имени
постановщика .
Польский спектакль «Калькверк» прошел почти
незаметно. Отсутствие профессионалов на спек<
такле удивило. Имя Кристиана Лупы — одного из
лучших европейских режиссеров и художников,
учителя новой польской режиссуры, оказалось
петербуржцам неизвестно. Город, прорубивший
окно в Европу, давно и плотно отгорожен от нее
ставнями безденежья. Его культурное простран<
ство существует изолированно, редкая заморская
птица залетит в его пределы. Исключение — Ма<
риинский театр, где Гергиев, подобно Петру, ло<
мает и строит, крушит и ваяет, создавая новую
реальность своего театра, раздвигая границы, ак<
тивно приглашая гостей. Зарубежные драматиче<
ские коллективы появляются редко и лишь
благодаря усилиям Балтийского фестиваля. Пе<
тербургские театральные журналы почти не пе<
чатают материалы, посвященные мировому
театру. Участие Кристиана Лупы во II–м Чехов<
ском фестивале спектаклем «Иммануил Кант»,
ставшее событием московской театральной жиз<
ни, в культурной столице страны осталось неза<
меченным. Кавалер Ордена изящных искусств
и литературы Франции, обладатель австрийского
Креста I класса в области искусства и науки, ху<
дожник, многократно отмеченный премиями на
родине в Польше — для нас terra incognita.
Он не принадлежит к бодрому и мускулистому
цеху режиссеров, правящих театральное ремес<
ло. Не подходит к нему и определение «волшеб<
ник», данное Мариной Давыдовой. Оно, скорее,
льнет к Стрелеру. Лупа — театральный мыслитель
из компании Гротовского и Васильева. Его те<
атр — философско–этически–медитативный.
Но в отличие от Гротовского или Васильева, он
не элитарен, не стремится к келейности. Лупа не
заигрывает со зрителем, но хочет быть им услы<
шанным. Для этого у него, как режиссера и сце<
нографа, есть действенные средства, присущие
только ему приемы.
«Кальверк» — безукоризненный театральный
опус, сложный по структуре и философскому со<
держанию, насыщен эмоциями, завораживающи<
ми и подчиняющими себе даже самого неиску<
шенного зрителя. Не способные осознать
философский объем и изыски «театральных тек<
стов» не оказываются обделенными: они чувству<
ют настроение и атмосферу.
Спектакль не молод, но по сравнению с полуве<
ковым «Арлекином» Дж. Стрелера — сценическим
эпиграфом 12 фестиваля, он ходит еще в пинет<
ках. Надеюсь, что ему не грозят следы разруше<
ния, уже проступающие на гениальном челе
стрелеровского творения. Такие спектакли, как
«Калькверк» долго не живут. Они умирают естест<
венной смертью, как только исчезает питающая
их почва.
Томас Бернхардт — один из любимейших авто<
ров Кристиана Лупы. Он уже ставил его роман
«Вычеркивание». Это вновь проза, генетически
связанная с Достоевским и Кафкой. Австрийский
писатель ставит вопросы глобального, космичес<
кого масштаба. Бернхардт любит шокировать.
Конец XX век наложил на него свой отпечаток.
Жесткость первоисточника Лупа смягчает. К че<
ловечеству он относится лучше Бернхардта.
В «Калькверке» интимная сфера чувств и мыслей
подана с эпическим размахом. Лупа — режиссер,
тяготеющий к эпичности, несмотря на лиричес<
кое, субъективное содержание. Это подтвердила
театральная архитектура.
Огромное, холодное и пустое пространство сце<
нической коробки Балтийского Дома, обычно
враждебное к хозяевам и гостям, на этот раз не
сопротивлялось, обнаружив соразмерность «веч<
ному» содержанию спектакля.
Действие раскручивается подобно пружине,
только в обратную сторону. Было похоже на пу<
щенную назад кинопленку. В зачине — повество<
КАЛЬКВЕРК
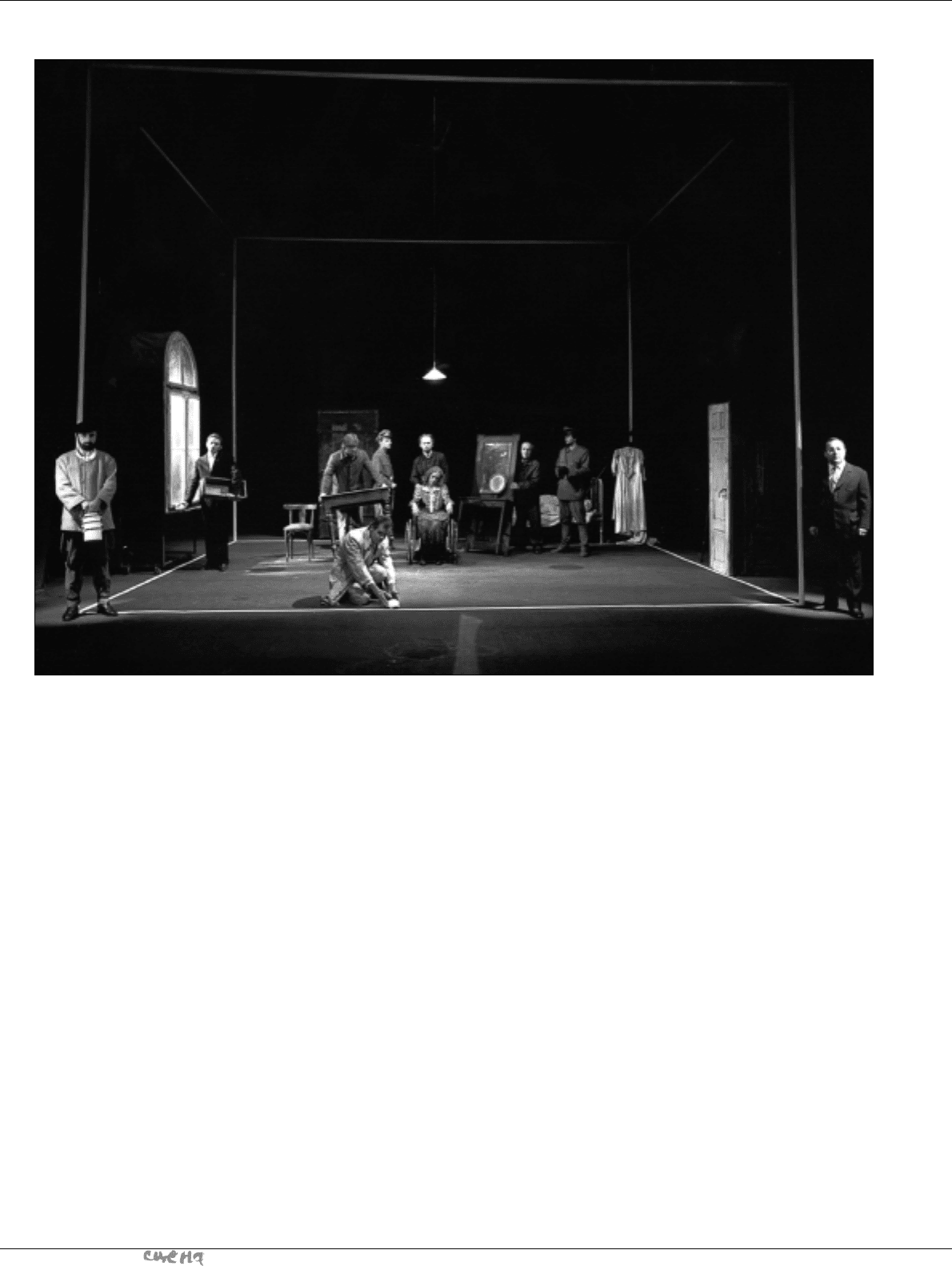
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
12
№25
досье — спектакль
вательность. Таков режиссерский прием. Следователь Хел<
лер вводит нас в курс дела. Конрад — этот странный чело<
век, поселившийся в мрачном поместье «Кальверк» вместе
с женой Малгожатой, никого не принимавший и ни с кем
не общавшийся, неизвестно зачем купивший охотничье
ружье, не умеющий играть, но яростно бьющий ночами
по клавишам, убил жену. Мотивы преступления и поведе<
ние убийцы непонятны. Сам он найден прячущимся в сор<
тире. Рассказано это буднично, но с каким–то неясным
уважением к герою: Хеллер откровенно жалеет, что из–за
ареста труд всей жизни Конрада останется незавершен<
ным. Выясняется, что герой — ученый, исследовавший
звуки и их связи с подсознанием. Раньше они с женой жи<
ли в другом месте, Малгожата не хотела переезжать,
но Конрад настоял, ибо считал, что только в Калькверке
он сможет воплотить на бумаге распирающие его мозг до<
гадки и предположения, сформулировать свои открытия.
Много лет он ставил эксперименты, участницей и жерт<
вой которых была жена. Теперь это — обезножевшая кале<
ка, ставшая ему обузой.
Изо дня в день Конрад пытается прорваться к истине. Ка<
жется, он подошел к ней совсем близко: стянул все в еди<
ный узел, уложил в голове, заполнил пустоты, ответил на
вопросы. Надо только сейчас, немедленно, поймав един<
ственный за жизнь момент, записать. Но в дверь стучат
или начинают во дворе колоть дрова, и все рассыпается.
Конрад вымещает раздражение на непрошенном госте.
Его диалог с Советником Бауэром — шедевр театрального
абсурдизма.
Хватаясь за препятствия, желая и ненавидя их, мучаясь
невозможностью воплотить бродящие в нем догадки,
в ссорах с женой и ежедневных экспериментах, Конрад
избывает дни в страхе и отчаянии, ужасе и кошмарах.
Осознание, что жизнь потрачена зря, а жертва принесена
обыкновенному сумасшедшему, а вовсе не гению, мучает
Малгожату. Смерть она принимает, как избавление, не ус<
певая, подобно Ларисе Огудаловой, поблагодарить спаси<
теля. В раскрученном назад сценическом повествовании,
есть эпизод, когда прикованная к инвалидному креслу
Малгожата вспоминает, как они танцевали на балу и про<
сит Конрада помочь ей встать. Их «танец» — ответ на му<
чающий полицейского вопрос, зачем убив Малгожату,
Конрад таскал на себе по комнате трупп. У Лупы отноше<
ния мужа и жены лишены оппозиции убийца–жертва. Это
— еще недавно любившие друг друга люди, измотанные
жизнью и «исследованием», но не избывшие нежности
друг к другу.
Она живет в воспоминаниях, постоянно возвращаясь
к прошлому, балам, поездкам, встречам с родными, требу<
ет от него шкатулку c письмами. Когда она читает их,
над сценой словно пролетает тень васильевского «Серсо».
Смещенное временное пространство — доступная немно<
гим театральная реальность. Васильев и Лупа на этой тер<
ритории чувствуют себя, как дома.
Малгожата заставляет Конрада постоянно переодевать ее,
надевать новые платья. За каждым очередным нарядом —
определенный эпизод в прошлом, смена настроения, пси<
хологический поворот действия. С каждым трагизм ситу<
ации все очевидней, развязка ближе. Около кровати
(в первом акте принадлежащей Малгожате, во втором —
профессору Фро) — вешалка. На ней костюмы, сменяю<
щиеся вместе с картинами: платья жены, френч мужа,
плащ соседа. Все находящиеся на сцене предметы и все их
перемены у Лупы знаковы. Дежурный ритуал одевания
платья сменяется убогим ритуалом завтрака. «Работает»
все: и смешение в одной тарелке макарон с муссом и раз<
меры крохотного столика и форма судков, приносимых
Морицом. Отнимая у жены еду, Конрад требует собраться
для очередного эксперимента. Истерики жены и нервные
эскапады героя сменяют друг друга.
Сцены из спектакля
«Калькверк»

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
13
№25
досье—спектакль
Лупа не ставит окончательного диагноза: сошел ли с ума
Конрад, гений он или сумасшедший, Ньютон или Каран<
дышев, остается без ответа. Малгожата и сама догадыва<
лась, что жертва должна была быть принесена, вне
зависимости от оправданности и утилитарности. Сниже<
ние пафоса, не обесценивает ситуации, придает ей боль<
шую жизненность. Маленький человек с большими
амбициями так же сильно переживает трагедию невопло<
щения, как и гений. Это показали русские писатели за<
долго до Томаса Бернхардта.
Герою снится сон, что его мысли обрели словесную
плоть. Он, наконец, смог отлить их в форму. В луче мощ<
ного и какого–то потустороннего света, льющегося из
окна слева, он лихорадочно записывает откровения. Па<
дает и засыпает. Через заднюю дверь появляется жена.
В момент, когда внимание зрителей отвлекается на фан<
том в красном платье с вычурной прической — так непо<
хожий на замученную жизнью настоящую Малгожату,
появляется двойник Конрада, из–за спины спящего героя
наблюдающий, как «жена» сжигает рукопись, и не способ<
ный этому помешать. Это одна из лучших сцен спектакля,
отличающаяся не только изысканностью режиссерского
решения, но и пространственным симфонизмом. Навер<
ху высвечиваются фигуры шепчущихся Морица и Карла
— герою мерещится заговор. В другом «окне» — косматые
существа — материализованные страхи и кошмары.
Спектакль — о человеческом подсознании. Нам предлага<
ется путешествие за границы видимого. Лупа так сформу<
лировал суть спектакля: «Калькверк» является для меня
потрясающей драмой об акте творения. . . о несовмести<
мости мечты и того, как говорит Бернхардт, что имеется
в голове («Hirngespenst» — призрак мозга, который стано<
вится требующим жертв вампиром) — с какой бы то ни
было внешней, объективированной формой. . . например
«на бумаге».
Лупа сумел в сценической форме передать муки несовер<
шенства и терзания творчества, осознание невозможнос<
ти воплощения и безнадежность его попыток. «Калькверк»
и его обитатели похожи. И в тех и в других — манящая
и пугающая тайна. Заключена она и в сценографии Лупы.
В центре сцены прозрачный куб, точнее его скелет. Вне
куба — окно и двери. В глубине большая дверь, похожая
на поставленный «на попа» кованый сундук, справа — об<
разованный двумя, черной и белой дверями, тамбур. Вы<
ходя за пределы куба, переступая порог белой двери,
Конрад оказывается на авансцене, «работающей» в этот
момент, как «холодная комната». Старинный буфет, из ко<
торого достается бутылка водки, делает пространство ин<
терьером. Входя в черную дверь, Конрад попадает
в комнату жены, входя в третью, невидимую для нас, под<
нимается к профессору. Пространство арьера за предела<
ми куба служит двором, где работник Мориц колет дрова.
Куб не только ограничивает рамки сценического дейст<
вия — он очерчивает границы познания, за пределы кото<
рого пытается вырваться герой. Сухостью
и неизбежностью прямых углов лишает надежды. Мысль,
как раковая опухоль, питается сама собой. Вампир–мозг
поглощает себя. Вырваться за пределы его геометрии не<
возможно.
Сценическая коробка оголена. Арьер, пожарный выход,
черная кирпичная стена, колосники, световые мостки со<
звучны холоду жилища и мраку души обитателей. Немно<
гие находящиеся на сцене предметы отличаются богатой
и явно драматической биографией. Потертые, таящие
в себе черты лучшей прошлой жизни, они все, кроме ко<
мода, — внутри куба. В спектакле Лупы каждый предмет —
стол, зеркало, пудреница, кровать, инвалидное кресло не<
обходимы, содержательны, знаковы. Мизансцены вывере<
ны до сантиметра. Траекторию движения можно
обозначить линией. Спектакль словно нарисован. Осо<
бенность Лупы в том, что он режиссер и художник. Выпу<
скник факультета графики Краковской Академии искусств
и факультета режиссуры Высшей театральной школы
в Кракове, Лупа равно блестяще владеет двумя професси<
ями, инструментарии которых давно перемешались в его
рабочей сумке.
Внутри куба — серо–синее поле — площадка основного
сценического действия. Это на нее в самом начале спек<
такля выйдут полицейские, сюда притащат найденного
в сортире Конрада. Опрокинутая инвалидная коляска
с трупом, стол, пара стульев — вот все ее убранство в на<
чале спектакля. Следующая картина возвращает в про<
шлое. Внимание сосредоточено на кровати, что стоит
в заднем правом углу куба. Из–под одеяла выпростается
женская рука, звонящая в колокольчик. Его не слышат.
Осуществляя привычные, но не становящиеся от этого бо<
лее легкими движения, Малгожата поднимается, продви<
гая себя в кровати к инвалидной коляске. Перебрасывает
в нее тело, подъезжает к старому и изрядно обшарпанно<
му старинному трюмо. Достает расческу, причесывается.
Режиссер не торопится. Человеческая беспомощность яв<
лена во всей пугающей наготе, тщательно и кропотливо.
Мы рассматриваем все через увеличительное стекло, втя<
нутые в жизнь героев, мир их страхов и прозрений.
На все происходящее словно направляется специальная
оптика. Проемы окна и дверей, как глазок объектива.
Между их отверстиями и внешним миром — кожаная по<
тертая гармошка, как у старинного фотоаппарата. Двери
и окна благодаря сокращению этой диафрагмы, могут
отъезжать и возвращаться назад. Она похожа на кишку,
через которую покидают самолеты. Щупальцы каких–то
неведомых существ из кошмаров героя тянутся за преде<
лы куба. Эти кабели, трубы, жилы, словно изрыгаемые
оконными и дверными проемами, похожи на извилины
человеческого мозга. Они — лабиринты, тайные каналы
человеческого подсознании. Лупа будто воплощает в про<
странстве мыслительный процесс, реализует механизмы
нашего подсознания, находит им пластическую форму.
Спектакль о муках воплощения, о его невозможности.
Сценография физиологична. Это свойство, соперничаю<
щее (редко) лишь с юмором, блистательно проявленным
в бархинской «Даме с собачкой», уже почти занесено
в красную книгу. Им отличались декорации Эдуарда Ко<
чергина.
Спектакль Лупы, как живая материя, развивающаяся на на<
ших глазах в пространстве и времени. Подобно цветению
форм на холстах Павла Филонова, он прорастает теат<
ральными метафорами, словно живыми побегами. Прин<
цип «сделанности» соседствует с иррациональностью.
Лупа ткет театральную материю из звука и света. Утробно<
го звука, похожего на тот, что извергается из чрева в мо<
мент рождения себе подобного, и непривычного света,
не имеющего аналогов в действительности. Этот незем<
ной свет льется время от времени слева, из окна. В спек<
такле есть сцена, когда все пространство становится
темно зеленым, а центральный проем двери–сундука фи<
олетовым. И мы вспоминаем экспрессионистическую жи<
вопись. Лупа создает потустороннюю реальность так же
легко и просто, как и предметный мир. В каком–то смыс<
ле он театральный алхимик, перегоняющий в режиссер<
ских и сценографических ретортах видимое и невидимое
до образования нового театрального вещества.
Театр К. Лупы только кажется трудным. В действительно
он фантастически легок и прозрачен. И очень желанен.
Совершаемое на сцене заставляет погружаться в себя, осу<
ществлять серьезную и тяжелую душевную работу. Вас
словно выворачивают наизнанку, выпотрашивают.
И в этом нет насилия. Благодаря совместной с артистами
работе, Вы переживаете то, что древние называли катар<
сисом. Просто в нашем тысячелетии иные трагедии —
иные и формы очищения.
Такую честную работу, как в этом спектакле, встретишь
нечасто. Спустя одиннадцать лет, спектакль идет так, буд<
то играть его является главным и самым существенным
делом жизни восьмерых участников, словно они не име<
ют никаких иных занятий и интересов. Будто не спят,
не едят, не встречаются с родными и друзьями, не имеют
жен и детей, а играют его и только его, изо дня в день,
не переключаясь на другие пьесы и постановки, съемки
и халтуры, зондируя душу и мозг, постигая себя и нас, че<
рез трудную прозу Томаса Бернхардта и не менее труд<
ный сегодняшний день.
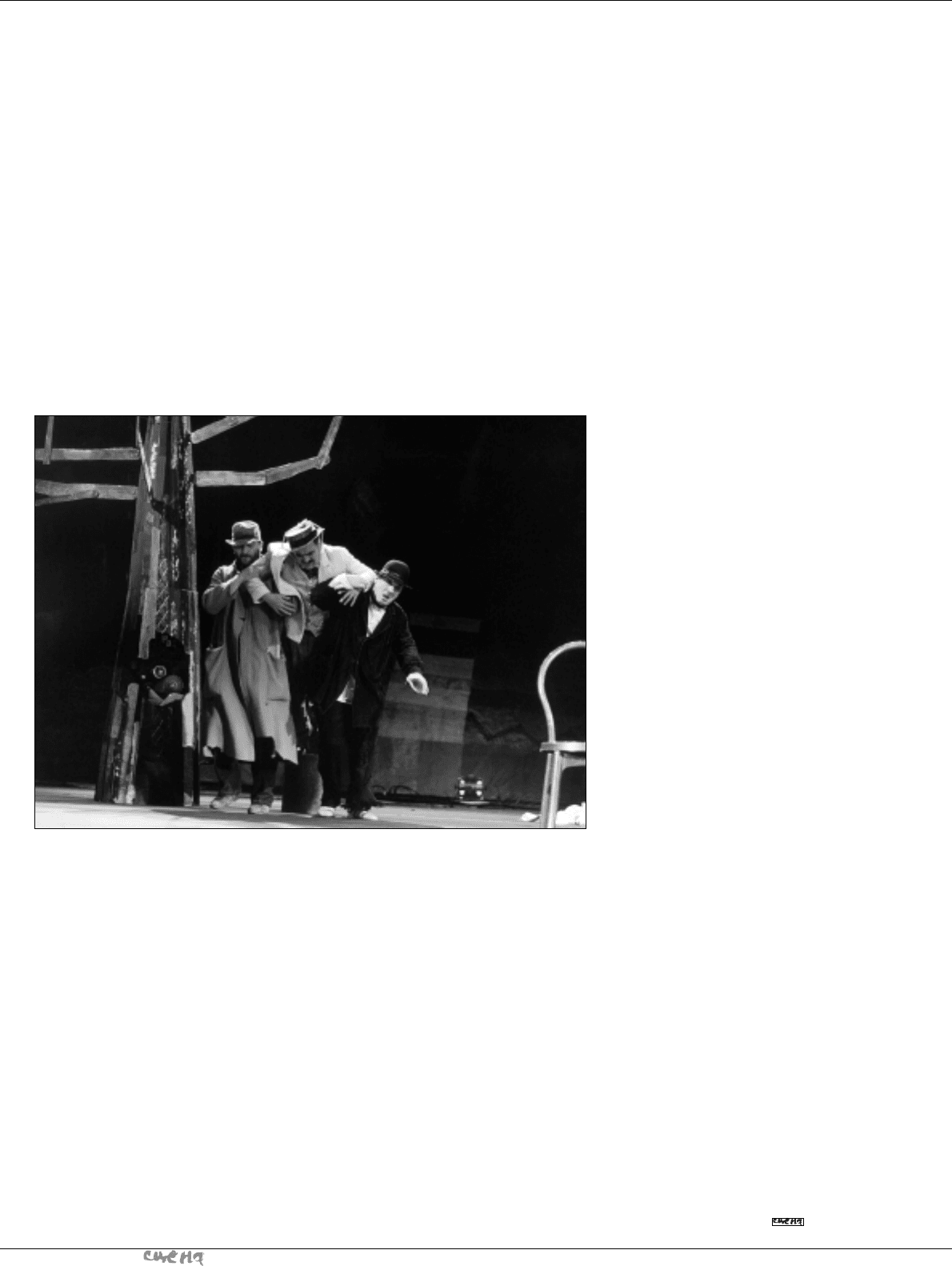
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
14
№25
досье — спектакль
Ольга КОРШУНОВА
«В ожидании Годо»
С. Беккет
Режиссер Роберт Стуруа
Сценография и костюмы Мириан Швелидзе
О
жидание Годо показалось зрителям стран<
ным. Время и действие — все кружилось на
одном месте. Писали о постановке много.
О цирке, о белом и рыжем клоунах. О скуке в зале.
И, невзирая на подчеркнуто марионеточное дере<
во, — очень мало о театре марионеток.
Между тем, каждая деталь сценографии, решение
костюмов персонажей, их пластика — все работа<
ло на такое сравнение. Да и сама мысль вполне вы<
читывается из пьесы Беккета. Двое бомжей
ожидают на опушке Годо. Проходят дни, недели,
месяцы. Годо не является. Но кто–то ведь управля<
ет героями, не отпуская их ни на шаг!
Открывшийся занавес демонстрирует нам стран<
ное и страшное дерево–марионетку, собранное из
вертикальных реек с подсвеченным дуплом, с по<
движными суставчатыми ветвями на натянутых,
ведущих к невидимой ваге, нитях. Уже одно появ<
ление на сцене этого дерева, говорит о том, что су<
ществование всякой живой природы окончено,
регламентировано и находится под строгим кон<
тролем. Задник разрисован пустыми зрительскими
рядами (цирка ли, стадиона ли, театра...), затянуты<
ми пестрым лоскутным покрывалом. Там и тут на
планшете замечаем весьма условные приземистые
геометрические фигуры — то ли абстрактные ку<
бы, то ли условные пни. Направо в глубине чайник,
поставленный на грубый самодельный очаг. В этом
пространстве будут развиваться события. А пока
тела задействанных в пьесе людей–кукол, безжиз<
ненно лежат на планшете.
В работе с актерами проявилось, вероятно, нечто
от театра сверхмарионеток Гордона Крэга, где все
подчинялось не психологии, не внутреннему голо<
су актерской личности, а отточенной выразитель<
ной пластике.
...Когда медленно под музыку оживают персонажи
«Годо», пластичные, утрированные и несколько ис<
кусственные их жесты обрываются то и дело. Под<
нял ногу — забыл, повернулся — застыл внезапно.
Мало того: незанятый в мизансцене герой иной
раз ждет свою очередь, валяясь, как брошенная
кукла, за каким–нибудь кубом. У Эстрагона в пьесе
болит нога. Он и «конделяет» по сцене в одном
башмаке, резко припадая на левую ногу. Потертый,
разорванный черный камзол, старая белая рубаха,
на голове чаплинский котелок. По его словам, —
он был когда–то поэтом. Весьма вероятно, замаш<
ки его — впрямь замашки интеллигента. Получив
от друга Владимира маленькую морковку — раз<
глаживает ладонями на груди белую салфетку–пла<
ток. Владимир же — обыкновенный современный
бродяга: худой, в кепи и драном пальто.
Бомжи появились давно. Им некуда деться и так же
они мечтают о чуде. Они так же странно привяза<
ны к одному месту, и все их встречи когда–то про<
изошли.
Неудивительно, что при выходе следующей пары,
Поццо и Лакки, Владимир и Эстрагон время от
времени напоминают друг другу, что они уже их
видели. Так же, впрочем, как и эту опушку.
Где происходят события? Некогда, в конце восьми<
десятых годов при постановке «Короля Лира» про<
видец Стуруа был убежден: «Весь мир — театр».
Об этом сообщали декорации, продолжающие ру<
ставелиевский зрительный зал балконы с лепни<
ной, нависающие в глубине над планшетом сцены.
Тогда спектакль заканчивался зримым гниением
государства. Полтора десятилетия спустя Стуруа
показал в «Ожидании Годо» одиночество и полный
распад. Как иначе воспринимать пустые нарисо<
ванные места зрителей. Когда–то мы были единой
державой, теперь все разбрелись и обрывки прост<
ранства, как после затеи безумного Лира, оказа<
лись сшиты из разных клочков.
Невзирая на то, что Эстрагон и Владимир живут
в согласии, а в следующей паре установились отно<
шения: слуга — господин. Суть не меняется — пе<
ред нами марионетки. Они уравнены. Первых
незримо привязывают к дереву обстоятельства,
вторых объединяет реальный канат, где куклово<
дом является Поццо.
Почти два часа идет действие, где смех режиссера,
сценография и красота пластики скрывают ужас
и горечь реальности. Театр Стуруа, изначально по
структуре своей близкий Брехту, не может не
быть связан с веком.
Эстрагон. А как же наши законные права?
Владимир. Если бы можно было смеяться, я про<
сто умер бы со смеху.
Эстрагон. Мы их что, лишились?
Владимир. Мы их разбазарили.
Думается, эти слова важны Роберту Стуруа. В них
— тема его постановок последних лет. В «Годо» же
дело еще чудовищней: полная разобщенность
и бессмысленность существования. Можно что
угодно кричать о боли — записанный звукоряд
воспроизводит лишь отклик ушедших зрителей.
До нас доносится свист и гомон бурлящих былых
времен, но Эстрагон, умело дирижируя звуком,
единым жестом обрывает эхо, словно усилием во<
ли заставляя себя о чем–то забыть.
Мало того, когда Владимир и Эстрагон прижима<
ют ухо к груди друг друга, до нас доносится отго<
лосок их личных воспоминаний. А из–под пола,
из прошлого, из люка на сцене, чьи–то руки пода<
ют им отдельные предметы минувшей жизни.
Ждут Годо, но приходят лишь Поццо с Лакки.
Сначала мы видим навьюченного, как лошадь,
Лакки. В руках имущество Господина: огромные
корзина и чемодан, за спиной черный зонт,
складной деревянный стул. Горло захлестнуто на<
тянутым толстым арканом. Медленно шаг за ша<
гом он преодолевает ширину сцены...
На какой–то миг сцена кажется зачеркнутой.
Стоп–кадр как в кино: перед нами никого нет,
только линия–горизонталь, перечеркнувшая
жизнь. И лишь затем на другом конце появляется
современный, самодостаточный Поццо; в шляпе,
с тростью в руке, обзаведшийся слугою и скар<
бом.
Одетый в старый, но богатый костюм, в наполео<
новской треуголке, Лакки сам прежде был госпо<
дином, но деревенщина Поццо подмял его под
себя. Все кончено, «дело в шляпе». И стоит лишь
сорвать ее с головы — Лакки замирает в беспо<
мощно–немыслимой позе. Нормальная жизнь
пронеслась, теперь ни души, ни сознания, ни до<
стоинства не осталось. Лакки разучился быть че<
ловеком. Когда ему приказывают подумать вслух,
не только окружающим становится тошно, от
ужаса воздевает руки–ветви и дерево.
Впрочем, привязанный веревкой к сытому, хоро<
шо одетому Поццо, Лаки, как ни странно, ощуща<
ет себя довольно комфортно. От господина он
получает хотя бы кости. А не пустые листки–ожи<
дания от Годо.
Подчеркивая безнадежность сего ожидания, Бек<
кет длит действие два дня. Стуруа и Мириан Шве<
лидзе решают проблему на сцене зримо: пока
Лакки служит у Поццо, под треуголкой его уже
вырос длинный каскад волос; пришедший от Годо
посланник, уже не «Мальчик», но дородный гос<
подин с брюшком, в белых одеяниях и ним<
бом–венчиком вокруг сверкающей лысины;
а в подсвеченном дупле дерева хранится ворох
чистых белых записок от Годо, копившихся не
один месяц и год.
Все кружится на одном месте. Несется по сцене
высокими, зависающими прыжками, веревкой
привязанный Лакки. За ним, в том же ритме, уст<
ремляются Владимир и Эстрагон. Время остано<
вилось. Мы — ведомые куклы.
В ОЖИДАНИИ ГОДО
В. Баженов
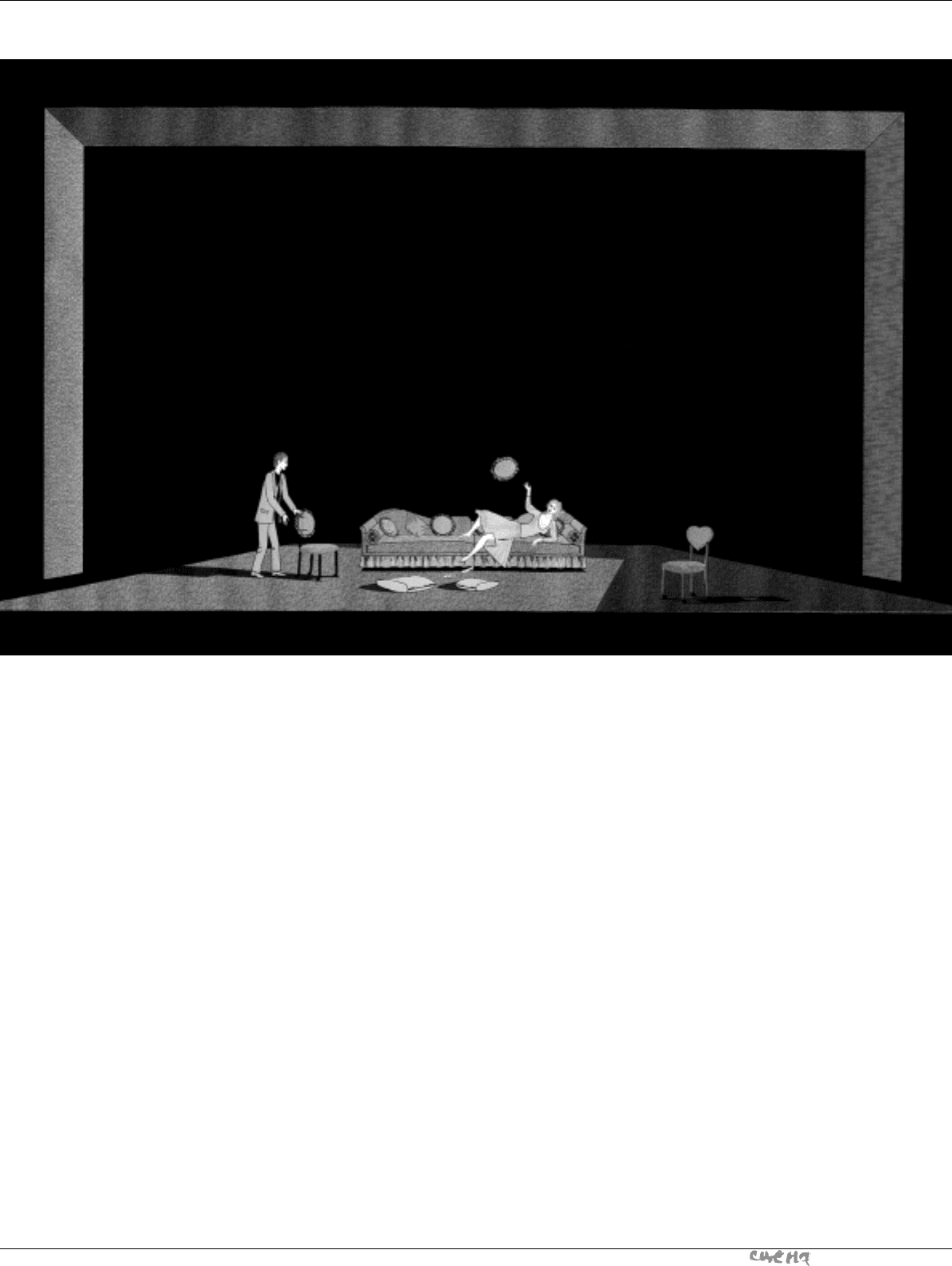
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
15
№25
досье—спектакль
Мария ХАЛИЗЕВА
«Доходное место»
Пьеса А. Н. Островского
Театр «Сатирикон»
Постановка Константин Райкин
Сценография Борис Валуев
Костюмы Мария Данилова
Свет Анатолий Кузнецов
Д
оходное место» (2003) — не первый случай соавтор<
ства режиссера Константина Райкина и художника
Бориса Валуева. Правильнее было бы назвать это со<
трудничество постоянным. На сатириконовской сцене их
совместными усилиями созданы за истекшее десятилетие
«Такие свободные бабочки» Л. Герша (1993), «Ромео и Джуль<
етта» У. Шекспира (1996), «Кьоджинские перепалки» К. Голь<
дони (1997), «Квартет» по Ж.–Б. Мольеру (1999),
«Шантеклер» Э. Ростана (2001).
Следует заметить, что все то время, пока Райкин терпеливо
и стойко искал свой голос в режиссерской профессии, Ва<
луев «подыгрывал» ему чутко и мастеровито. Первые спек<
такли Райкина казались — и не без оснований — уж
слишком «общедоступными» (начинающему постановщику
такой путь виделся единственно возможным: публику сле<
довало накрепко привязать к окраинной и нетеатральной
Марьиной роще). Режиссер искренне увлекался пронзи<
тельными голосами и азартным мельтешением на сцене; ху<
дожник старался ему соответствовать и чаще всего
выстраивал на подмостках громоздкие металлические кон<
струкции: мощные, отчетливо зримые, но лишенные полу<
тонов, как и райкинские постановочные приемы.
Несмотря на совместные усилия Райкина и Валуева по об<
живанию совсем не камерного пространства, сцена «Сати<
рикона» годами не желала до конца покоряться уловкам
укротителей, не собиралась скрывать неуютных масштабов
и не всегда к месту демонстрировала размашистые возмож<
ности.
Переполненный зрительный зал, приученный к напористо<
му громкоголосью и яростности красок, долгое время тон<
костей не взыскивал. Тем временем серьезный театр,
располагающий этими самыми тонкостями, в том числе
сценографическими, начал последовательно и настойчиво
обосновываться в «Сатириконе». Пришла пора и для перво<
го обращения «Сатирикона» – западника к русской драма<
тургии. Им стало «Доходное место» А.Н. Островского.
Предельно освобожденное от бытовых подробностей про<
странство — ни самовара, ни чашечки, ни блюдечка — по<
началу оторочено расставленной по периметру мебелью на
колесиках, отвернувшимися от публики диванами и кресла<
ми бело–кремовых тонов (просторы сцены основательно
ужаты). На колесики водружены ровным счетом все предме<
ты обстановки, до последнего сломанного стула, скользя<
щего — катящегося по светлому покрытию из серого
линолеума, имеющего форму трапеции.
Там, где следует обитать бедности или небогатству (кварти<
ра Жадова, трактир) — там облик помещения мгновенно,
на наших же глазах, составляется из предметов простого де<
рева: прямые углы грубых столов, стульев, табуреток. Там,
где роскошь или хотя бы претензия на будущее обладание
ею (владения Вышневского и домик Кукушкиной) — там вы<
рисовываются по центру плавные линии двух просторных
диванов с горкой декоративных подушечек. Иногда комна<
та может быть совсем уж минималистки обозначена парой
кресел. В этой незагроможденности и мобильности трудно
не ощутить какую–то празднично–концертную свободу.
Хореографические номера удается проделывать в равной
степени лихо и диванам, и табуретам. В райкинском «Доход<
ном месте» танцуют все: кружатся на диванах влюбленные
Полинька и Жадов; разудало и самозабвенно пляшет на двух
стульях, как на ходулях, чиновник Юсов; выписывают стре<
мительные зигзаги отвечающие за перестановки мебели
«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
В САТИРИКОНЕ
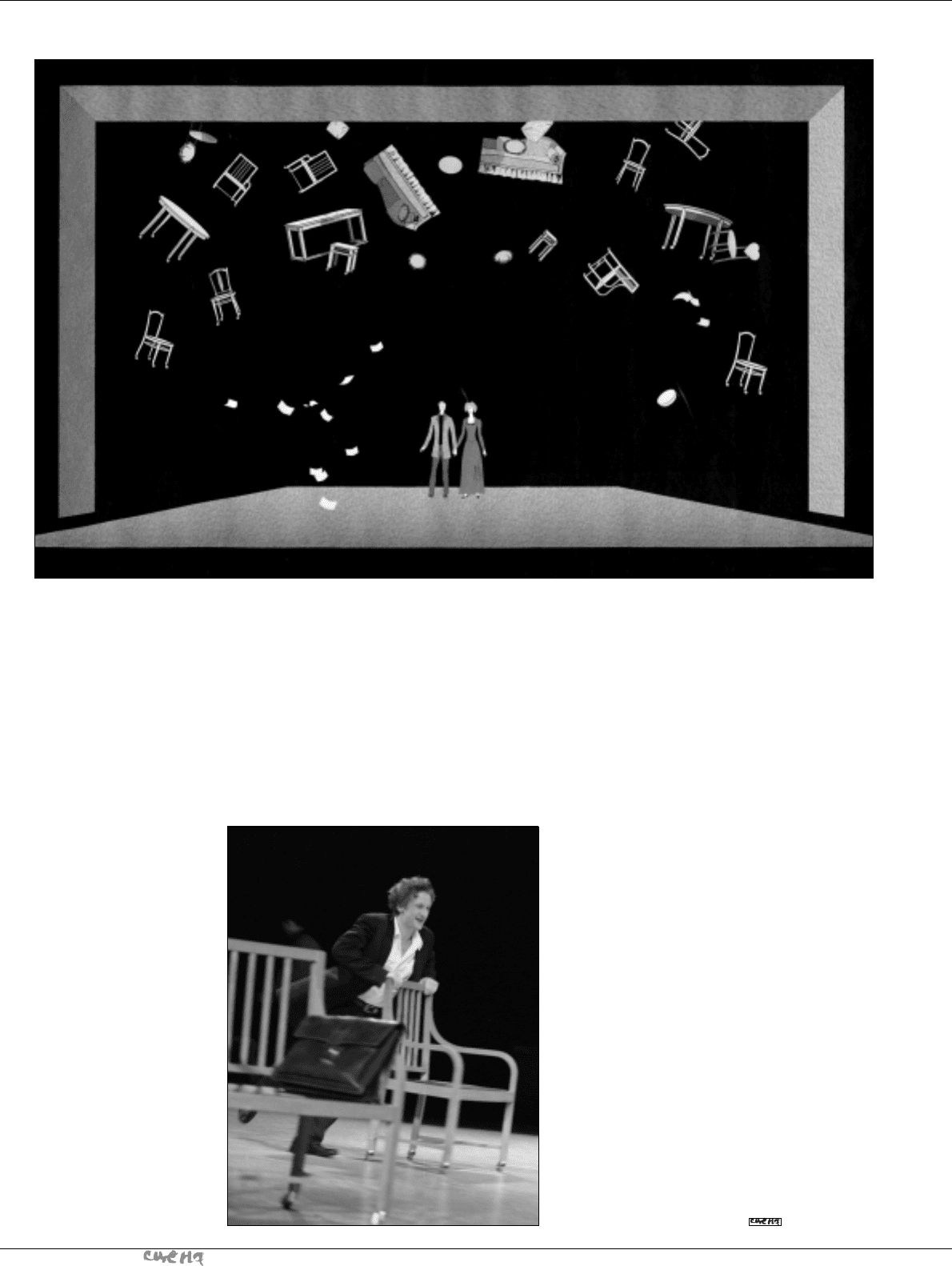
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
16
№25
досье — спектакль
слуги; вяло раскатывает на табурете, лежа на нем плашмя,
изнывающая от унылости семейной жизни Полина, лениво
перебирает ногами и равнодушно орудует веником — весь<
ма нетрадиционный способ подметания пола... Такие вот
разные танцы.
В этом спектакле мало реквизита: бархатная коробочка да
букет алых роз в руках прагматика Вышневского, кукла
в комнате юных сестер на выданьи, моток шерсти, из кото<
рой Юлинька сделает поводок для Белогубова — намек на
банальность и предрешенность их отношений (кстати, поз<
же в руках у Юлиньки появится небезобидный хлыстик),
потертый портфель Жадова, корыто с бельем перед Поли<
ной. Не только необходимые в обиходе предметы, но и оп<
ределенные знаки. Похоже, что при столкновении
с русской классикой воззрения Райкина проявились более
чем определенно: «Я — воспитанник психологического теа<
тра, но я не люблю бытовой театр».
Такой материал, как металл, к которому часто апеллировали
ранее, в оформлении последней сатириконовской премье<
ры почти не использован. Нет и кричащих цветовых пятен,
все приглушено, выдержано в бежево–бело–песочных
и черно–серо–коричневых тонах. Подобный ход подхва<
чен и художником по костюмам Марией Даниловой: самая
яркая из допущенных ею на сцену цветовых гамм — мерца<
юще–серебристая. А изысканное, хотя и неброское платье
Вышневской в последнем акте кажется верхом утонченнос<
ти не только по сценическим меркам.
В качестве назидания, которое так обожают вытягивать из
пьес Островского, у Райкина и Валуева имеется только фан<
тастическое парение мебели в финале: все предметы, совер<
шавшие во время спектакля изощренные пробеги через
сцену, взмывают вверх и, медленно кружась на черном фо<
не кулис и задника, неторопливо исчезают в районе колос<
ников. Кто–то, возможно, сочтет это описью имущества
Вышневских.
Лишенный тяжеловесности, которой часто наделяют его
театры, Островский благодаря «Сатирикону» поутратил мо<
нументальности и хрестоматийного глянца. Что существен<
но — не в ущерб проблематике. Три с половиной
десятилетия назад внушительный шаг на этом пути сделали
Марк Захаров и Валерий Левенталь: запустили поворотные
круги сцены театра «Сатиры» и заставили Жадова, реши<
тельно распахивавшего бесконечные двери, существовать
«наперекор движущемуся пространству» (А.М. Смелянский).
Однако если в 1967 году при постановке «Доходного места»
Захаров представил зрителю «подвижного» Островского,
то в году 2003 Райкин решился предъявить публике Остро<
вского «порхающего».
Итог сатириконовских деяний вполне мог бы быть описан
так: Александру Николаевичу Островскому заметно наскучи<
ла та поза, в которой он запечатлен в бронзе и усажен перед
Малым театром. Вслед за разнообразными предшественни<
ками создатели нынешнего спектакля предоставили класси<
ку очередную возможность подраспрямиться. Метаморфоза
снова оказалась драматургу к лицу.
Е. Цветкова
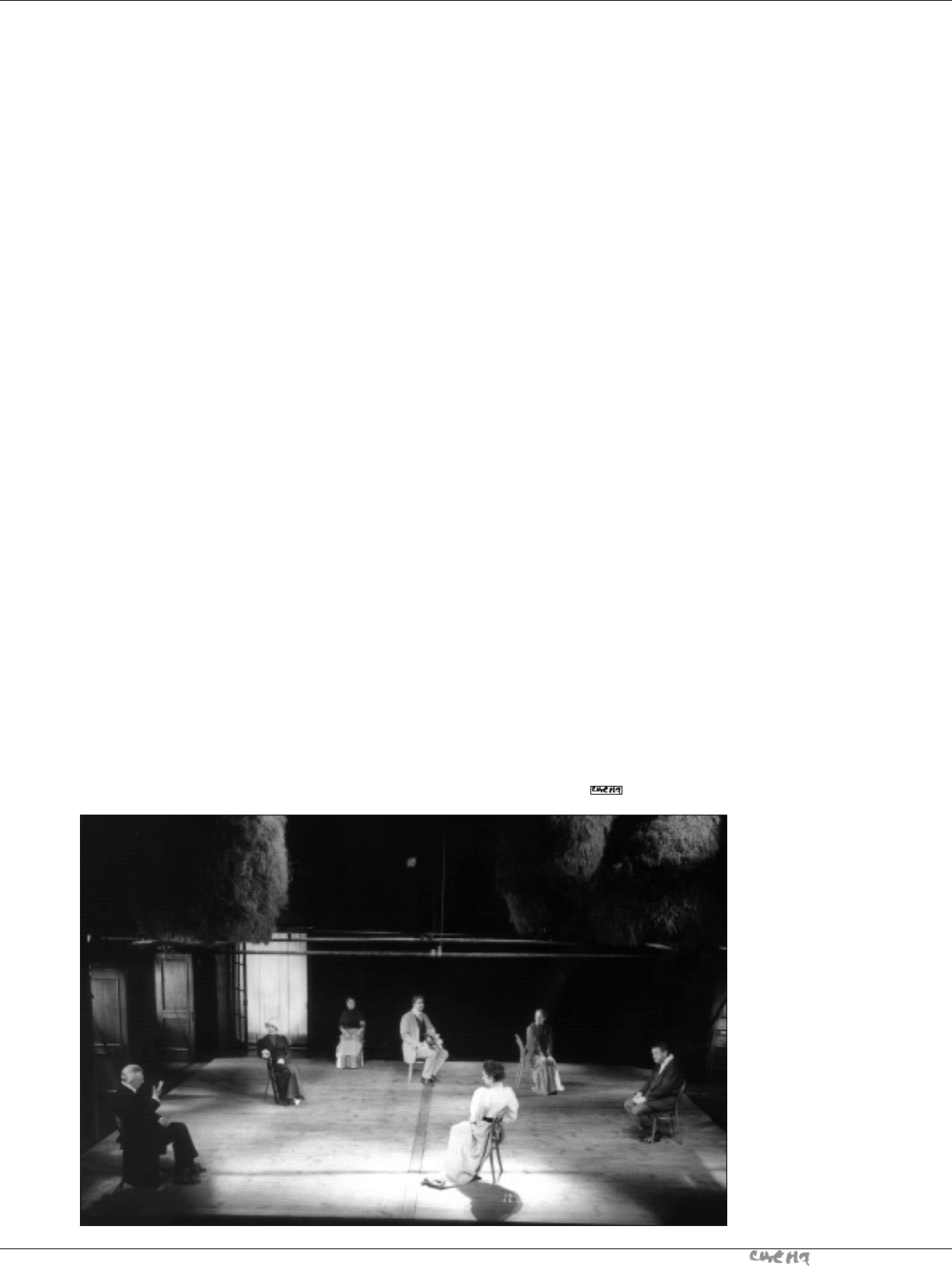
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
17
№25
досье—спектакль
Мария ЛЬВОВА
«Дядя Ваня»
А.П. Чехов
Режиссер Лев Додин
Художник Давид Боровский
Малый драматический театр — Театр Европы.
Санкт–Петербург. 2003 г.
В
содружестве с Юрием Любимовым Давид Боровский
творил декорацию динамичную, смыслообразующую,
способную многократно видоизменяться, трансфор<
мироваться, постоянно взаимодействовать с актерами, всту<
пать в самые разные игры со словом, звуком, мыслью,
с самой собой. Декорацию идеальную и единственно воз<
можную для принципиально игрового, условного театра Лю<
бимова.
С Львом Додиным Боровский сделал несколько спектаклей,
преимущественно на оперной сцене. Из предыдущей их сов<
местной драматической работы — «Молли Суини» (2000 г.)
— в памяти прочно запечатлелись на краю высохшего бас<
сейна плетеные кресла–кабины с высокими закругленными
спинками, из какой–то нездешней жизни. Предельный лако<
низм, впрочем, совершенно в другом роде, отличает и ны<
нешнюю постановку — чеховского «Дядю Ваню».
Для психологического спектакля, небывало подробно и глу<
боко (особенно по сравнению с обыкновениями нашего те<
атра) раскрывающего ту самую «жизнь человеческого духа»,
художник предложил не каскад метафор, не изощренный
монтаж аттракционов, а один–единственный аскетичный,
сдержанный образ. Декорация, сочиненная художником для
«сцен из деревенской жизни» непривычно для Боровского
статична, просто–таки почти неподвижна и даже отчуждена
от сценического действия, но при этом отнюдь не безжиз<
ненна.
Каре из темных деревянных стен, светлый дощатый пол, че<
тыре двери по бокам — по две симметрично с каждой сторо<
ны, в задней стене — стеклянная дверь с белой тюлевой
занавесью, за которой угадывается сад, а вместо потолка —
три тяжелых, лохматых стога сена, волшебно угнездившихся
на тонких металлических штанкетах. Не сразу различаешь,
что из–под клоков сена торчат концы досок, настеленных
поперек штанкет. В тени одного из стогов виднеется глиня<
ная крынка, крошечная по сравнению травяной махиной.
Вот и вся обстановка. Стол с самоваром, легкие венские сту<
лья или кресло–качалка возникают на сцене по мере необ<
ходимости.
Незаметно посверкивают часы на задней стене, небольшие
круглые часы с белым циферблатом в блестящей металличе<
ской оправе. Они расположены неестественно высоко, выше
штанкетного «потолка», будто предназначены вовсе не для
персонажей, обитающих в этом пространстве.
Декорация сама по себе абсолютно лишена какой–либо
эмоции. Нельзя сказать, что стога, столь необыкновенно за<
висшие над вполне обыденной жизнью персонажей, чем–то
им угрожают, противостоят, или, наоборот, оберегают,
или что–то конкретное собой символизируют — все это не<
верно. И даже в создании какой–то особой, «деревенской»
атмосферы их не уличишь. Чувства, страсти, борьба, отчая<
ние, надежда и прощение — отданы актерам. Частые колеба<
ния настроений — от вихревого возмущения к шаткой
гармонии — никак не сказываются на недвижных и молча<
ливых свидетелях.
Лишь однажды пространство «отзывается» на боль: в грозо<
вую ночь разговоров и откровений по стеклянной двери
струится вода, и туда, в успокаивающий летний дождь, бре<
дет — «Как я, в сущности, несчастна!» — Елена Андреевна.
Стога, два справа и один слева, расположились над головами
чеховских героев невысоко, можно дотянуться, только слег<
ка подпрыгнув. Но приходит это в голову лишь Елене Андре<
евне, она лихо выдергивает соломинку и эффектно
зажимает ее в зубах. Для нее деревня, в которую она попала
— случайно и ненадолго — в этой вкусной, пахучей травин<
ке, в стихах Тютчева: «И льется теплая и тихая лазурь // На
отдыхающее поле», которые она декламирует в ответ на пыл<
кие астровские объяснения о лесах, о гибнущей природе.
А работникам — Соне, Астрову, Войницкому — эти стога мо<
гут напомнить совсем о другом: о ежедневном труде, о безот<
радной неизбежности.
В финале на оставленных и уже свыкающихся со своим не<
счастьем героев снисходит милосердие. Во время последне<
го монолога Сони, они с дядей Ваней работают за
маленьким столиком, разгребают накопившуюся хозяйст<
венную писанину. А стога, четыре действия безучастно про<
висевшие над ними, медленно опускаются на землю,
заключая их в колючие объятия.
«ДЯДЯ ВАНЯ» У ДОДИНА
В. Васильев
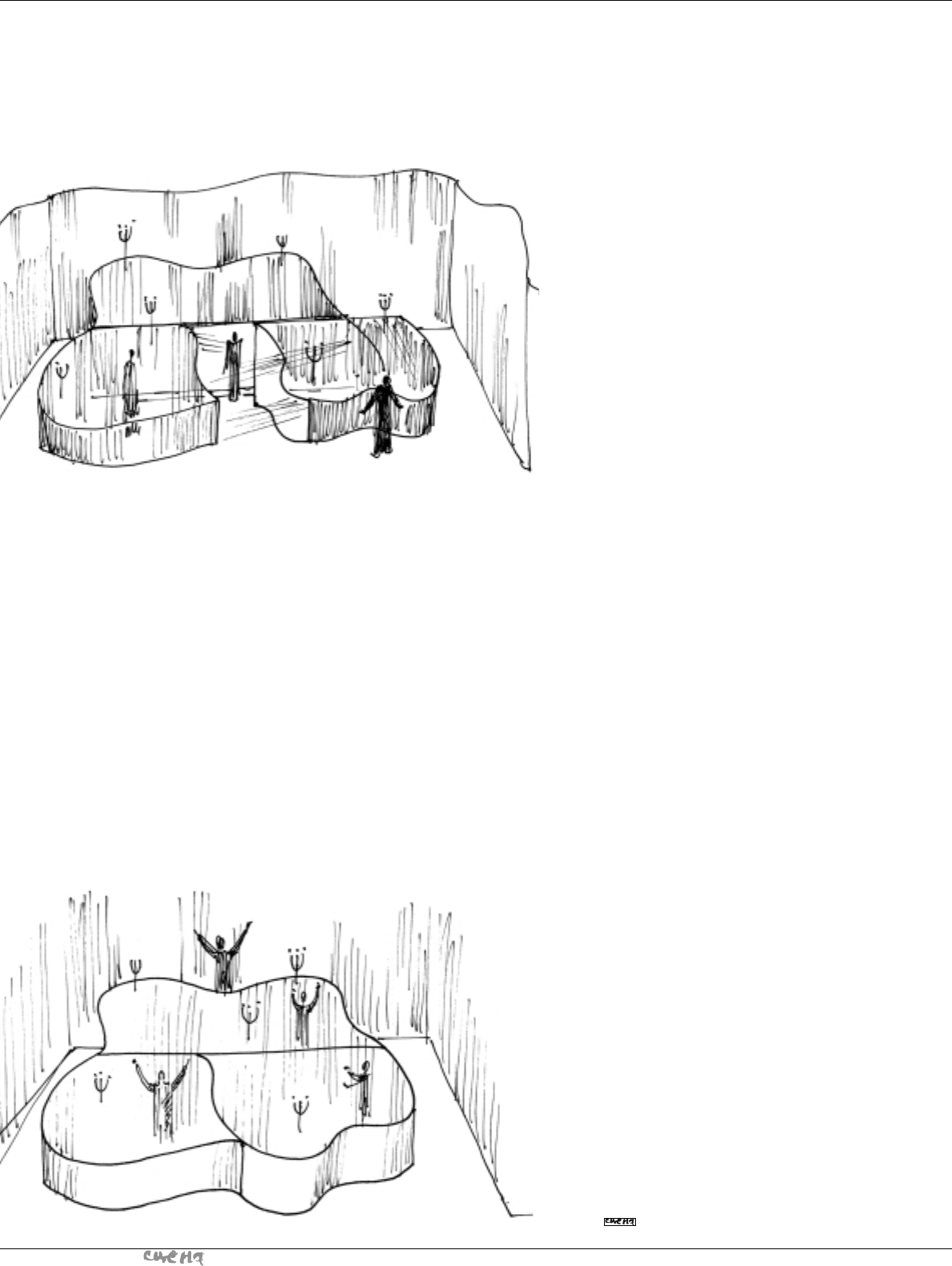
ддооссььее —— ссппееккттаакклльь
18
№25
досье — спектакль
Елена ЛУЦКАЯ
Таков подзаголовок пьесы Сергея Коробова «Берли
оз». Спектакль, поставленный в Театре наций ре
жиссером Михаилом Скомороховым (продюсер
Михаил Чигирь), идет в декорациях и костюмах по
эскизам Виктора Герасименко.
Р
азумеется, «Фантастическая симфония» вкупе с дру<
гими великими произведениями великого компози<
тора звучит в «саундтреке» постановки. Но сам по
себе подзаголовок недвусмысленно указывает на стилисти<
ку спектакля. А, быть может, в значительной мере данную
стилистику и диктует, предопределяет характер мизансце<
нирования, актерских красок и, конечно, сценографии.
Последняя отчасти фантастична. И, несомненно, полифо<
нична во всех своих слагаемых. Все вневременное — мно<
гозначительно подчеркнуто. Все конкретное решительно
выведено за пределы обыденного бытового правдоподо<
бия. Подробности обстановки помечены признаками эпо<
хи легко, бегло и достаточно осторожно. Стулья —
«венские», но... бронзированные, миниатюрный столик, по<
добие конторки — детали малочисленные и в масштабном
соотношении с фигурами актеров — сознательно пре<
уменьшенные.
Артисты одеты с аналогичной степенью осторожности,
с тонким указанием на 1840<1850<е годы, однако, весьма
театрализованно. Зато совершенно неожиданное и нети<
пичное для сегодняшних антреприз серьезное, присталь<
ное внимание к гриму — преимущественно у двух
протагонистов — Ев гения Князева и Людмилы Полищук.
Первый поражает внешним сходством с исторически<из<
вестными изображениями Берлиоза в литографиях и да<
герротипах. Вторая несколько таинственно напоминает
чертами лица...всех (!) возлюбленных героя — каждую по<
немножку. Впрочем, если вдуматься, таинственность ис<
чезнет: ведь избранницы гения чем<то неуловимо
похожи друг на друга типажно. В итоге возникает некий
собирательный образ, усиленный костюмировкой.
Одежды персонажей объединены мастерски разработан<
ной цветовой гаммой: оттенки лилового в различных со<
четаниях превращаются в, своего рода, зримый
аккомпанемент действию. Художник всесторонне учиты<
вает каприциозную, импровизаторски<свободную приро<
ду пьесы и извлекает из текста множество подтекстов.
Отсюда очевидная полифония изобразительных лейтмо<
тивов, найденных Виктором Герасименко. Перед зрите<
лем постоянно «лед и пламень». Декорации условно
очерченного интерьера (скорее намека на интерьер)
будто заключены в прозрачный непроницаемый футляр
неведомого и невиданного музыкального инструмента.
Недаром сам Гектор Берлиоз в своих «»Мемуарах» при<
знавался, что просто любит созерцать линии музыкаль<
ных инструментов. И, что, будь он богат, обязательно
приобрел бы две арфы, и любовался бы ими. Вот так
в спектакле любуешься плавными контурами единой ус<
тановки, похожей на льдину, и сквозь это «магическое
стекло» проникаешь в отдаленное прошлое.
Пламя — рассеянное повсюду мерцание свечей. Над сце<
ной, в глубине, в вышине, на разных планах они парят
в черном, казалось бы, ничем не ограниченном прост<
ранстве. И сами очерчивают мистически неуловимое,
зыбкое пространство — некий космос, всегда слышимый
и различимый в трагической музыке Берлиоза. Финал
с вознесением героя в вечность в облике дирижера соб<
ственной симфонии окончательно выявляет «космичес<
кий размах» таких внешне сдержанных, лапидарных,
камерных декораций.
Их воздействие и смысловое наполнение неожиданно
и непредсказуемо помножены на место показа премьеры.
Общеизвестна неизбежная связь (гармоническая или, на<
против, контрастная) любой сколько<нибудь значитель<
ной сценографии с декором, архитектурой, планировкой
зрительного зала. В данном случае само понятие «зри<
тельный зал» весьма условно. Конечно, «Берлиоз» пока<
зывался и успешно показывается на театральных
площадках других городов и Москвы (в частности, в теа<
тре имени Пушкина и в зале нового Театрального центра
СТД), но премьера состоялась именно в Театре наций.
В не восстановленном до сих пор доме прежнего филиа<
ла МХАТ (а еще ранее легендарного театра Корша). Прак<
тически, нынешний зал и игровая площадка Театра наций
находятся в пределах прежней сценической коробки.
Пространство непривычное для глаза помечено печаль<
ными (если не трагическими) следами разрухи и запусте<
ния. И в свою очередь непредвиденно сопутствует
пронзительной печали спектакля, разлитой во всем.
В цельности и ассоциативной сложности драматургии.
В точности и экспрессивности актерских интонаций.
В строгости режиссерского замысла, чуждого нынешним
«модничанью» и пустопорожним эффектам. В облике
и образе спектакля, приведенном сценографом в полное
и слитное соответствие с остальными звеньями представ<
ления.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ
