Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков
Подождите немного. Документ загружается.


достигаться через героя и его ритм. Если на сцене представляется развитие и история человека, то он
становится для зрителя объектом, который наблюдается со стороны. Слияние зрителя с героем, как полагал
Аппиа, достигается «через вибрирование одним ритмом». Бессознательный герой Аппиа — живое
воплощение действия, можно даже сказать, персонифицированное действие. Аппиа видит в Вагнеровском
Зигфриде именно то, чего будет недоставать ему самому — гениальную волю к действию, поступку,
порожденную не рассудком, не утилитарной необходимостью, а всем духовным складом героя, всем его
существом.
На рубеже XIX-XX веков субъективизация чувства времени происходит и в танце. Именно эта эпоха
проводит водораздел между метром и ритмом. Метр выступает в музыке как «объективное время», а ритм
— как время субъективное.
«Ритмика» Жака-Далькроза — попытка заставить человека прожить ту или иную музыку в субъективно
окрашенных ритмах. Естественно, речь шла не о том, чтобы двигаться не в такт, а только о том, чтобы
использовать ритмические нюансы (более или менее значительные отклонения от четкой метрической
дробности) в целях индивидуальной выразительности. Эта идея ритмического сфумато, некоей не полной
четкости и не полной адекватности метрическому строению музыки очень удивляла современников
Далькроза, приверженных традициям классического танца. Эти идеи не понимали также и многие ученики,
последователи Далькроза. А речь шла, по-видимому, о том, чтобы в танце волею постановщика
соединялись, с каждой новой интерпретацией по-разному, изменчиво-субъективный ритмический и
неизменно-объективный метрический рисунки.
Нахождение с каждым учеником его индивидуальной ритмической выразительности — было целью
Далькроза в его педагогических усилиях. (Он даже просил учеников приносить фотографии в разных
возрастах, чтобы проследить пластическую эволюцию.)
Когда Аппиа проникся мыслью о необходимости воспитания нового актера, и одновременно со всей
остротой ощутил собственное бессилие в этой области, тогда он и встретился с Далькрозом, обратив его
помыслы к театру. Требования, предъявленные Аппиа актеру «синтетического» театра античного образца,
казались и самому художнику в конце XIX века почти невыполнимыми. И все, что касалось актерского
творчества, выглядело в трудах Аппиа почти фантастично. Зато Аппиа с молниеносной быстротой увидел в
самых первых «шагах» даль-крозовской школы (Далькроз пытался обучать сольфеджио с помощью
«шагов») будущую методику воспитания «нового человека».
К совместному творчеству Аппиа и Далькроза есть прекрасный эпиграф, точно раскрывающий суть их
новаций. Это «Танец» Матисса. Четкая ритмическая организация целого картины, кружение людей,
85
объединенных ритмом неслышной музыки, людей выражающих в танце некие первородные свойства
человеческих существ, их радостное родовое единство — все эти идеи художника Матисса очень близки
устремлениям Аппиа и Далькроза. К слову сказать, иная, более грубая и яростная стихия танца
осуществилась и в «Вихре» Малявина, написанном несколько раньше «Танца».
«Я поверил бы только в такого бога, который умел бы танцевать. И когда я увидел своего демона, я находил
его серьезным, глубоким и божественным: это был дух тяжести, — благодаря ему все вещи падают на
землю... Вставайте, помогите нам убить дух тяжести!» Это уже писал Ницше в своем «Заратустре».
Танец как высвобождение от оков того трагизма, которым были вызваны к жизни ранние пьесы Метерлинка,
танец как растворение в «хоровом» единстве — эта трансформация идеи танца предвещала все «сумерки
богов» сразу.
М. Волошин в беседах с Вяч. Ивановым провозглашал: «Танец — это выражение радости. Радость скрыта в
теле. (...) Трагизм весь сосредоточился в лице. Его надо скрыть. Надо уничтожить индивидуальность и ее
трагизм маской».
Стилистическая формула далькрозовской режиссуры — антикизи-рующий модерн. Он отнюдь не стремился
к уничтожению, стиранию индивидуальности, скорее радел о смягчении ее участи. Но, с другой стороны,
все механизмы воздействия ритма на человеческое подсознание были, во многом благодаря ему, уже
приготовлены к употреблению в ином культурно-историческом контексте — «сумерках» 30-х.
Эта подчиняющая и преображающая человека власть ритма была почувствована Далькрозом впервые в
Алжире, где он увидел религиозные танцы-трансы мусульманских фанатиков.
Несмотря на большое влияние друга, Далькроз боялся Вагнера, как огня. И предпочел для самой крупной
театральной работы в Хеллерау Глюка, с его уж очень архаично-умиротворенной для конца XIX века
ритмикой.
Ритм, используемый как род наркотика, облегчающий боль сомнений и колебаний, освобождающий от
теснящих границ «я», влекущий к незаметно навязанной цели — одна из самых темных черт характера
культуры начала века. (XX век на протяжении всей своей истории пользовался этой сказочной флейтой
крысолова.)
Далькроза с его педагогическими проектами интересовала не власть «дирижера». Его увлекали эмоции. Как
зарождается чувство, как оно угасает, как становится заразительным. Тайна распространения внутренних
процессов вовне — вот что чрезвычайно волновало его и тогда, когда он занимался театром, и тогда, когда
он отошел от этих занятий. Он пытается докопаться до причин двух основных опасностей, подстерегающих
86
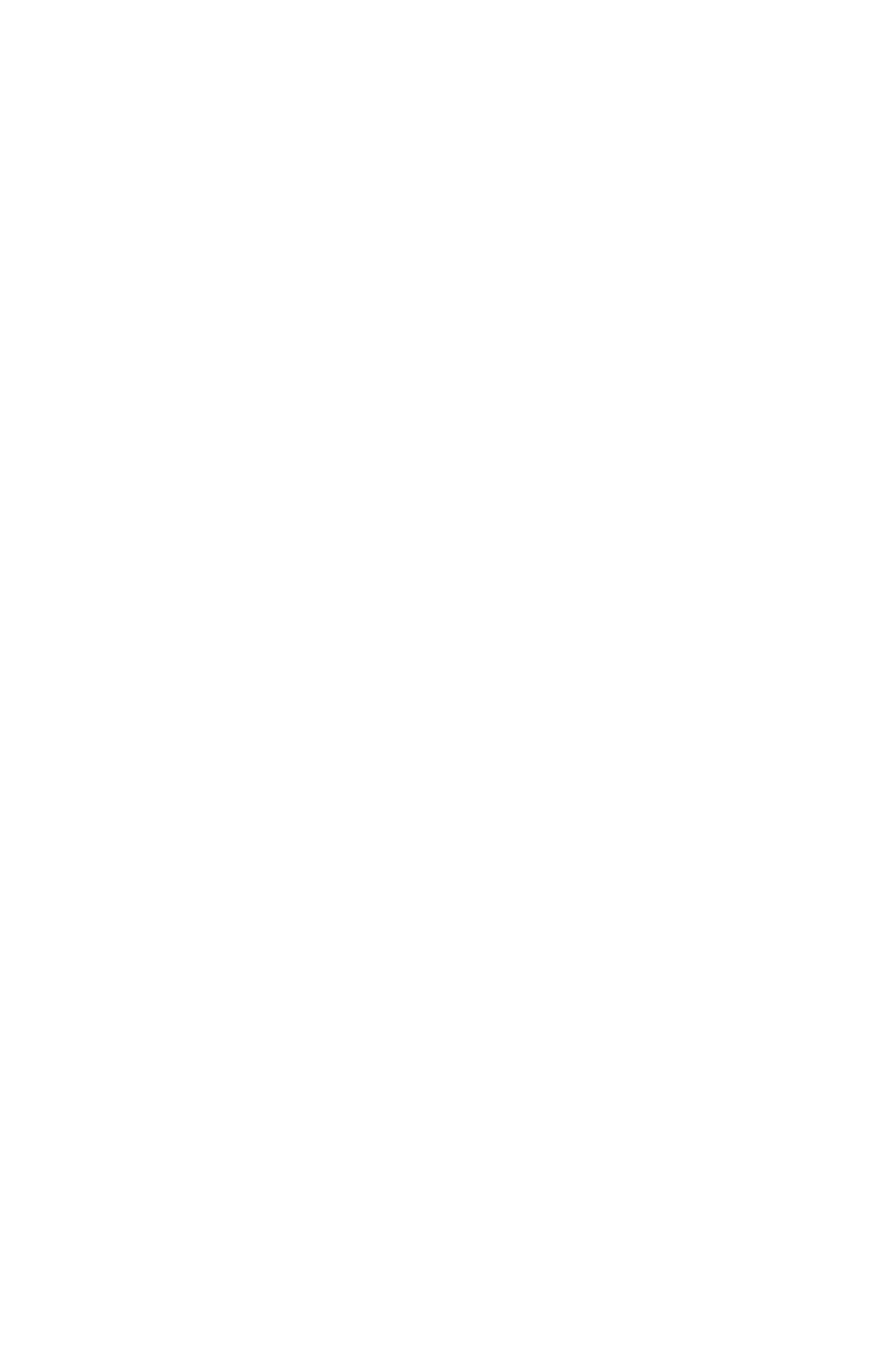
художника: опасности несоответствия внутреннего и внешнего, формы и неумещающегося в ней
содержания и опасности гиперчувствительности и преувеличенной нюансировки, бесконечного усложнения
средств выразительности без ясно прочерченного движения к определенной цели. Дар заразительности,
прямую передачу эмоций от творца к зрителю Далькроз считает величайшим даром обладания особым
видом энергии. «Я думаю, что коммуникативность наших эмоций сродни волновым процессам и является
порождением некоего шестого чувства, некоей нервной эссенции, обладающей способностью
распространения внутренних процессов вовне».
Музыкальное или драматическое произведение было для Далькро-за, в первую очередь, картиной
эмоциональных порывов (он вообще очень любит слово «порыв», означающий «телесность»,
пространственный образ чувства), в своем рождении содержащих максимум энергии, буквально
раздирающей телесную оболочку. Переход от зарождения порыва к его угасанию интересен Далькрозу
постольку, поскольку именно это движение подчиняется субъективному чувству ритма. Неприязнь к
конечным пунктам, (требующим точного соответствия внешнему ритму-метру) бросается в глаза в его
зарисовках упражнений: он стремится замкнуть движение в круг, закрутить в спираль. «Бесконечная
мелодия», но не по-вагнеровски мифически-грандиозная, а мелодия камерно-лирическая требовалась
Далькрозу для его пластических упражнений. Он очень хотел сотрудничать с Дебюсси, который не пошел
ему навстречу, впоследствии ему нравился Равель.
Заставить далькрозовскую систему работать на театр удалось его ученице Марии Рамбер, ставившей вместе
с Нижинским «Весну Священную» Стравинского. Впрочем, это великое произведение все же заплатило
свою дань эстетизации «стихии» и «стерло рефлексирующие лица», в полной мере выразив декадентское
дионисийство.
Мучительные и одновременно педантичные поиски гармонии между стихийностью и упорядоченностью —
характерная черта творческого темперамента и мировоззрения Далькроза. Сдержать эмоциональный порыв
в тот момент, когда он грозит разрушением, и наоборот, поддержать его, когда он ослабевает и не позволяет
завершить задуманное, — именно эти навыки он пытался воспитать в себе и учениках. Контроль воли
должен был поддержать слабеющий и усмирить слишком сильный и стихийный порыв. Действие
понималось им еще и как постепенное усиление рационального. Действие у него — это единство питающей
эмоции и сознательно завершенной формы.
В том образе танца, каким он виделся Далькрозу, невозможно было никакое скандирование, все
ритмические превращения в пространстве виделись ему очень плавными, льющимися, когда кульминация
— есте-
87
ственное завершение и начало следующего развития — не была в то же время неким «новым» качеством,
чем-то выпадающим из целого.
Пауза, по Далькрозу, — внутреннее действие, а не просто дань внешнему «метру». Далькроз умел выстроить
непрерывное действие, которое не распадалось бы на части из-за необходимых остановок. При этом
остановка или пауза служили у него временем внутреннего действия. «Когда звуки замирают и больше не
движутся, внешний ритм становится внутренним, а тишина, наступающая вслед за ними, продлевает их
жизнь в душе слушателя или исполнителя»
3>
.
Для Далькроза действовать ритмически значило выйти из одной точки и прибыть в другую, выбрав для
этого наилучший путь. Однако это не прямой путь. Прямые траектории движения он использует редко,
непосредственное давление темперамента, эмоциональная ограниченность, выражающаяся в напоре и
отсутствии нюансировки, им настойчиво преодолевались.
Мейерхольд критикует Далькроза, или, как он сам говорит, «даль-крозовщину», за пластические унисоны, за
то, что движение лишь иллюстрирует ритм. Впрочем, широта в понимании художественного значения
ритма, свойственная Далькрозу, вполне могла бы защитить его от противников. Далькроз искал спасения от
мнотонности наложения и дублирования в установлении канона между музыкой и телом, когда музыкальная
мелодия и тело ведут свои партии, не вступая в противоречивые и откровенно дисгармоничные отношения.
Этот канон представлялся ему золотой серединой между двумя крайностями — абсолютным наложением (т.
е. иллюстрацией) и абсолютным контрапунктом. Контрапункт как образ мышления, постоянное высекание
эмоций из лобового контраста противоположностей и вообще любая эмоциональная приподнятость
неясного происхождения — пугали Далькроза.
«Орфей и Эвридика» — спектакль, поставленный в Хеллерау в 1913 году, — как будто вобрал последние
остатки спокойных, плавных, льющихся ритмов европейской культуры. Это были ритмы печальных и
прекрасных грез.
Путь Орфея был отчеканен в образе лестницы. Ее многочисленные ступени являлись знаками предпринятых
им усилий.
Движение по восходящей и по нисходящей, то протагониста, то огромной волны, создаваемой массовкой,
этого оркестра человеческих жестов, то гремевшего во всю мощь, то полностью затихавшего, — один из
самых захватывающих образов этого спектакля. Тут возникло действительно живое пространство,
пространство накатывающих и разбивающихся волн.
3
'Jaques-Dalcroze E. La musique et nous, notes sur notre double vie. Geneves—Paris, 1981. P. 208-209.
В мерную медлительность финала этого спектакля, по-видимому, не вторгались эмоции протеста, нерв

борьбы и преодоления ослабевал. Последний дуэт Эвридики и Орфея сопровождался плавным погружением
сцены в темноту. Перед словами Эвридики «я умираю...» в глубине сцены падал голубой занавес, за ним
вскоре суждено было исчезнуть героине. Одинокий отныне Орфей спускался по лестнице. Финал возвращал
зрителя в начало спектакля: хор плакальщиц постепенно приближался к Орфею с двух сторон. «Кажется, мы
всего лишь грезили вместе с отчаявшимся Орфеем», — таков был вывод, предлагавшийся режиссером.
То же погружение в «сон», воспроизведение особого мира сна, грез, утешительных видений предпринял и
М. Рейнхардт.
Время, развитие действия в «Сне в летнюю ночь» — это время реальной и одновременно фантастической
жизни леса. Этот полный разнообразных движений лес современники описывали с помощью бесконечного
перечня глаголов: «Лес является (...) плодоносной почвой, из него здесь проистекает все, в нем все таится, в
него бежит все, в нем все запутывается, обретает себя, разрешается»
4
'.
Эльфы и духи этого леса движутся вместе с качающейся листвой, колеблются на ветру вместе с деревьями и
кустами. Фантастические персонажи живут в одном ритме с фантастическим лесом.
Люди же двигаются по этому лесу неуверенно, живут с ним в разном ритме. И сон, в который они
погружаются, — следствие усталости от блужданий, от обманчивой ясности природной жизни. «И только
сон, который укладывает их неведомо для них самих на мягкий мох, в то время как лунный свет медленно
исчезает, и только вдали сладостно и тихо возникает из глубины мендельсоновский ноктюрн, освобождает
их от всяких волнений и дает им возможность грезить до наступления ясного утра...»
5
'
Кульминащлей этого спектакля становится самая тихая точка драмы - погружение в сон. Шумное и
радостное пробуждение, высвобождение от лесного морока все же не было возвращением в реальность. Тем
более, что финал закольцовывал тему сна: «...злой путаник Пэк попытается убедить нас, с глазу на глаз,
выйдя перед занавесом, что мы грезили в течение трех часов»
6
'.
В постановке «Сна в летнюю ночь» 1905 года, а всего «Снов» у Рейнхардта было 13, включая голливудский
фильм середины 30-х, режиссер впервые использовал вращающийся круг и смог, таким образом, добиться
плавности ритма в изменениях сценического пространства.
4
' Цит. но: Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. М.—Л., 1939. С. 260.
5)
Там же. С. 261.
6>
Там же.
89
Рейнхардтовский мир рождался не из игры с ритмически острой состыковкой пространственных планов,
когда возможны одновременность нескольких «событий», разной глубины паузы между событиями, наплы-
вы одних событий на другие. Он воспользовался открытым в 1896 году новым театральным «механизмом» и
совершенствовался в сценическом претворении легкости «перелетов» из одного места в другое, той самой
легкости, которой не могли добиться до него мейнингенцы.
Хотя с мейнингенцами его очень сближало тяготение к картинно-феерической театральности, Рейнхардт
уже совсем иначе подходил к организации массовых сцен. Они строились не столько «живописно», сколько
ритмически. Важна была не индивидуализированная проработка лиц и окружающих их предметов, а сила
«коллективной эмоции». Именно эта сила и стала главной темой, и в тоже время, художественным приемом
в «Эдипе».
Хор в «Эдипе» сопровождал все события. Комментарии были самые разные — гул, стоны, вопли, резкие,
экспрессивные жесты. Кульминационные моменты в жизни героев отмечались особенно мощным
ударением: вся масса хора одновременно поворачивала головы и пристально смотрела в одну точку, на
героя, главное действующее лицо событий. Руки с мольбой протягивались дважды — сначала одна, затем
другая. Это было пластическое фортиссимо.
Ни одно движение, ни звуковое, ни пространственное, не начиналось и не прекращалось в этом хоре
внезапно. Звуковые «волны» прокатывались от передних групп хора к дальним. Рейнхардтовская толпа
прославилась именно кантиленной выразительностью. Никакое «возмущение» не было внезапным, все
начиналось и завершалось подготовлено. Пожалуй, эстетизация трагического мира Эдипа и выражалась у
Рейнхардта в этой музыкально-плавной динамике коллективного чувства. Вряд ли в него вторгалась какая-
либо дикая, дионисийская резкость.
Эдипа у Рейнхардта исполнял Моисеи, и именно в нем был другой, дионисийский полюс этого спектакля.
Там были резкие ритмы и грандиозные эмоциональные перепады. Герой, восставший против судьбы, и хор,
следящий за ее неуклонным исполнением, герой, действующий, и масса, созерцающая и сочувствующая, —
таковы два противоположных начала этого произведения.
Если в конце XIX века Аппиа в вагнеровских проектах надеется осуществить единение сцены и зала через
главного героя с помощью идентификации, через «вибрирование одним ритмом с героем», то уже в начале
XX века и Рейнхардт, и Далькроз заставляют зрителя влиться в толпу «хора», ощутить свои чувства частью
чувств коллективных. Погружение в море коллективного оказывается возможным с помощью ритма,
распевно-влекущего, плавно поддерживающего динамические ударения. Герои Гофмансталя—Софокла—
Рейнхардта никогда
90
не оставались на сцене одни, без присутствия народных волн. Эти волны сопровождали все
«кульминационные моменты диалога своими воплями и стонами, глухо доносящимися издалека». Концом
спектакля был таинственно угасающий возглас всей толпы: «Царь Эдип!»

Впечатление о музыкальности этого режиссерского творения осталось в России после показа «Эдипа» в
цирке Чинизелли: «Когда в самом начале представления загремело позади дворца tremolo ударных инстру-
ментов, и ему откликнулось такое же где-то в другой стороне; когда глухое сначала, это tremolo начало
разрастаться в длительном crescendo, и гром покатился под сводами цирка, и в нем точно зазвучали голоса
древнего неотвратимого рока; когда к этим зловещим раскатам неожиданно присоединились отчаянные
вопли, исходящие из многих уст и когда внезапно из всех трех проходов цирка на арену влетела толпа в 300
человек и, точно лава, точно волна морского прибоя, подкатилась к ступеням дворца, разлилась до первой
террасы и, рухнув на колени, сгрудившись плотной массой, застыла с протянутыми к небу руками, исторгая
из груди своей стон мольбы, — впечатление получилось единственное... экстатическое в высшей степени»
7
'.
За экстатические впечатления ратовал и Георг Фукс.
Он парадоксально сражается со сценической «иллюзией» и утверждает, что на самой сцене нет никакой
«второй реальности», она возникает лишь в сознании зрителя. Фукс хочет вернуть театру театральность, а
зрителя «ритмически» взвинтить до экстаза. И ищет максимально активных в своем воздействии, чисто
театральных, существующих помимо текста средств. «Просцениум является самой важной
архитектонической частью театра. Он выдвигает то пространство, где совершается таинство преображения
хаоса людей, вещей, шумов, тонов, света и тени в нечто духовно единое. На самой сцене нет этого единства,
этого художественного целого, нет ничего того, что переживает зритель... Только зритель испытывает
перевоплощение отдельных частей драмы в цельное и единое ритмическое явление, в художественную
картину, взятую в известной перспективе»
8
'.
Фукс не мыслит пространственной образности театра вне сложного, субъективного ритма творца «второй
реальности». Причем призрачность и открытая иллюзорность этой сценической реальности подчеркивается,
что называется, «с двойным усилением» именно тем, что она существует только в воспринимающем
сознании.
Тайная мечта творца второй реальности превратить личное чувство в коллективное, мечта о «соборности»
была высказана Фуксом
7
' Гастроли Дойче Театра под руководством М. Рсйнхардта // Ведомости. Спб., 27/Ш 1911.
8)
Фукс Г. Революция театра. Спб., 1911. С. 127.
91
с еще возможной в его время прямолинейностью: «Есть для нас какое-то необъяснимое упоение, когда мы
чувствуем себя толпой, единой толпой, движимой единым чувством»
9
'. Собственно эту одержимость толпы
единым чувством он и считает «экстазом». «Мы же выдвигаем на передний план оргиазм, экстаз всей
зрительской толпы, ибо на нем одном только и держится театральное зрелище, через него оно превращается
в искусство»
10
'.
К танцу Фукс относился очень философски, примерно в том же духе, что и российские теоретики
соборности. «Драматическое искусство, по существу своему, — это танец, ритмическое движение
человеческого тела в пространстве, творческий порыв к законченному, гармоническому слиянию с миром,
созерцаемому сквозь упоение экстаза...» "' Фукс предлагал драматургам принять в качестве исходного
импульса к творчеству «ритм телесных движений». И если Крэг решал «Гамлета» как борьбу героя с
враждебным пространством, то Фукс — мечтал, чтобы каждое слово, а затем движение действующих лиц
трагедии перетекало в танец. «Чем ближе к связному ритму танцевальных движений, тем совершеннее
творчество актера, хотя, при этом, он никогда не должен стать танцором в буквальном смысле слова (...)
Удивительный прообраз создал в этом направлении Шекспир своим Гамлетом, ибо сыграть эту роль с пол-
ным успехом — это значит дать исчерпывающее выражение духовного в чувственных формах танца.
Каждое слово Гамлета отражается волнами движений по всему его телу!»
|2)
Диалоги Гамлета с Офелией
Фукс называет менуэтом. Если Крэг ищет ключ режиссерской интерпертации «Гамлета» в
пространственной образности, то Фукс — во временной, ритмической.
Были в музыкальном мышлении Фукса и ницшеанские оттенки: «Через сознательное в произведение
искусства проходит дух случайного, пошлого, дух тяжелых земных условностей»
13
'.
Естественно, что Фуксу не близко оказалось натуралистическое внимание к психологии. Ведь именно
рефлексия, индивидуализирование прорисованная реальная психология больше всего мешает «единым
порывам», раскалывает «монолит» зрительской массы. Ее не создать средствами ритмо-пластики.
Свой «мир грез», свою «нежную мистерию» Мейерхольд пытался сделать из «Смерти Тентажиля»
Метерлинка, в 1905 году, в студии
*' Фукс Г. Революция театра. Спб., 1911. С. 15. ""Тамже. С. 22. "'Там же. С.76.
|2)
Тамже. С. 93.
|3)
Тамже. С. 97.
92
на Поварской. Удивительно, что этот спектакль замедленного ритма призрачной реальности пришелся на
канун бурного революционного взрыва (и из-за него пострадал, студия так и не была открыта). Так и
величаво-спокойный «Орфей» Далькроза пришелся на канун войны, и Институт ритмической гимнастики в
Хеллерау был вскоре закрыт.
Эти спектакли, оба — своего рода воплощение угрожающего замедления субъективного времени перед
дальнейшим катастрофическим ускорением времени «объективного» — исторического. Потусторонняя,
какая-то «высокогорная» разреженность времени ощущалась и в речи, и в мизансценах «Смерти
Тентажиля». Ей контрастировала тревожная музыка, провозглашавшая о тягостной «невозможности
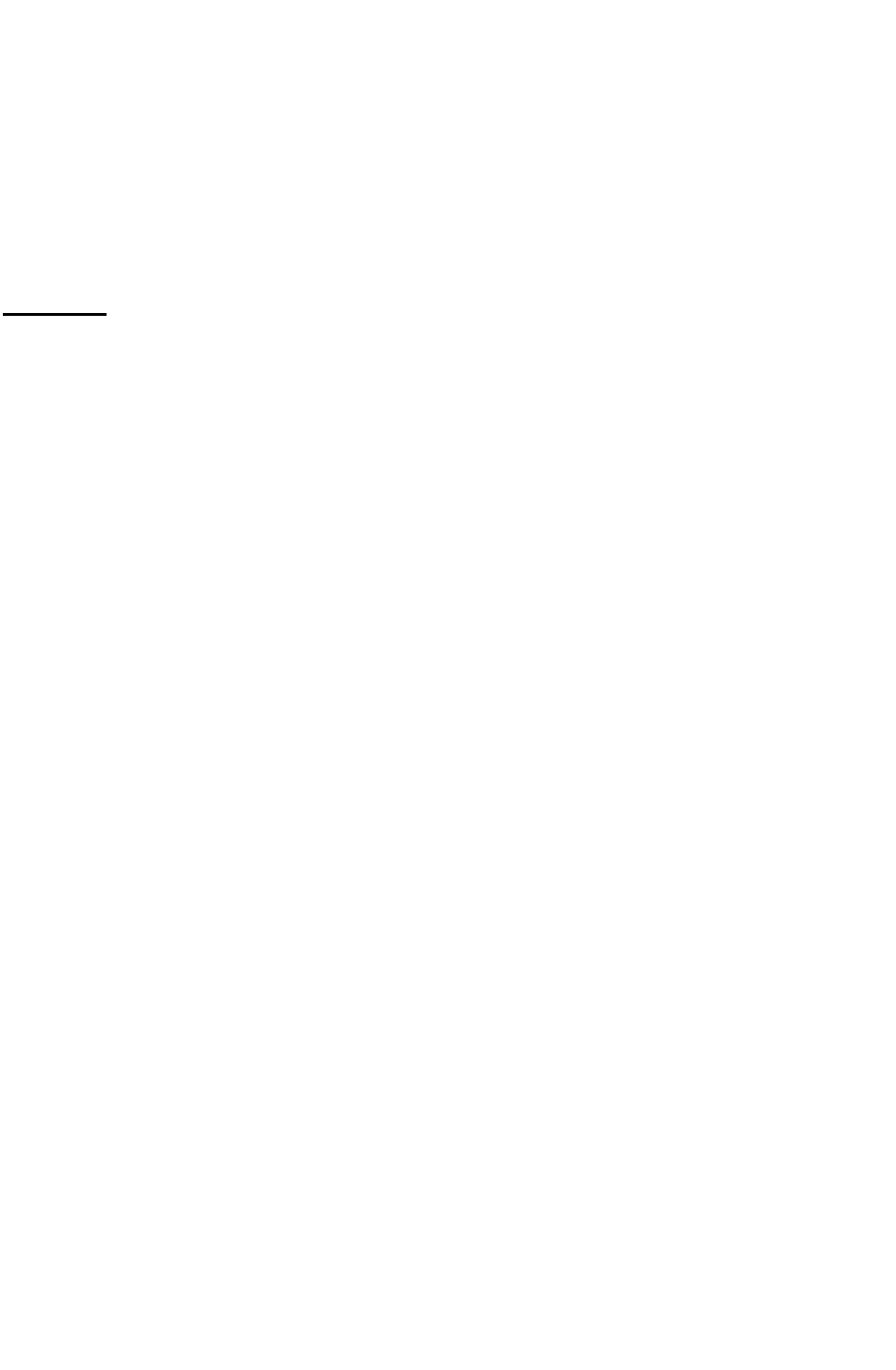
слияния в унисон». (Уже в это время Мейерхольд не любил наложений и музыкальных иллюстраций
настроения и приводил все средства сценической выразительности к контрапунктическим столкновениям.)
В волнах молчания скрывалась вся непроницаемая таинственность символистского мира. Диалоги режиссер
подчинил не задаче психологического самораскрытия героев, а ритмо-пластическим, картинным образам, и
потому превратил их в монологи. (Герои не столько общались между собой, сколько обращались к
неведомым потусторонним силам.) Эпически-спокойное, безэмоциональное чтение должно было, по замы-
слу, иметь «гипнотическое» действие, погружающее зрителя в своего рода «медитацию». Эта ритмически
размеренная речь то замирающих, то вновь оживающих «статуй» способна была заворожить и увлечь, по-
грузить в мир грез, когда кажется, что все, что видишь — видишь внутренним взором или, иначе говоря,
когда чужое видение становится «своим».
Тусклые краски, тусклый свет, к тому же все показывалось сквозь легкий тюль. Сумеречный свет — свет
самый неверный и способствующий видениям. Ритм и свет явились главными творцами грез. Станиславский
был раздражен тем, что не увидел лиц, и попросил включить свет.
Глава 5 Режиссерская идея
Если актерский театр XIX века видел целый мир в человеке, то нарождающийся режиссерский по-разному
интерпретировал отношения сценического персонажа с реальностью. Лирическое самораскрытие ро-
мантического героя уступило место «картинам жизни». И поскольку новый тип театральности уже не мог
довольствоваться только актерской выразительностью, актерским инструментарием старого театра, творцам
нового типа потребовалось осознать, какими еще средствами они располагают. А также, какие из этих
средств «сильнее» в утверждении бытийной несомненности сценического мира (второй реальности,
вырастающей ли из первой или являющейся субъективно опосредованным видением режиссера). Начальный
этап становления режиссерского театра нуждается в эстетической платформе, приобщенности к обще-
культурному движению (натурализм и символизм), в коллективном разуме «стиля», который и служит
оптическим прибором, организующем видение. Судьба героев, как у символистов, так и у натуралистов -
нечто с заранее известным исходом, поскольку авторы спектаклей имеют дело с объясненной,
истолкованной тем или иным образом реальностью. И это истолкование в идеале должно даже
предшествовать созданию драматического произведения (может быть, именно поэтому эти театры
предпочитали современную драму, которую легче истолковать в системе координат того или иного
художественного направления). Но как только режиссерское искусство высвобождается от конкретной
эстетической платформы и приверженности той или иной стилистической формуле, тут художественный
идеал приобретает уже более субъективный характер, и видение становится ярко субъективным. И либо
режиссер движется к откровенной демонстрации этого субъективного видения, либо ищет иных, не
стилистических способов его объективирования. Интересно, что для одних режиссеров «первая реальность»,
которую они интерпретируют, - драматическое произведение, для других - собственное прочтение этого
драматического произведения, для третьих эта «первая реальность» — сама жизнь, запечатленная в драме.
Одни обнаруживают реальное в субъективном образе, другие, напротив, усматривают символическое начало
в самой реальности. Одни стремятся к тому, чтобы зритель пережил субъективное видение постановщика
как свое собственное и все зрители «видели» одинаково (условный театр
94
с его тяготением к соборности), другие к тому, чтобы каждый зритель, как и в реальной жизни, «видел» свое
(психологический театр). Одних интересовали способы изменения «предлагаемых обстоятельств», сам факт
их вариативности в искусстве субъективного видения, других — нравственный выбор в данных
предлагаемых обстоятельствах.
Жизнь в искусстве понимается натуралистами как борьба за утверждение «экзистенциально» переживаемых
истин. Идеал для них — плод субъективного, но фактически-конкретного, а не визионерского жизненного
опыта. Антуан был не из тех людей, которые перелопачивают горы философской литературы, пытаясь,
таким образом, сформировать свое мировоззрение. Более того, его глубоко осознанное новаторство стран-
ным образом сочеталось с отсутствием какого бы то ни было мессианства. В случае Антуана мы имеем дело
именно с практиком, человеком, мыслившим почти исключительно в категориях возможного и отринувшим
вместе с романтическим пафосом и гиперболизмом сам романтический антропоцентризм. Но тут было бы
справедливо оговориться. Все же не многочисленные идеи социального усовершенствования, не вторичные
производные критического осмысления драматургии, то есть идеологические выводы, были стихией этого
режиссера. Он по-своему мечтал быть объективным, верил в то, что субъективное видение может быть
таким, и видел свою творческую задачу в формировании суммы тех или иных «реальных» предлагаемых
обстоятельств, стоящих за пьесой. Вырез из жизни отнюдь не был призывом, попыткой подтолкнуть своего
зрителя к чему-либо иному, кроме простой человечности или естественному возмущению конкретной
несправедливостью.
Только «Ткачей» ему хотелось видеть ярко бунтарским произведением, и он был не доволен тем, что они у
него прозвучали «преимущественно как крик отчаяния и нищеты», хотя «от акта к акту потрясенный зал не
прекращал вызовов» ".
Его «Ткачи» понравились Жоресу, который счел, что спектакль гораздо лучше политических компаний и
дискуссий, хотя сам был большим мастером и любителем этих дискуссий.

Свободный театр, тем не менее, начался с очень определенной художественной платформы, которая,
однако, лишь поначалу сводилась к формулам стиля. И пусковым толчком была «протестная идеология».
Антуан хотел, чтобы могли сказать свое слово литераторы его поколения, утвердиться молодые, никому
неизвестные драматические писатели, попасть на сценические подмостки новые герои, отличные от типажей
пьес «драматургов-монополистов» того времени Дюма-фиса, Сарду, Ожье.
. Дневники директора театра. М.-Л., 1939. С.232.
95
Эти новые герои возмущали и задевали даже «избранную» публику, подписывавшуюся по абонементу и
представлявшую примерно, что они могут увидеть у Антуана:
Режиссер выпустил на сцену мясников, палачей, осужденных на казнь, хирургов, проституток, беременных,
женщин, озабоченных проблемой аборта, маньячных ученых, разоряющих семью «безумными» опытами.
(Некоторые из этих персонажей населяли раньше многочисленные мелодрамы конца XIX века, но Антуан
увидел их иначе. Без свойственного всякой мелодраме романтического пафоса, трескучести страстей. Более
того, поскольку он стремился к объективному отражению жизненных фактов, и в этом смысле к «правде»,
он избегал и специфической мелодраматической дидактики.)
«Избыток» натурализма в спектаклях Антуана злил даже Золя, который пришел в неописуемый гнев после
просмотра небольшой пьески, с черным юмором повествующей о неудачной хирургической операции.
Вообще тема больницы, лечения, анатомирования весьма занимала режиссера, который впервые в
сценической истории воспроизвел обстановку и атмосферу больничной палаты, с койками и
разнообразными деталями больничного убранства. Режиссер как творец театральной реальности
формировал свой собственный, авторский круг тем, развивая и варьируя их от спектакля к спектаклю. Эти
темы у Антуана могли проводиться в различных стилистических регистрах. Режиссерское авторство
утверждалось через субъективный набор образов, через нравственные установки, наконец, через свою
манеру «провокации» зрителя.
За смелость предложения острых «фактов» Антуан расплачивался обвинениями в том, что он не брезгует
даже порнографией, за которую принимали его тщательно изготовленные программки с настоящими
рисунками хороших художников.
Пестрый поток литературы 80-х годов, от поэтов-парнасцев, до натуралистов-радикалов, который по
цензурным и другим причинам не находил пути на коммерческую и государственную сцены, обретал себе
пристанище в Свободном театре. Многие драматурги впоследствии «пристраивались», как с иронией и в то
же время с удовольствием замечал Антуан.
Ему всегда казалось, и это было почти суеверным убеждением, что его предприятие держится на плаву
только благодаря благородству помыслов. Репертуарная политика первых лет Свободного Театра была
сочетанием имен известных и новичков, натуралистов, романтиков, неоромантиков и даже символистов.
Из более или менее крупных имен, помимо Э. Золя, Антуану удалось заручиться поддержкой Э. де Гонкура,
К. Мендеса, Т. де Банвиля, А. Додэ, А. Бека.
96
Трогательными были мечты подступиться к знаменитому Ги де Мопассану и, конечно, велико было желание
поставить что-нибудь из его произведений. Но на это у режиссера не было средств, нечем было заплатить
столь «дорогому» автору.
Вообще визиты к драматургам и критикам крупных парижских изданий режиссер описывает в
трагикомическом жанре. То ему было дурно (от голода) в кабинете у Банвиля, от которого пахло каким-то
удивительно аппетитным сыром, то он отказался от похода на «важный» салонно-литературный вечер, так
как боялся, что «его засадят за рояль», то есть воспримут как развлекающую обслугу. В иерархии тогдашней
культурной жизни критик и литератор имели больший вес, нежели актер или режиссер. И это положение дел
Антуан настойчиво, хоть и незаметно, надеялся изменить.
Документализм его раннего режиссерского видения был, конечно, плодом честного самоограничения более,
нежели следствием того, что ему вовсе была чужда «художественность». И хотя он поставил уйму
полудокументальных зарисовок начинающих писателей, все же он хорошо понимал истинный
литературный вес инсценируемого творения. Ибсен, Толстой, Гауптман, Стриндберг, даже Э. По — все эти
авторы впервые появились во французском театре благодаря Антуану. Впрочем, Ибсена ему принес Золя,
которого беспокоил переизбыток «жестоких» и «грубых» кусков из жизни социального дна.
Удивительным кажется большой интерес к творчеству Э. По, и интерес именно театрально окрашенный со
стороны двух таких разных современников, как Антуан и Дебюсси. Один — натуралист — в план первого
же манифестного сезона включает произведение Э. По. Другой, в поисках сюжета для оперы, сюжета,
который бы не «отдавал едой и домашними туфлями», обращается по тому же адресу.
Как режиссер, стремящийся освоить широкий спектр современной литературы, Антуан не удовлетворяется
чисто драматургическими произведениями и много работает с инсценировками. И даже, как впоследствии
это было сделано в Художественном театре, выводит на сцену чтеца (и сам играет этого чтеца) в одной из
своих постановок эпического толка. Именно практика Свободного Театра демонстрирует, что инсценировки
прозаических текстов, с длинными авторскими описаниями и комментариями, возможны и, собственно,
необходимы именно в «режиссерском» театре. Когда есть в театре некая единая воля, находящая прозе тот
или иной «театральный» эквивалент, переводя ее частично в визуальную форму.

Возникнув, режиссер, сразу принимается «читать» и воспринимать драматические, и даже прозаические
тексты, вещи сами по себе законченные и воплощенные, как материал для воплощения, то есть нечто
незавершенное, незаполненное, как губку, зияющую пустотами, кото-
рые стремятся что-то впитать. Антуан обнаруживает пустоты, которые можно заполнить сценическими
образами, усиливающими жизненность в ее обыденной и отвлеченной от лирического чувства
«истинности».
Итак, режиссер сначала прочитывает пьесу как документ, некий протокол жизненного фрагмента. Исходит
из безусловной для него предпосылки: автор все видит так, как оно есть. Режиссерская задача — вернуть
литературный набросок жизненного впечатления в лоно реальности, остов облечь плотью, развернуть
пространство, время, свет, звук, движение. Единственное искушение режиссера-натуралиста — стремление
к сгущению жизненности. В созданиях Антуана возникала доля того, что потом будет называться
гиперреализмом. Но еще не было и речи об искажении формы ради полноты жизни. Сгущенность,
концентрированность того или иного образа еще не взрывали его жизнеподобную форму.
Спектакли Свободного Театра — это в подавляющем числе докуме-тальные «срезы». Но в лучших
драматических произведениях Антуану удавался органический сплав реального и натурального с
обобщенно-символическим. Именно таким было его исполнение роли Освальда в «Привидениях». В самом
ужасающе-гротескном изображении «разложения» и «гниения» этого человека было уже что-то чуть
гиперреалистическое.
Режиссер как будто принимает последовательную дегероизацию человека, которую можно обнаружить у
некоторых авторов «новой драмы» (и не только натуралистической). Ему требуется «ансамбль» или худо-
жественно организованная массовка. Выразителем автора уже не может быть один голос, один актер. Герой-
протагонист более не возвышается над окружением. Человек выступает как часть массы, а актер — почти
как единица массовки. Но сразу оговоримся, режиссерское многоголосие совсем необязательно и совсем не
во всех случаях — коллектив голосов. В одном из лучших творений Свободного Театра в каком то смысле
сохраняется центростремительная структура старо-романтического спектакля. Хотя, переродившись, она
служит целям режиссерского сюжета. Антуан по-режиссерски осмыслил в образе Освальда из ибсенов-ских
«Привидений» сам героизм романтического театра, вернее, его невозможность, его истекающий век.
Освальд — центральная фигура, итог и конечный вывод из летописи жизни своего рода.
Создав свой вариант интерпретации этой роли, Антуан первым делом расправился с «избранностью» героя,
с его претензиями на владение «романтическим божеством» - свободной волей. Режиссер воспользовался
натуралистической идеей и, как положено, плохая наследственность стала виной распада личности,
физического недуга. Дурное поведение предков предрешило судьбу Освальда еще до рождения, и какими
бы ни были его личные духовные и интеллектуальные возможности — им не дано реализоваться.
98
Жуткий образ этого Освальда запечатлен в одной из рецензий: «Это был человек, в котором тление уже
выело всю сердцевину и в котором только тонкий покров скрывает нечистое содержимое. Его члены больше
не подчинялись его воле, лицо у него было синеватое и одутловатое, глаза потухшие или неподвижно
уставившиеся в одну точку, лепет вместо речи. У Антуана была манера волочить и переставлять ноги,
судорожно шевелить пальцами, которую можно встретить у алкоголиков и которая действовала со всей
брутальной резкостью электрического освещения»
2)
. Финальные слова бедного неудавшегося художника
«солнце, солнце» звучали в устах Антуана как бессмысленное бормотание утратившего рассудок человека,
чье сумасшествие лишено какого бы то ни было поэтического флера и предстает в физиологически
отвратительной наглядности.
Соединение жестокого натурализма и поэтичнейшего экстаза, по-видимому, получилось у Антуана именно
в этой роли. И, в сущности, не так уж удивительно, что подобное соединение двух крайностей в актерском
существовании было свойственно и артистам староклассической школы в их лучших созданиях этого
времени. Таковы были Федра Сары Бернар и Эдип Муне-Сюлли. Однако актеры относились к своим
созданиям без дистанции, открыто лирически.
В роли Федры Сара Бернар сумела продемонстрировать публике, что для нее нет ничего невозможного в
изображении душевных терзаний героини. Она исключительно точно показывала цикличность страсти:
когда страдания достигали высшей точки, актриса пускала в ход металлически напряженные оттенки своего
голоса, резкие и угловатые жесты оживали в экстатическом напряжении мышц. Когда же энергия иссякала,
и силы покидали Федру, Сара Бернар давала картину пластического онемения, болезненной вялости и
«бесхребетности» раздавленного божественной волей человека. Минуты ясности рассудка сменялись у этой
Федры почти вакхическим безумием, которое было гораздо ближе к дио-нисийским увлечениям конца XIX
века, нежели к классицистским и даже романтическим канонам. Именно в роли Федры Саре Бернар удалось
соединить сценические каноны классицизма, как бы через голову выдохшейся романтической традиции с
только зарождающимися новыми художественными средствами актерского искусства следующего века.
Монументальный и классически ясный характер Эдипа в исполнении Муне-Сюлли был колеблем теми же
волнами дионисийского буйства.
Зрители заметили нервную экстатическую дрожь в теле прекрасной статуи — Эдипа — когда у него
возникли ужасные подозрения. В финале актер даже допустил «грубый» натурализм, показав Эдипа с
залитым кровью лицом.

2)
Hansson Ola. Die Gespenter in Paris // Freic Buhne. 1890. № 18. P. 500.
99
Муне-Сюлли играл различные этапы «падения» героя, который с роковой предопределенностью двигался от
величавого олимпийского спокойствия, статуарной красоты и разумной ясности к полному крушению
великой личности. Следует добавить, что он невольно сыграл не только судьбу Эдипа, но и судьбу стиля,
борьбу с «историческим роком», а также грядущее угасание великой сценической традиции, частью которой
он был.
Так или иначе, режиссеры разных стилистических пристрастий обнаруживали стремление к созданию
особого «мира» на сцене, в подражание ли реальному, или в отрицание его.
Макса Рейнхардта современники называли то Магом, то Волшебником, то Профессором (и все с большой
буквы). Режиссер удивительной плодовитости и всеядности ставил с равным успехом современные и
классические произведения, символистов и натуралистов. Он тяготел к мистериальному охвату
действительности и в своих самых крупных творениях главным сюжетом сценического действия делал
отношения героя и толпы, индивидуальной судьбы и коллективной воли.
«Эдип» Муне-Сюлли и «Эдип» Рейнхардта различаются прежде всего тем, что в одном главное
действующее лицо — трагический герой, в другом действующих лиц двое — это герой и хор. Один
спектакль представлял собой развернутый монолог, другой — диалог.
Иное дело, что у хора был свой дирижер, и коллективное чувство было не чем иным, как многократно
усиленным лирическим чувством постановщика. Это растворение личного чувства в коллективном и было
способом его объективировать. По Рейнхардтовски.
Исключительно изощренными и продуманными были средства увеличения масштаба, грандиозности
людского моря, внимающего и отзывающегося на перипетии отдельной судьбы.
Режиссер разработал все возможные средства усиления «гипнотического» действия этой массы.
Основываясь на художественном видении Рембрандта, он стирал индивидуальные черты людей,
составляющих толпу по мере удаления от переднего плана, главного места действия. Чем ближе к «лобному
месту», к переднему плану, где разыгрывается трагическая судьба индивидуума, тем более индивидуальны
лица тех, кто составляет хор, народ. Чем дальше, тем туманнее лица, вторичнее чувства, сильнее
механически-моторная зависимость от коллективной воли. Рейнхард находил и оригинальное звуковое
решение многотысячно-сти толп, гула истории. Реплики хора поддерживались и продлевались низким
гудением органа. Режиссер строил речевую партитуру хора по законам музыкальной композиции, с
многообразными динамическими оттенками, подготовленными всплесками и затуханиями. Сами реплики,
подчас грешившие монотонностью скандирования, распределялись по группам и звучали, соответственно, с
различного удаления
100
от переднего плана. Иногда эти речевые партии решались как канон, иногда, в соответствии с сюжетом,
сливались в унисон.
В одних спектаклях хор становился у Рейнхардта действующим лицом, в других — резонатором,
усилителем индивидуальных чувств. Но так или иначе, режиссерский театр Рейнхардта не мыслим без этого
резонирующего коллективного начала, многократно усиливающего чувства самого художника-творца,
творца, получившего искусительную возможность говорить не от себя как субъекта, а от коллективного
лица.
Индивидуальность Рейнхардта, пожалуй, состояла в том, что он создал тип режиссерского театра, легко
вбирающего искусство актеров старой школы, более того, его актеры, воспитанные им самим, были плоть от
плоти романтического искусства. Режиссер оживляет уже ветхий и обессилевший к середине столетия
пафос свободной игровой стихии творчества. Театр по мысли Рейнхардта жив старой романтической
потребностью все переиграть, во все вжиться, ни на минуту не забывая о собственном лицедействе. «Я верю
в бессмертие театра, ибо верю в бессмертие актера (...)
Он в одно и то же время скульптор и статуя, он на границе реального и мечты и как бы стоит одной ногой в
одном, а другой — в другом мире. Сила самовнушения в актере так велика, что далеко выходит за пределы
психического и способна вызывать физические изменения в теле... Он, по словам Шекспира, меняется в
лице, меняет положение и весь свой внешний вид, совершенно перевоплощается для того, чтобы, оплакивая
смерть Гекубы, заставить других оплакивать ее. Актер ранит себя каждый вечер и кровью исходит из
тысячи ран, которые открывает его фантазия»
3)
.
Таким образом, Рейнхардт помещает романтического актера в новую художественную среду, созданную
режиссерским видением. Эта среда — созданный режиссером образ определенного места действия,
отзывающееся на потрясения героя коллективное, хоровое начало. И в пейзаже, и в ритмо-пластике хора
важнейшее значение приобретают те смысловые ударения, выделения и подчеркивания, которые
соответствуют режиссерскому видению реальности, того мира, в котором действует лирический герой. То,
что режиссер строит свою вторую реальность через пейзаж и хор, доказывает постоянно используемый им
прием «деинди-видуализации второстепенного». Режиссерская воля лепит визуальный образ, постоянно
выделяя одни детали и стирая другие, вводит жесткую иерархию в мире вещей. Основной акцент картины,
ритмические ударения, цветовое и тембральное решения, все это в театре Рейнхардта — производные
режиссерского видения, причем видения, которому уже не служат опорой какие бы то ни было

стилистические платформы.
3)
Рейнхардт Макс. Искусство. 1929. №3-4. С. 61-65.
101
В 1906 году Рейнхард ставит в бывшем танцевальном зале «Эмберг» «Привидения» Г. Ибсена и решает этот
спектакль как камерную, интимно-психологическую драму. Пространство этого спектакля, созданное
Эдвардом Мунком, было размытым, неопределенным, телесно-розового цвета. В центре возвышалось — как
черная, зловеще инфернальная глыба — причудливое кресло, которое должно поглотить главного героя.
Мир был увиден режиссером глазами главного действующего лица, болезненным взглядом распадающегося
сознания художника-декадента.
Если Антуан интерпретировал Освальда, как бы удерживая значительное расстояние между собой и
образом, стремясь дать его объективный портрет, нарисовав его с чуткостью доктора, то Моисеи это
расстояние существенно сократил.
Отнюдь не случайным выглядит рейнхардтовский выбор двух таких творческих величин, как Моисеи и
Мунк для сценической интерпретации «Привидений». Он берет пьесу в расчете на актера с очень острой и
определенной лирической темой. Точный творческий портрет актера, созданный Юлиусом Бабом, отмечает
эти «освальдовские» черты: «в самой природе Моисеи примешаны мрачные и темные силы, и они овевают
его фигуру как бы неким ореолом тления. Это женственно нежное тело, этот нервный вибрирующий голос
как бы напоминает об упадке старой благородной семьи. Размягченность!»
4
'
Весь странный набор определений, строящихся на сочетании несочетаемого, таких как «титаническая
нервность», «элементарно дикая утонченность», которыми награждали актера, могли быть отнесены и к его
персонажу, несчастному художнику декаденту, влекомому его «мощным темпераментом» к падению.
Вокруг этого трагика-лирика Рейнхардт соткал особую атмосферу. Мир распадался в «уродливых видениях»
на фоне мунковского воспаленно-розового цвета.
Новый режиссерский театр воплощал как бы двойное видение, когда на героя взирают и извне и изнутри
одновременно, его субъективно-лирический портрет дает актер, объективную, общую картину «упадочной
эпохи, которая в страхе, неверии и сомнении уничтожает старые ценности, разлагает старые чувства, тоскуя
по новым...» рисуют режиссер и художник.
Рейнхардту и Моисеи удалось в совместной работе то, что не удалось Крэгу с Дузе и Мейерхольду с
Комиссаржевской. Соединение лирико-романтического актерского искусства «нутра» с режиссерским
искусством создания второй реальности.
'Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. М.—Л., 1939. С. 285.
102
Парадоксально, но режиссерскому театру Рейнхардта не требовались актеры нового типа, наоборот он умел
найти и приспособить к иным задачам старый вековечный тип. Ему нужен был «фанатический изобразитель
людей, обуреваемый жаждой перевоплощения». При этом не столь уж важно, культурен он, или нет,
чувствует ли со всей возможной тонкостью драматурга. Режиссера прельщал актерский тип прошлого —
«дикая, необузданная, бродячая натура».
Моисеи, этого актера из семейства трагиков начала XIX столетия, в котором, впрочем, уже не было
«монолитности» и мощи ранних романтиков, рейнхардтовский театр превратил в создателя галереи со-
временных неврастеников.
В интимно-психологических «Привидениях» режиссер выступил волшебником-дирижером, исключительно
точно подобравшим краски и тембры для создания своей «реальности», особого настроения конца века.
Моисеи был здесь именно такой краской. Стоит обратить внимание на то, что этим спектаклем открывался
совершенно особый театр, «для избранной публики», художественной элиты. И сколько среди зрителей
было подобных Освальдов, неврастеников и декадентов.
Рейнхардт был не столь крупным «волшебником» и визионером, как Рихард Вагнер, которого тоже
называли Мастером, Клингзором, и т. п. Рубеж XIX-XX вв. оказался тем временем, когда по остроумному
выражению одного французского критика «гигантская тень Р. Вагнера нависла над артистической
Европой». Немало художников попадало в область этой гигантской тени. Именно Вагнер возделал почву
для тех, кто хотел противопоставить себя натуралистическому искусству.
Композитор создал и воплотил в жизнь идеологическую и художественную доктрину, принципиально
отторгающую посторонние воздействия. В этом проявилась оборотная сторона его универсализма.
Объединив в своем лице драматурга, музыканта и режиссера, Вагнер создал как объективные условия для
исполнения своих опер, так и жесткий канон этого исполнения.
Аппиа решает стать реформатором постановочного стиля вагнеров-ской драмы, приспособить вагнеровский
мир для собственных видений. Тем более, что эти видения решительно не дают ему спокойно жить.
Могучие образы германской мифологии теснятся в его воображении, лихорадочно-нескончаемые мелодии
проникают в подсознание, вызывают почти болезненные галлюцинации. Хрупкий, небольшого роста,
сильно заикающийся человек, наделенный женственной экзальтированностью и чувствительностью, Аппиа
живет в мире могучих вагнеровских героев, зигмундов и зигфридов. Художник буквально опрокинут
грандиозностью вагнеровского мира, мощью и жизненной силой этой второй реальности. Трагический
парадокс: Аппиа, отказывающий слову в способности выразить до конца внутреннюю, духовную жизнь,
вынужден пользовать-
103
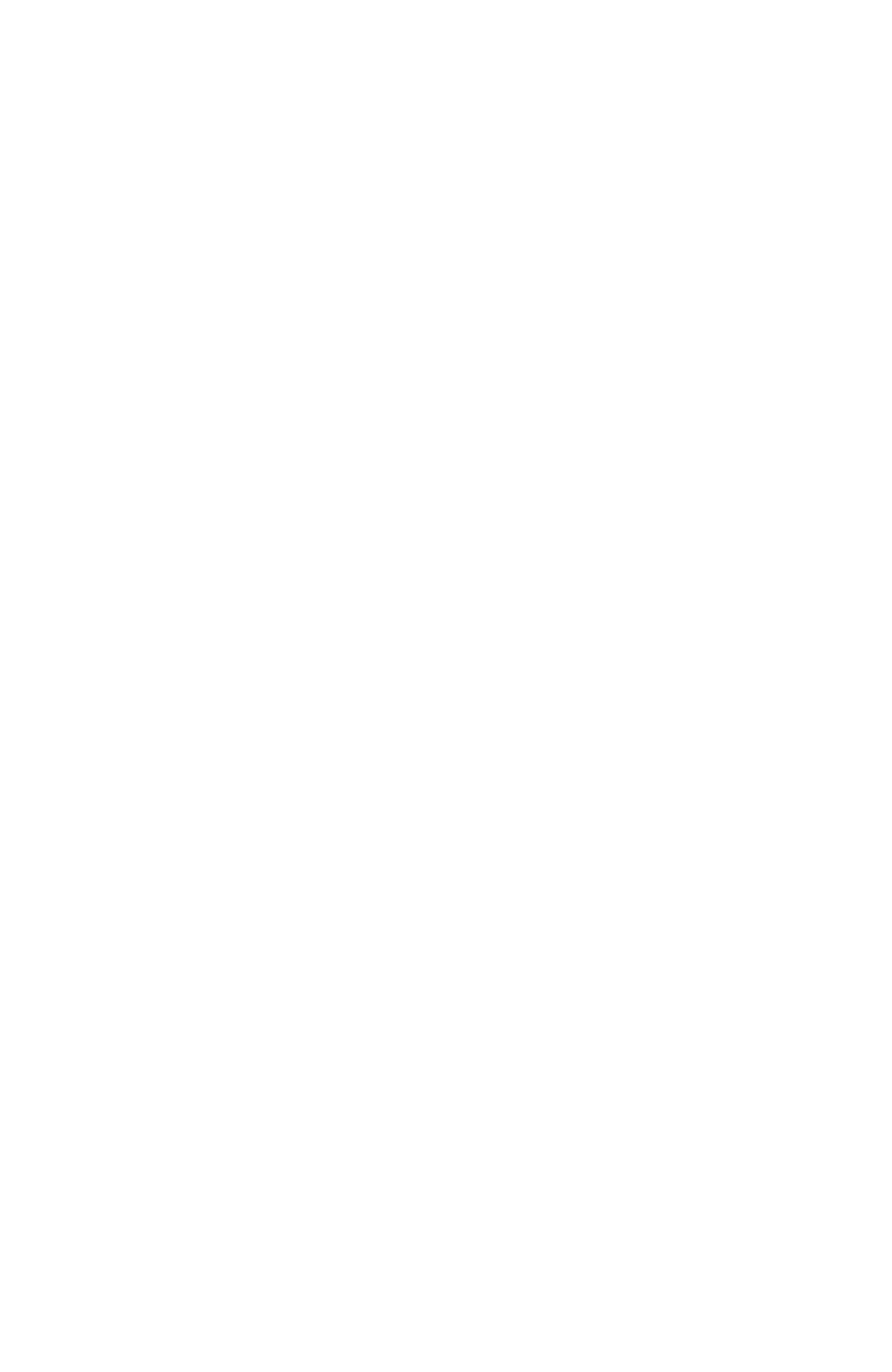
ся именно словом для создания своих театральных образов. Своеобразное многозначительное косноязычие
его текстов — результат недоверия к слову музыканта-визионера.
Режиссер как будто простукивает каменную кладку драматического произведения. Он ищет, где плотно и
заполнено и где слышатся пустоты, и, соответственно, решает, в каком месте сюжет становится неизбежной
формой, а в каком появляется пространство для фантазии постановщика.
Исходная предпосылка режиссерских рассуждений Аппиа такова: постановка, визуальная форма драмы не
находится во власти драматурга, и именно эта особенность театрального искусства порождает его
недостатки. В отсутствие режиссера.
Аппиа режиссерскую функцию для себя именует «регулирующим принципом». Однако он как будто
страшится признать, что драма, по сути, целиком оказывается во власти постановщика, и надеется обрести в
самой драме, в ее формальном строении некий универсальный ключ ко всякой возможной ее театральной
интерпретации. По мысли Аппиа, этот ключ должен быть в руках драматурга, и этим ключом должна стать
музыка, шире ритмическое строение текста. Аппиа близок к концепции Ницше о происхождении трагедии
«из духа музыки».
Режиссерский сюжет Аппиа — противопоставление «знака» и «выразительности» — определяет его
интерпретаторские поиски. Задачей режиссера он считает сведение до минимума знаковых элементов спек-
такля, ориентирующих зрителя в происходящем, и расширение числа выразительных элементов,
разворачивающих на сцене туман визионерских образов, настроений, ритмов.
Вагнер изображает человека двойственным. С одной стороны, он — духовное существо, и через дух
неподвластен природе, независим, имеет свободную волю. А с другой — именно этот дуализм человека
определяет его трагедию. Космос Вагнера иерархически упорядочен. На нижней ступени — простые
смертные, действующие по предначертанию высших сил и не имеющие своей воли, на второй — герои,
осуществляющие свободу выбора, преодолевающие трагическую конечность своего существования
поступками, независимыми или противоречащими замыслам богов, на третьей ступени — боги, но и над
ними, в свою очередь, стоит некая необходимость, роковой закон, стихийные силы природы.
Ощущение катастрофичности мирового развития, свойственное Вагнеру, многократно обостряется у Аппиа.
Пространственный образ финала тетралогии, нарисованный Аппиа, достигает поистине апокалиптического
масштаба. Однако художник со своеобразным оптимизмом совмещает образы конца и начала, набрасывает
покров таинственности на истинный исход событий, делает финальную точку столь грандиозного сюжета
двусмысленной. В финале сценария «Кольца Нибелунга», когда уже все люди, боги и герои, наконец,
уничтожены двумя первоначальны-
104
ми, примитивными стихиями, водой и огнем, над всем торжествует Air — воздух, атмосфера, дух. Аппиа
подчеркивает, что взгляд зрителя должен быть растворен в сценической картине таким образом, чтобы
никакая деталь в отдельности не останавливала на себе этот взгляд. Только общая атмосфера картины
должна внушать идею глобальной катастрофы.
Аппиа смотрит на Вагнера как бы с некоей дистанции. И принципиально иначе понимает, что такое миф.
Для Вагнера мифологическая реальность — начало человеческой истории, пролог к истории народа,
определяющий ее судьбу. Для Аппиа миф — прежде всего иная реальность, другой мир, мир пророчеств,
символов, отражающих вечные, вневременные конфликты. Для Вагнера была важна историчность мифа,
хотя он и протестует своей оперной реформой против жанра исторической оперы итальянского и
французского образца. Для Аппиа же важнее космогоническая суть мифа.
Принципиальная разница подходов Вагнера и Аппиа состоит в том, что один ставит мифологический сюжет,
сопровождаемый музыкой, а другой — собственно музыку. Аппиа приходит к этому решению, неотрывно
взирая на мир вагнеровских опер, в которых музыка не только вбирает некоторые драматические функции,
но и энергически узурпирует их. В этой музыке внутреннее действие (или картина духовной жизни),
выраженное средствами классической допрограммной симфонии типа Бетховенской, сменяется активным
внешним действием, разработанным средствами программной симфонической музыки. С театральной точки
зрения и сама программность Вагнера совершенно особенного качества, она не столько описательна,
сколько действенна. Визуальность в этой музыке очень сильна, именно поэтому у композитора так
могущественна роль оркестра и так драматичны и конфликтны отношения вокальных и оркестровых партий.
В то же время в либретто у Вагнера прослеживается ослабление драматического элемента. Его тексты —
скорее эпическое повествование, нежели собственно драма. Именно на эту особенность вагнеровского
творчества косвенно указывает Аппиа, когда говорит о том, что хочет ставить музыку.
Если в ранних работах Аппиа основную идею произведения призвана воплотить картина мира, созданная
художником, то в поздних работах он видит актера носителем этой главной мысли. Поэтому Аппиа и
начинает интересоваться разговорной драмой, в особенности такой, где есть герой титанического размаха.
(Этот новый шаг он сделал уже после •«массовых» действ в Хеллерау, где их с Далькрозом интересовал
коллективный герой — хор и его «пластические эволюции».)
Аппиа все больше и больше проникается мыслью о том, что искусство театра основывается на единственной
реальности — присутствии живого человека. Для него реальность нарисованного места действия и
реальность человеческого присутствия несовместимы. Но главенство
105
