Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии
Подождите немного. Документ загружается.

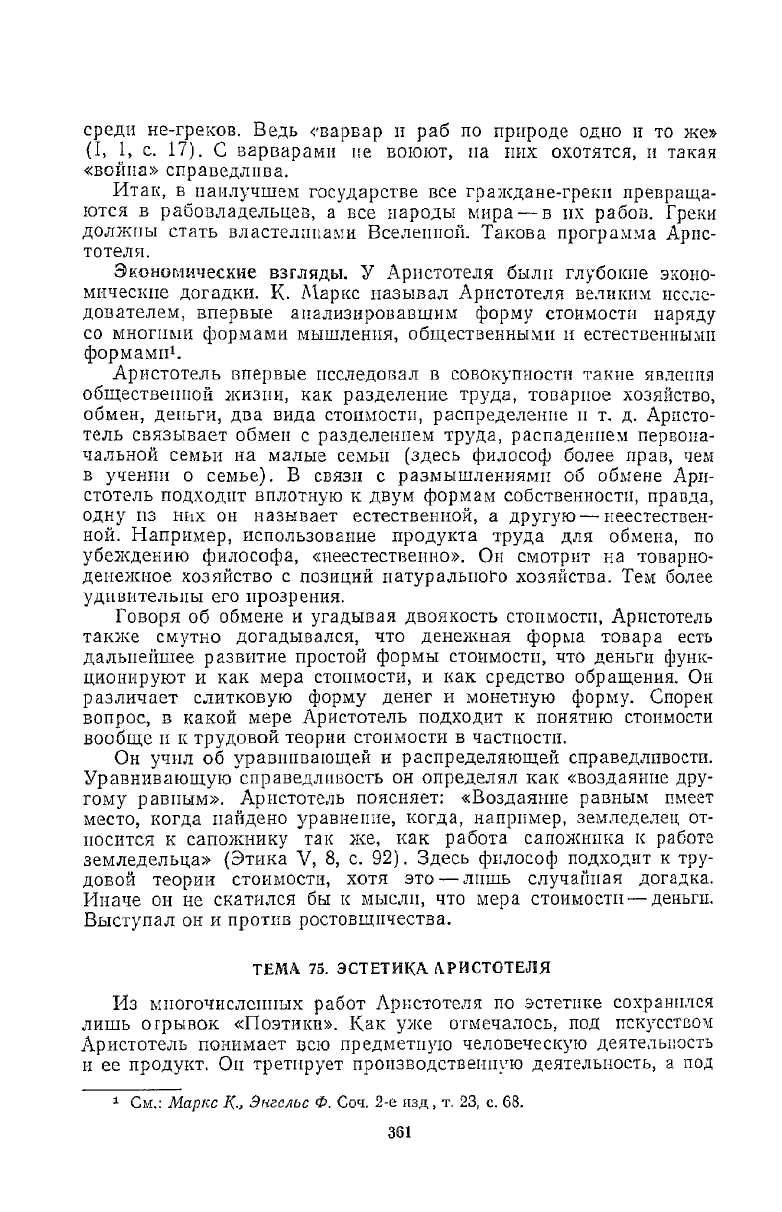
среди не-греков.
Ведь
<-варвар и раб по природе одно и то же»
(I,
1, с. 17). С варварами ие воюют, на них охотятся, и такая
«война»
справедлива.
Итак,
в наилучшем
государстве
все граждане-греки превраща-
ются в рабовладельцев, а все народы мира — в их рабов. Греки
должны стать властелинами Вселенной. Такова программа Арис-
тотеля.
Экономические
взгляды. У Аристотеля были глубокие
эконо-
мические догадки. К. Маркс называл Аристотеля великим иссле-
дователем, впервые анализировавшим форму стоимости наряду
со многими формами мышления, общественными и естественными
формами
1
.
Аристотель впервые исследовал в совокупности такие явления
общественной жизни, как разделение
труда,
товарное хозяйство,
обмен,
деньги, два вида стоимости, распределение и т. д. Аристо-
тель связывает обмен с разделением
труда,
распадением первона-
чальной семьи на малые семьи (здесь философ более прав, чем
в
учении о семье). В связи с размышлениями об обмене Ари-
стотель подходит вплотную к
двум
формам собственности, правда,
одну из них он называет естественной, а
другую
— неестествен-
ной.
Например, использование продукта
труда
для обмена, по
убеждению философа, «неестественно». Он смотрит на товарно-
денежное хозяйство с позиций натурального хозяйства. Тем более
удивительны его прозрения.
Говоря об обмене и угадывая двоякость стоимости, Аристотель
также смутно догадывался, что денежная форма товара есть
дальнейшее развитие простой формы стоимости, что деньги функ-
ционируют и как мера стоимости, и как средство обращения. Он
различает слитковую форму денег и монетную форму. Спорен
вопрос,
в какой мере Аристотель подходит к понятию стоимости
вообще и к трудовой теории стоимости в частности.
Он
учил об уравнивающей и распределяющей справедливости.
Уравнивающую справедливость он определял как «воздаяние дру-
гому равным». Аристотель поясняет: «Воздаяние равным имеет
место, когда найдено уравнение, когда, например, земледелец от-
носится
к сапожнику так же, как работа сапожника к работе
земледельца» (Этика V, 8, с. 92). Здесь философ подходит к тру-
довой теории стоимости, хотя это — лишь случайная догадка.
Иначе
он не скатился бы к мысли, что мера стоимости — деньги.
Выступал он и против ростовщичества.
ТЕМА 75. ЭСТЕТИКА АРИСТОТЕЛЯ
Из
многочисленных работ Аристотеля по эстетике сохранился
лишь
отрывок «Поэтики». Как уже отмечалось, под искусством
Аристотель понимает всю предметную человеческую деятельность
и
ее продукт. Он третирует производственную деятельность, а под
1
См.:
Маркс
К.-,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд, т. 23, с. 68.
361
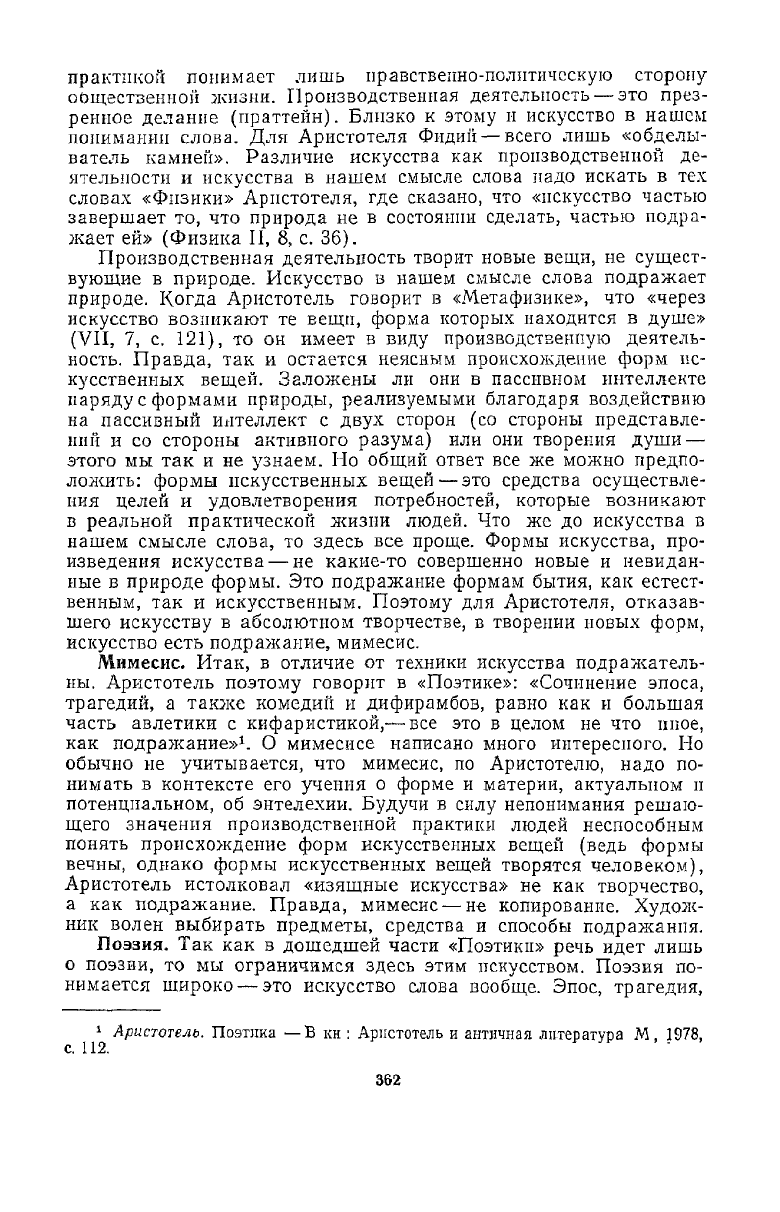
практикой
понимает лишь нравственно-политическую сторону
общественной жизни. Производственная деятельность — это през-
ренное
делание (праттейн). Близко к этому и искусство в нашем
понимании
слова. Для Аристотеля Фидий — всего лишь «обделы-
ватель камней». Различие искусства как производственной де-
ятельности и искусства в нашем смысле слова надо искать в тех
словах «Физики» Аристотеля, где сказано, что «искусство частью
завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подра-
жает ей» (Физика II, 8, с. 36).
Производственная
деятельность творит новые вещи, не сущест-
вующие в природе. Искусство в нашем смысле слова подражает
природе. Когда Аристотель говорит в «Метафизике», что
«через
искусство возникают те вещп, форма которых находится в
душе»
(VII, 7, с. 121), то он имеет в виду производственную деятель-
ность.
Правда, так и остается неясным происхождение форм ис-
кусственных вещей. Заложены ли они в пассивном интеллекте
наряду с формами природы, реализуемыми благодаря воздействию
на
пассивный интеллект с
двух
сторон (со стороны представле-
ний
и со стороны активного разума) или они творения души —
этого мы так и не узнаем. По общий ответ все же можно предпо-
ложить: формы искусственных вещей — это средства осуществле-
ния
целей и удовлетворения потребностей, которые возникают
в
реальной практической жизни людей. Что же до искусства в
нашем
смысле слова, то здесь все проще. Формы искусства, про-
изведения искусства — не какие-то совершенно новые и невидан-
ные
в природе формы. Это подражание формам бытия, как естест-
венным,
так и искусственным. Поэтому для Аристотеля, отказав-
шего искусству в абсолютном творчестве, в творении новых форм,
искусство есть подражание, мимесис.
Мимесис.
Итак, в отличие от техники искусства подражатель-
ны.
Аристотель поэтому говорит в «Поэтике»: «Сочинение эпоса,
трагедий, а также комедий и дифирамбов, равно как и большая
часть авлетики с кифаристикой,—все это в целом не что иное,
как
подражание»
1
. О мимесисе написано много интересного. Но
обычно не учитывается, что мимесис, по Аристотелю, надо по-
нимать
в контексте его учения о форме и материи, актуальном и
потенциальном,
об энтелехии. Будучи в силу непонимания решаю-
щего значения производственной практики людей неспособным
понять
происхождение форм искусственных вещей (ведь формы
вечны,
однако формы искусственных вещей творятся человеком),
Аристотель истолковал «изящные искусства» не как творчество,
а как подражание. Правда, мимесис — не копирование.
Худож-
ник
волен выбирать предметы, средства и способы подражания.
Поэзия.
Так как в дошедшей части «Поэтики» речь идет лишь
о
поэзии, то мы ограничимся здесь этим искусством.
Поэзия
по-
нимается
широко — это искусство слова вообще. Эпос, трагедия,
1
Аристотель.
Поэтика —В кн : Аристотель и античная литература М, 1978,
с. 112.
362
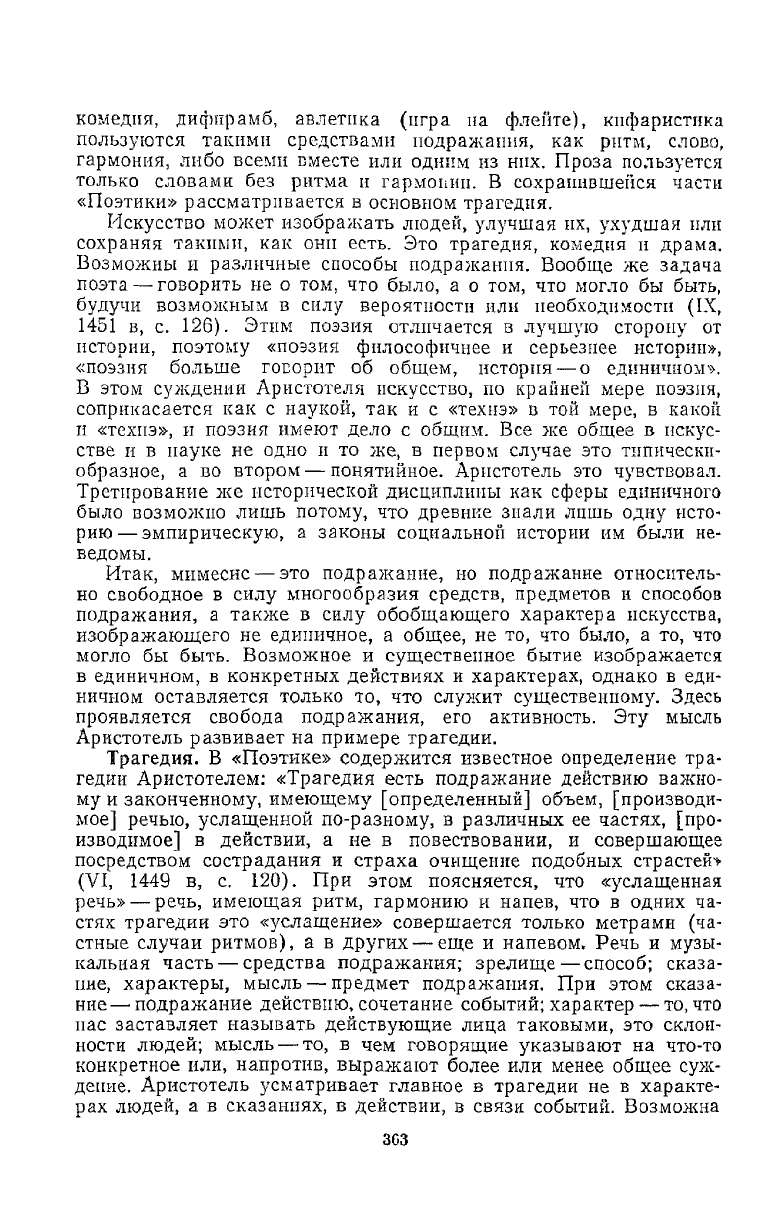
комедия,
дифирамб, авлетпка (игра на флейте), кпфаристика
пользуются такими средствами подражания, как ритм, слово,
гармония,
либо всеми вместе или одним из них. Проза пользуется
только словами без ритма и гармонии. В сохранившейся части
«Поэтики» рассматривается в основном трагедия.
Искусство может изображать людей, улучшая их,
ухудшая
или
сохраняя такими, как они есть. Это трагедия, комедия и драма.
Возможны и различные способы подражания. Вообще же задача
поэта
— говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть,
будучи
возможным в силу вероятности или необходимости (IX,
1451 в, с. 126). Этим поэзия отличается в
лучшую
сторону от
истории,
поэтому «поэзия философичнее и серьезнее истории»,
«поэзия больше говорит об общем, история — о единичном-».
В этом суждении Аристотеля искусство, по крайней мере
поэзия,
соприкасается как с наукой, так и с
«технэ»
в той мере, в какой
и
«технэ»,
и поэзия имеют дело с общим. Все же общее в искус-
стве и в науке не одно и то же, в первом
случае
это типически-
образное,
а во втором — понятийное. Аристотель это чувствовал.
Третирование же исторической дисциплины как сферы единичного
было возможно лишь потому, что древние знали лишь одну исто-
рию—
эмпирическую, а законы социальной истории им были не-
ведомы.
Итак,
мимесис — это подражание, но подражание относитель-
но
свободное в силу многообразия средств, предметов и способов
подражания,
а также в силу обобщающего характера искусства,
изображающего не единичное, а общее, не то, что было, а то, что
могло бы быть. Возможное и существенное бытие изображается
в
единичном, в конкретных действиях и характерах, однако в еди-
ничном
оставляется только то, что служит существенному. Здесь
проявляется свобода подражания, его активность. Эту мысль
Аристотель развивает на примере трагедии.
Трагедия. В «Поэтике» содержится известное определение тра-
гедии Аристотелем: «Трагедия есть подражание действию важно-
му и законченному, имеющему [определенный] объем, [производи-
мое] речью, услащенной по-разному, в различных ее частях, [про-
изводимое] в действии, а не в повествовании, и совершающее
посредством сострадания и
страха
очищение подобных страстей>
(VI, 1449 в, с. 120). При этом поясняется, что «услащенная
речь»
— речь, имеющая ритм, гармонию и напев, что в одних ча-
стях трагедии это
«услащение»
совершается только метрами (ча-
стные случаи ритмов), а в
других
— еще и напевом. Речь и музы-
кальная
часть — средства подражания; зрелище — способ; сказа-
ние,
характеры, мысль — предмет подражания. При этом сказа-
ние—
подражание действию, сочетание событий; характер — то, что
нас
заставляет называть действующие лица таковыми, это склон-
ности
людей; мысль — то, в чем говорящие указывают на что-то
конкретное
или, напротив, выражают более или менее общее суж-
дение.
Аристотель усматривает главное в трагедии не в характе-
рах людей, а в сказаниях, в действии, в связи событий. Возможна
303

трагедия и без характеров, но невозможна трагедия без дейст-
вия—
«начало и как бы
душа
трагедии — именно сказание,
и
[только] во
вторую
очередь — характеры-) (VI, 1450 а, с. 122).
Активность мимесиса в трагедии выражается в том, что там
производится тщательный отбор для изображаемых действий
с той целью, чтобы трагедия была целостна, а для этого филосо-
фом
определяется объем трагедии, подчеркивается необходилюсть
единства действия, указывается динамика развития трагического
действия, различается завязка и развязка; в центре трагедии —
«.перипетеа»
— превращение делаемого в свою противоположность,
перелом, связываемый с узнаванием как переходом от незнания
к
знанию, меняющим всю жизнь трагического героя от лучшего
к
худшему
и приводящим его к гибели.
Катарсис.
Согласно Аристотелю, трагедия состраданием и стра-
хом очищает подобные эмоции. А они вызываются именно выше-
названным
переломом. В
«Эдипе»
Софокла вестник приходит объ-
явить
Эдипу, кто на самом
деле
Эдип, и тем избавить его от
страха,
но достигается противоположное. При этом страх может
быть вызван в зрителе такой ситуацией, когда трагический герой
не
слишком сильно превосходит зрителя, ибо страх зрителя — это
страх за подобного себе. Сострадание же зритель может испыты-
вать лишь к незаслуженно страдающему герою, поэтому в тра-
гедии перемены и перелом в
судьбе
героя должны происходить
не
от несчастья к счастью и не из-за порочности трагического
лица,
а из-за «большой ошибки». Только так,
думает
Аристотель,
действие может вызвать в
душах
зрителя страх (трепет) и со-
страдание— только путем отождествления себя с героем. Поэт
в
трагедии доставляет зрителям удовольствие — это
«удовольст-
вие от сострадания и
страха
через подражание им» (XIV, 1453 в,
с. 133).
Это-то действие трагедии на зрителей и характеризуется как
очищение
— катарсис. К сожалению, Аристотель не раскрывает
этого подробнее, хотя и обещает, но пояснение до нас не дошло.
Аристотелевский трагический катарсис породил массу гипотез.
Наиболее вероятно то, что трагическое действие, заставляя слу-
шателей переживать страх и сострадание, встряхивает их души
и
освобождает их от скрытых внутренних напряжений. Но суще-
ствуют
и
другие
истолкования катарсиса.
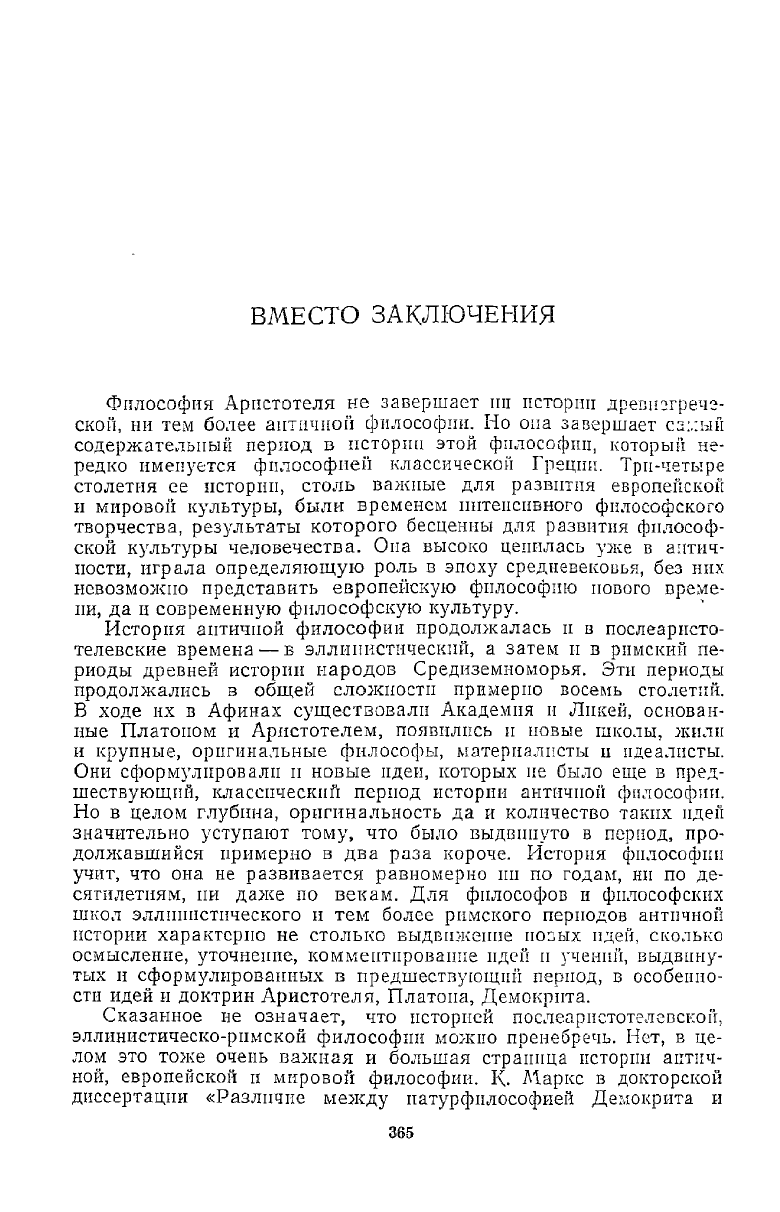
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Философия
Аристотеля не завершает ни истории древнегрече-
ской,
ни тем более античной философии. Но она завершает самый
содержательный период в истории этой философии, который не-
редко именуется философией классической Греции. Три-четыре
столетия ее истории, столь важные для развития европейской
и
мировой
культуры,
были временем интенсивного философского
творчества,
результаты
которого бесценны для развития философ-
ской
культуры
человечества. Она высоко ценилась уже в антич-
ности,
играла определяющую роль в эпоху средневековья, без них
невозможно представить европейскую философию нового време-
ни,
да и современную философскую
культуру.
История
античной философии продолжалась и в послеаристо-
телевские времена — в эллинистический, а затем и в римский пе-
риоды древней истории народов Средиземноморья. Эти периоды
продолжались в общей сложности примерно восемь столетий.
В
ходе
их в Афинах существовали Академия и Ликей, основан-
ные Платоном и Аристотелем, появились и новые школы, жили
и
крупные, оригинальные философы, материалисты и идеалисты.
Они
сформулировали и новые идеи, которых не было еще в пред-
шествующий, классический период истории античной философии.
Но
в целом глубина, оригинальность да и количество таких идей
значительно
уступают
тому,
что было выдвинуто в период, про-
должавшийся примерно в два раза короче. История философии
учит,
что она не развивается равномерно пи по годам, ни по де-
сятилетиям, ни
даже
по векам. Для философов и философских
школ эллинистического и тем более римского периодов античной
истории характерно не столько выдвижение нозых идей, сколько
осмысление, уточнение, комментирование идей и учений, выдвину-
тых и сформулированных в предшествующий период, в особенно-
сти идей и доктрин Аристотеля, Платона, Демокрита.
Сказанное
не означает, что историей послеаристотелевской,
эллинистическо-рнмекой философии можно пренебречь. Нет, в це-
лом это
тоже
очень важная и большая страница истории антич-
ной,
европейской и мировой философии. 1\. Маркс в докторской
диссертации «Различие
между
натурфилософией Демокрита и
365
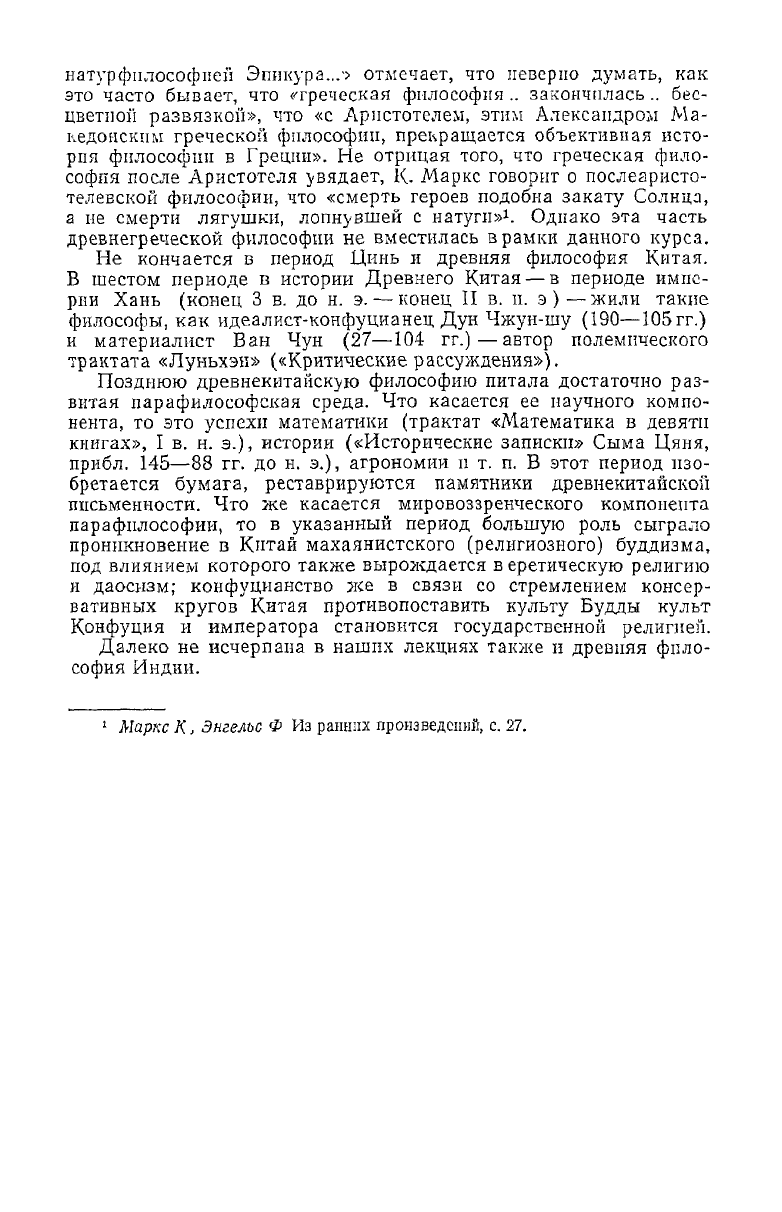
натурфилософией Эпикура...-> отмечает, что неверно
думать,
как
это
часто бывает, что «греческая философия.. закончилась .. бес-
цветной развязкой», что «с Аристотелем, этим Александром Ма-
кедонским
греческой философии, прекращается объективная исто-
рия
философии в Греции». Не отрицая того, что греческая фило-
софия
после Аристотеля \вядает, К.. Маркс говорит о послеаристо-
телевской философии, что «смерть героев подобна закату Солнца,
а не смерти лягушки, лопнувшей с натуги»
1
. Однако эта часть
древнегреческой философии не вместилась в рамки данного курса.
Не
кончается в период
Цинь
и древняя философия Китая.
В шестом периоде в истории Древнего Китая — в периоде импе-
рии
Хань (конец 3 в. до н. э. — конец II в. п. э ) •— жили такие
философы,
как идеалист-конфуцианец Дун Чжун-шу
(190—105
гг.)
и
материалист Ван Чун
(27—104
гг.)—автор полемического
трактата
«Луньхэн»
(«Критические рассуждения»).
Позднюю древнекитайскую философию питала достаточно раз-
витая парафилософская среда. Что касается ее научного компо-
нента,
то это успехи математики (трактат «Математика в девяти
книгах», I в. н. э.), истории («Исторические записки» Сыма
Цяня,
прибл.
145—88
гг. до н. э.), агрономии п т. п. В этот период изо-
бретается
бумага,
реставрируются памятники древнекитайской
письменности.
Что же касается мировоззренческого компонента
парафшюсофии,
то в указанный период большую роль сыграло
проникновение
в Китай махаянистского (религиозного) буддизма,
под влиянием которого также вырождается в еретическую религию
и
даосизм; конфуцианство же в связи со стремлением консер-
вативных кругов Китая противопоставить
культу
Будды культ
Конфуция
и императора становится государственной религией.
Далеко не исчерпана в наших лекциях также и древняя фило-
софия
Индии.
1
Маркс
К,
Энгельс
Ф Из ранних произведений, с. 27.

ЛИТЕРАТУРА
Маркс К.,
Энгельс
Ф. Немецкая идеология. — Соч. 2-е изд , т. 3.
Маркс К.,
Энгельс
Ф. Манифест Коммунистической партии. — Соч. 2-е
изд, т. 4.
Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией;
Эпикура. —Маркс К-,
Энгельс
Ф. Из ранних произведений. М, 1956.
Маркс К. Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической фило-
софии.—
Маркс К.,
Энгельс
Ф. Из ранних произведений. М, 1956.
Маркс К. Капитал, т. I. — Маркс К.,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 23.
Энгельс
Ф. Развитие социализма от утопии к науке. — Маркс К.,
Энгельс
Ф.
Соч.
2-е изд., т. 19.
Энгельс
Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К.,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
Энгельс
Ф. Диалектика природы.—Маркс К-,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
Энгельс
Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. —
Маркс К-,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 21.
Энгельс
Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.—
Маркс
К,.,
Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 21.
Ленин
В. П. Материализм и эмпириокритицизм. — Поли. собр. соч., т. 18.
Ленин
В. И. Философские тетради. — Поли. собр. соч., т. 29.
-•
Аристотель.
Политика. Пер. Н. Скворцова. М., 1865; 2-е изд. М., 1893.'
Редкий П. Г. Из лекций П. Г. Редкииа по истории философии права в связи
с историей философии вообще, 7 томов. СПб., 1889—1891.
Виндельбанд
В. История древней философии. СПб., 1893. Авторнз. пер. со
2-го нем. изд. М., 1911.
Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. Пер. с франц. С.-Петербург,
1902.
Трубецкой С. Н. История древней философии. Лекции, читанные на историко-
филологическом ф-те императорского Моск. ун-та и на Высших женских курсах
в
1902—1903
гг. М., 1903.
Филиппов
М. М. История философии с древнейших времен. Собр. соч., т. I.
СПб.,
1903; 2-е изд. СПб., 1910.
Трубецкой С. Н. История древней философии, 2 части. М.,
1906—1908.
Браш
М. Классики философии. Пер. с нем. СПб., 1907.
' Этика Аристотеля. Пер. с греч. Э. Радлова. С.-Петербург, 1908.
Зелинский Ф. Соперники христианства. Ст. по истории античных религий.
2-е изд. С.-Петербург, 1910.
-
Гераклит
Эфесский.
Фрагменты. «О природе». Пер. с древиегреч. Нелендер.
М, 1910.
Филиппов.
М. М. История философии с древнейших времен. С.-Петербург,
1911.
1
Далее литература приводится в хронологическом порядке ее публикации,
на
русском языке. — Авт.
367
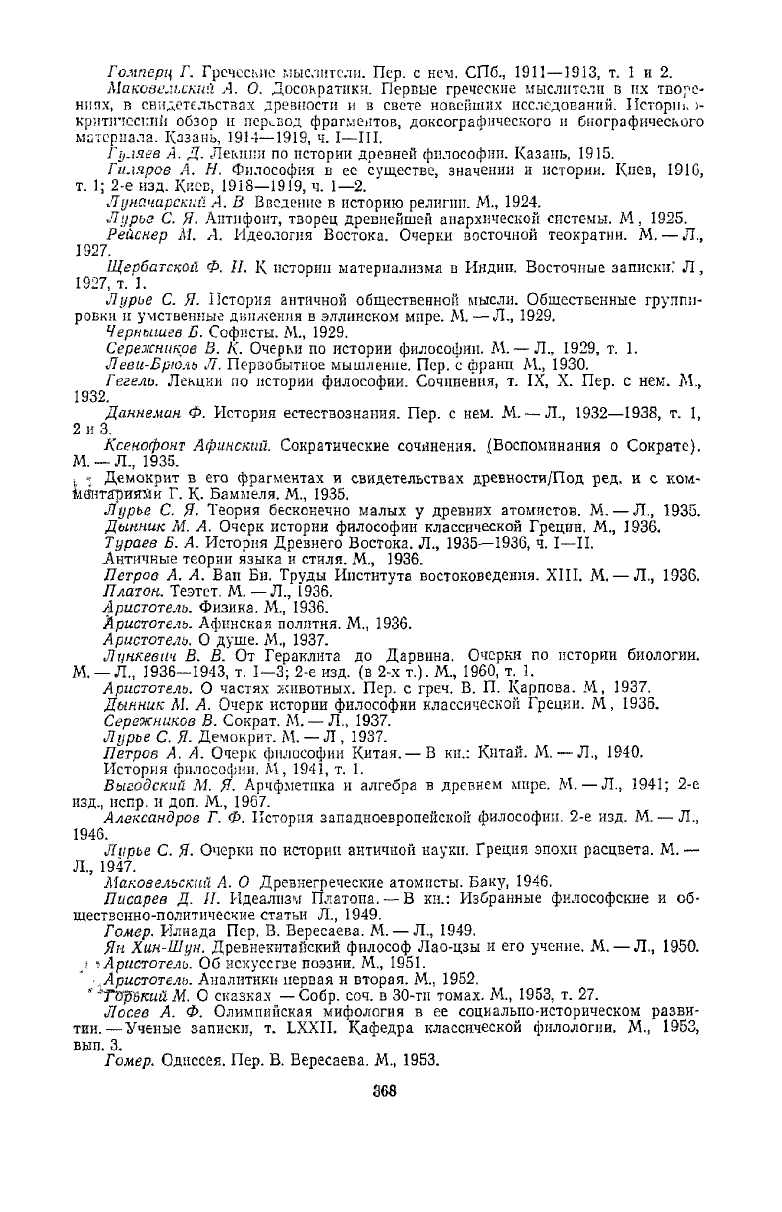
Гомперц
Г. Греческие мыслители. Пер. с нем. СПб.,
1911—1913,
т. 1 и 2.
Маковсльский
А. О. Досократики. Первые греческие мыслители в их творе-
ниях,
в свидетельствах древности и в свете новейших исследований. Исторт, >-
критический
обзор и перевод фрагментов, доксографнческого и биографического
материала. Казань,
1914—1919,
ч.
I—III.
Гуляев
А. Д. Лекции по истории древней философии. Казань, 1915.
Гиляров
А. Н. Философия в ее существе, значении и истории. Киев, 191G,
т. 1; 2-е изд. Киев,
1918—1919,
ч. 1—2.
Луначарский
А. В Введение в историю религии. М., 1924.
Лурье
С. Я- Антифонт, творец древнейшей анархической системы. М , 1925.
Рейснер
М. А. Идеология Востока. Очерки восточной теократии. М.—Л.,
1927.
Щербатской
Ф. II. К истории материализма в Индии. Восточные записки.' Л,
1927, т.'1.
Лурье
С. Я- История античной общественной мысли. Общественные группи-
ровки
и умственные движения в эллинском мире. М. — Л., 1929.
Чернышев
Б. Софисты. М„ 1929.
Сережникрв
В. К. Очерки по истории философии. М. — Л., 1929, т. 1.
Леви-Брюль
Л. Первобытное мышление. Пер. с франц М., 1930.
Гегель.
Лекции по истории философии. Сочинения, т. IX, X. Пер. с нем. М.,
1932.
Даннемин
Ф. История естествознания. Пер. с нем. М. — Л.,
1932—1938,
т. 1,
2 и 3.
Ксенофонт
Афинский.
Сократические сочинения. (Воспоминания о Сократе).
М. — Л., 1935.
t
i Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности/Под ред. и с ком-
Ьзнтяринйи
Г. К- Баммеля. М., 1935.
Лурье
С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М. — Л., 1935.
Дынник
М. А. Очерк истории философии классической Греции. М., 1936.
Тураев
Б. А. История Древнего Востока. Л.,
1935—1936,
ч.
I—II.
Античные теории языка и стиля. М., 1936.
Петров
А. А. Ван Би.
Труды
Института востоковедения. XIII. М. — Л., 1936.
Платон. Теэтст. М. — Л., 1936.
Аристотель.
Физика. М., 1936.
Аристотель.
Афинская полития. М., 1936.
Аристотель.
О душе. М., 1937.
Лцнкевич
В. В. От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биологии.
М. — Л.,
1936—1943,
т. 1—3; 2-е изд. (в 2-х т.). М., 1960, тЛ.
Аристотель.
О частях животных. Пер. с греч. В. П. Карпова. М, 1937.
Дынник
М. А. Очерк истории философии классической Греции. М, 1936.
Сережников
В. Сократ. М. — Л., 1937.
Лурье
С. Я- Демокрит. М. — Л , 1937.
Петров
А. А. Очерк философии Китая. — В кн.: Китай. М. — Л., 1940.
История
философии. М, 1941, т. 1.
Выгодский
М. Я- Арифметика и алгебра в древнем мире. М. — Л., 1941; 2-е
изд., испр. и доп. М., 1967.
Александров
Г. Ф. История западноевропейской философии. 2-е изд. М. •— Л.,
1946.
Лурье
С. Я- Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета. М. —
Л., 1947.
Маковельскип
А. О Древнегреческие атомисты. Баку, 1946.
Писарев
Д. II. Идеализм Платона. — В кн.: Избранные философские и об-
щественно-политические статьи Л., 1949.
Гомер.
Илиада Пер. В. Вересаева. М. — Л., 1949.
Ян
Хин-Шун.
Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.—Л., 1950.
j
'1
Аристотель.
Об искусстве поэзии. М., 1951.
•
^Аристотель.
Аналитики первая и вторая. М., 1952.
"^ТЩЪкийМ.
О сказках —Собр. соч. в 30-тн томах. М., 1953, т. 27.
Лосев
А. Ф. Олимпийская мифология в ее социально-историческом разви-
тии.—
Ученые записки, т.
LXXII.
Кафедра классической филологии. М, 1953,
вып.
3.
Гомер.
Одиссея. Пер. В. Вересаева. М., 1953.
368
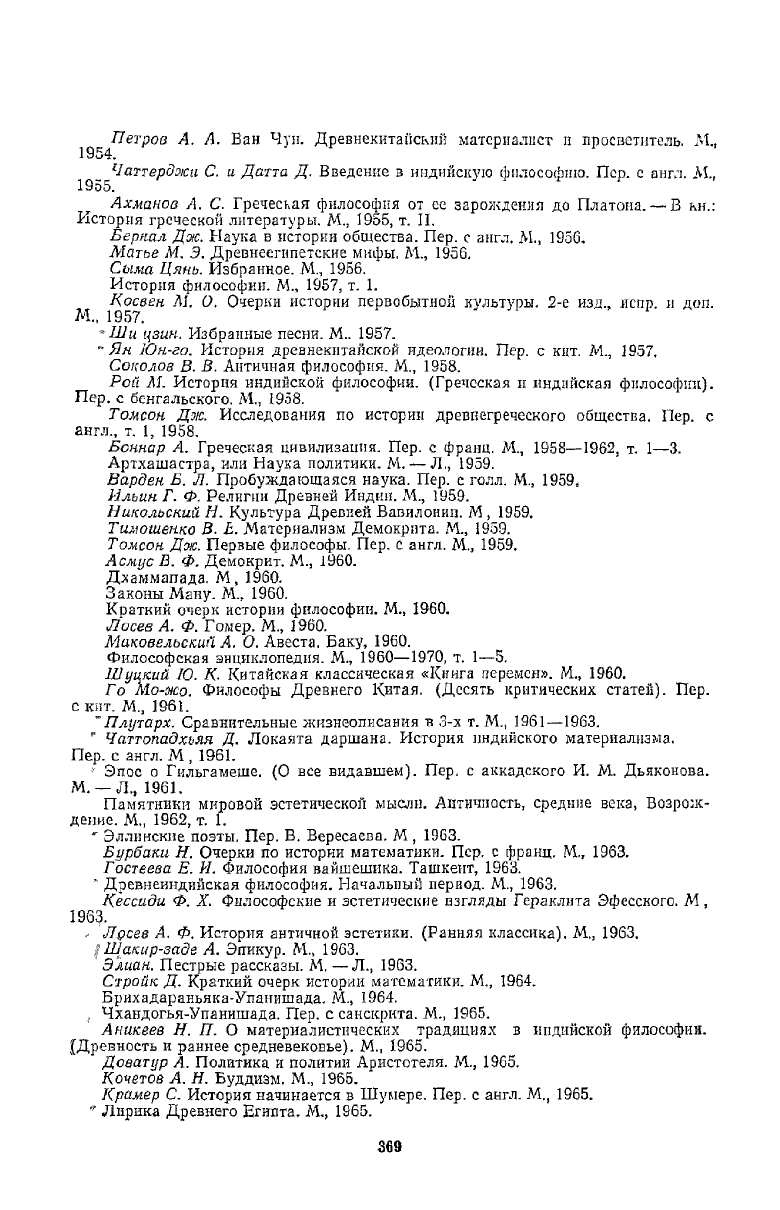
Петров
А. А. Ван Чун. Древнекитайский материалист и просветитель. М.,
1954.
Чаттерджи
С. и
Датта
Д. Введение в индийскую философию. Пер. с англ. М.,
1955.
Ахманов
А. С. Греческая философия от ее зарождения до Платона. — В кн.:
История
греческой литературы. М., 1955, т. II.
Берпал
Дж. Наука в истории общества. Пер. с англ. М., 1956.
Матье
М. Э. Древнеегипетские мифы. М., 1956.
Сыма
Цянь. Избранное. М., 1956.
История
философии. М., 1957, т. 1.
Косвен
А1. О. Очерки истории первобытной культуры. 2-е изд., лепр а доп.
М., 1957.
* Ши цзин. Избранные песни. М.. 1957.
" Ян
Юн-го.
История древнекитайской идеологии. Пер. с кит. М., 1957.
Соколов
В. В. Античная философия. М., 1958.
Рой AL История индийской философии. (Греческая и индийская философии).
Пер.
с бенгальского. М, 1958.
Томсон
Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Пер. с
англ., т. 1, 1958.
Бсннар
А. Греческая цивилизация. Пер. с франц. М.,
1958—1962,
т. 1—3.
Артхашастра,
или Наука политики. М. — Л., 1959.
Варден
Б. Л. Пробуждающаяся наука. Пер. с голл. М., 1959,
Ильин
Г. Ф. Религии Древней Индии. М., 1959.
Никольский
Н. Культура Древней Вавилонии. М , 1959.
Тимошенко
В. Ь. Материализм Демокрита. М., 1959.
Томсон
Дж. Первые философы. Пер. с англ. М., 1959.
Асмус
В. Ф. Демокрит. М.,
i960.
Дхаммапада. М, I960.
Законы
Many. M., 1960.
Краткий
очерк истории философии. М., 1960.
Лосев
А. Ф. Гомер. М, 1960.
Миковельский
А. О.
Авеста.
Баку, 1960.
Философская
энциклопедия. М.,
1960—1970,
т. 1—5.
Шуцкий
Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1960.
Го
Мо-жо.
Философы Древнего Китая. (Десять критических статей). Пер.
с кит. М, 1961.
"Плутарх.
Сравнительные жизнеописания в З-з т. М.,
1961—1963.
'
Чаттопадхьяя
Д. Локаята даршана. История индийского материализма.
Пер.
с англ. М , 1961.
' Эпос о Гильгамеше. (О все видавшем). Пер. с аккадского И. М. Дьяконова.
М. — Л., 1961.
Памятники
мировой эстетической мысли. Античность, средние века, Возрож-
дение. М„ 1962, т. 1.
' Эллинские поэты. Пер. В. Вересаева. М , 1963.
Бурбаки
Н. Очерки по истории математики. Пер. с франц. М, 1963.
Гостеева
Е. И. Философия вайшешика. Ташкент, 1863.
~ Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963.
Кессиди
Ф. X. Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского. М ,
1963.
*
Лосев
А. Ф. История античной эстетики.
(Ранняя
классика). А1, 1963.
I
Щакир-заде
А. Эпикур. М„ 1963.
' Элиан. Пестрые рассказы. М. —Л., 1963.
Стройк
Д. Краткий очерк истории математики. М., 1964.
Брихадараньяка-Упанишада. М., 1964.
, Чхандогья-Упанишада. Пер. с санскрита. М., 1965.
Аникеев
Н. П. О материалистических традициях в индийской философии.
(Древность и раннее средневековье). М„ 1965.
Доватур
А. Политика и политии Аристотеля. М., 1965.
Кочетов
А. Н. Буддизм. М., 1965.
Крамер
С. История начинается в Шумере. Пер. с англ. М.
(
1965.
" Лирика Древнего Египта. М., 1965.
369
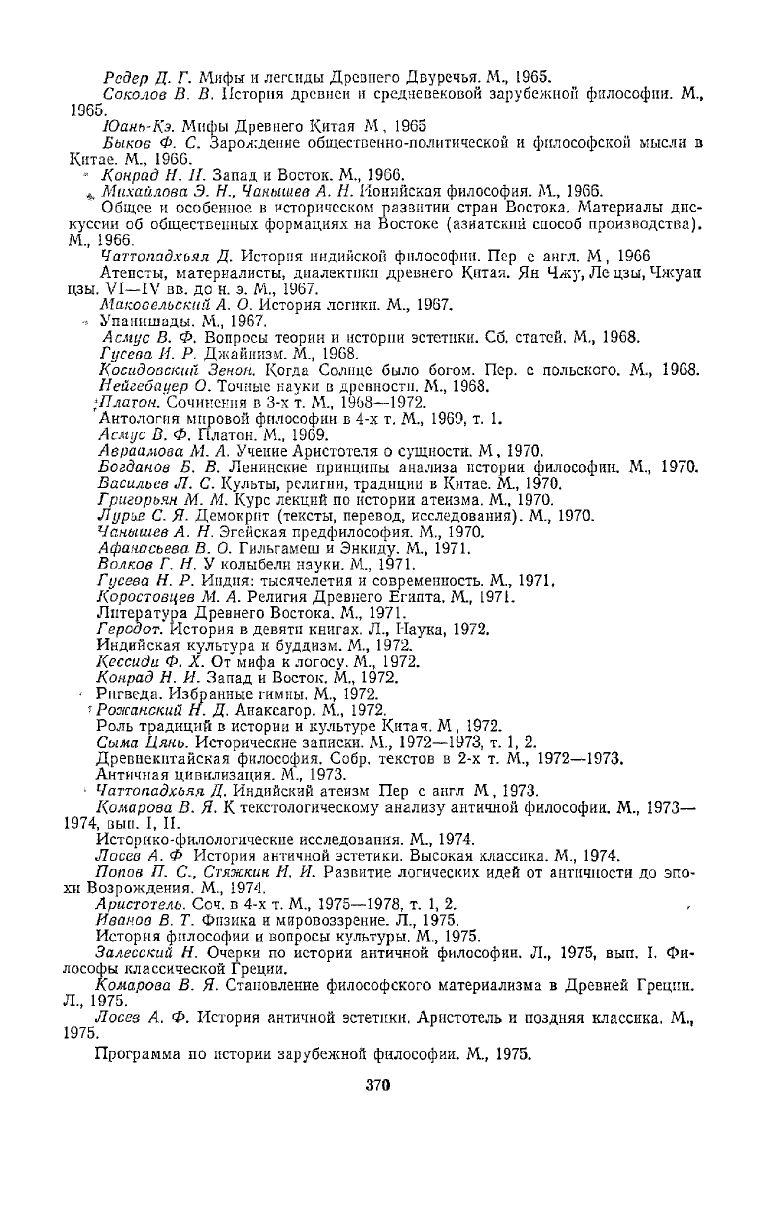
Рсдер
Д. Г. Мифы и легенды Древнего Двуречья. М., 1965.
Соколов
В. В. История древней и средневековой зарубежной философии. М.,
1965.
Юань-Кэ.
Мифы Древнего Китая М , 1965
Быков
Ф. С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в
Китае.
М., 1966.
-
Конрад
Н. И. Запад и Восток. М., 1966.
^
Михайлова
Э. И.,
Чанышев
А. Н. Ионийская философия. М., 1956.
Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Материалы дис-
куссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ производства).
М, 1966.
Чаттопадхьяя
Д. История индийской философии. Пер с англ. М, 1966
Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Ян Чжу, Ле цзы, Чжуан
цзы.
VI—IV
вв. до н. э. М., 1967.
Макоаельский
А. О. История логики. М., 1967.
- Упанишады. М., 1967.
Асмус
В. Ф, Вопросы теории и истории эстетики. Сб. статей. М., 1968.
Гусева
И. Р. Джайнизм. М., 1968.
Косидовский
Зенон.
Когда Солнце было богом. Пер. с польского. М., 1968.
Нейгеоауер
О. Точные науки в древности. М., 1968.
>Пла
тон.
"Сочинения в 3-х т. М.,
1968—1972.
Антология мировой философии в 4-х т. М., 1969, т. 1.
Асмус
В. Ф. Платон. М., 1969.
Авраамова
М. А. Учение Аристотеля о сущности. М, 1970.
Богданов
Б. В. Ленинские принципы анализа истории философии. М., 1970.
Васильке
Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
Григорьян
М. М. Курс лекций по истории атеизма. М., 1970.
Лурье
С. Я- Демокрит (тексты, перевод, исследования). М., 1970.
Чанышев
А. Н. Эгейская предфилософия. М., 1970.
Афанасьева
В. О. Гильгамеш и Энкиду. М., 1971.
Волков
Г. Н. У колыбели науки. М., 1971.
Гусева
Н. Р.
Индия:
тысячелетия и современность. М., 1971,
Коростовцев
М. А. Религия Древнего Египта. М., 1971.
Литература Древнего Востока. М., 1971.
Геродот".
И(
История
в девяти книгах. Л., Наука, 1972.
Индийская
культура
и буддизм. М., 1972.
Кессиди
Ф. X. От"мифа к
логосу.
М., 1972.
Конрад
Н. И. Запад и Восток. М„ 1972.
• Рпгведа. Избранные гимны. М., 1972.
•
Рожанский
Н. Д. Анаксагор. М., 1972.
Роль
традиций в истории и
культуре
Китач. М , 1972.
Сыма
Цякь. Исторические записки. AL,
1972—1973,
т. 1,2.
Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2-х т. М.,
1972—1973.
Античная цивилизация. М., 1973.
1
Чаттопадхьяя
Д. Индийский атеизм Пер с англ М, 1973.
Комарова
В. Я. К текстологическому анализу античной философии. М., 1973—
1974, вып. I, II.
Историко-филологические исследования. М., 1974.
Лосев
А. Ф История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974.
Попов
П. С,
Стяжкин
И. И. Развитие логических идей от античности до эпо-
ХЕ[
Возрождения. М., 1974.
Аристотель.
Соч. в 4-х т. М„
1975—1978,
т. 1, 2.
Иванов
В. Т. Физика и мировоззрение. Л., 1975.
История
философии и вопросы культуры. М., 1975.
Залесский
Н. Очерки по истории античной философии. Л., 1975, вып. I, Фи-
лософы классической Греции.
Комарова
В. Я- Становление философского материализма в Древней Греции.
Л., 1975.
Лосев
А. Ф. История античной эстетики, Аристотель и поздняя классика. М...
1975.
Программа по истории зарубежной философии. М., 1975.
370
