Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир
Подождите немного. Документ загружается.

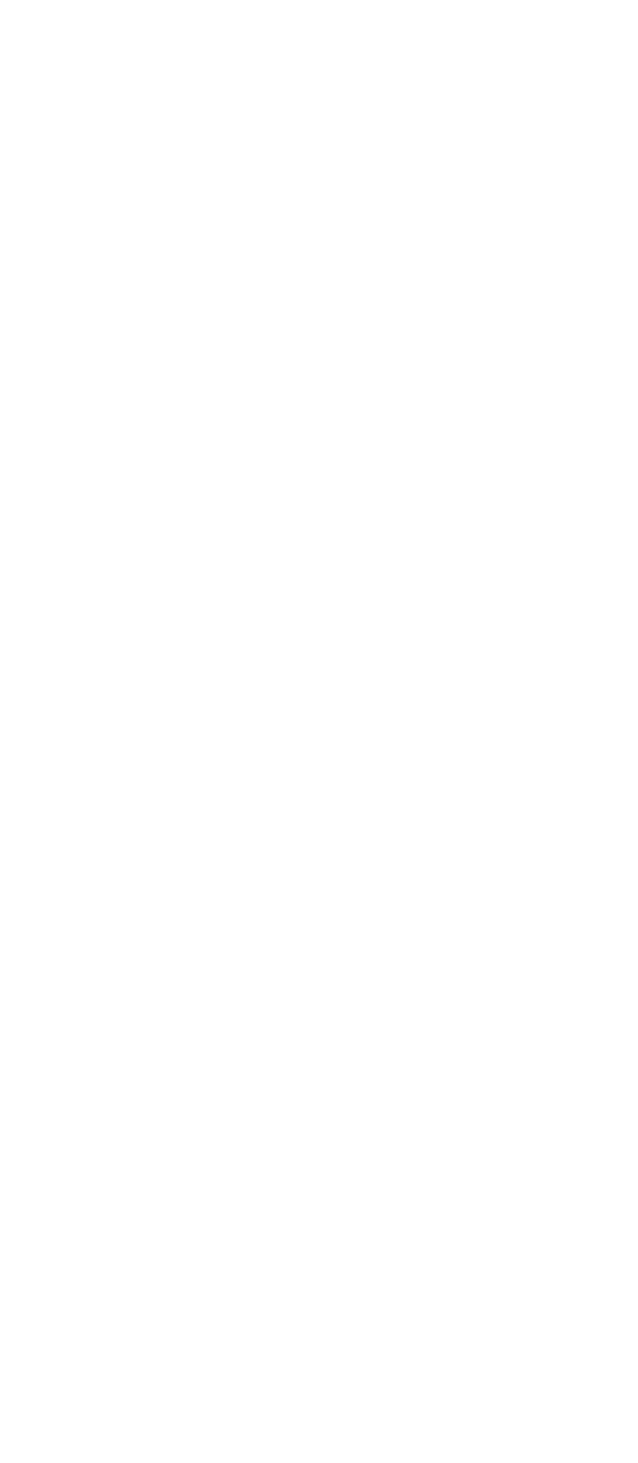
было бы предположить взаимное влияние: общая социально-
психологическая атмосфера определяла умонастроения и
интеллектуалов, но кристаллизация этих умонастроений в
демонологическом учении, которое детерминировало
характер соответствующей судебной практики, в свою
очередь оказывала воздействие на коллективную
ментальность.
Нужно признать, что методология объяснения такого
рода историко-культурных феноменов не разработана.
Попытки найти ключ к пониманию столь сложного и
значительного и по охвату территории, и по численности
участников и длительного по времени процесса, как охота на
ведьм, — попытки, которых историки, естественно, не могут
не предпринимать, пока не дали достаточно убедительного
результата. Видимо, не следует спешить с объяснениями;
полезнее было бы, внимательно и по возможности
всесторонне рассматривая это явление, ставить его в разные
исторические контексты, — может быть, в их рамках удастся
несколько лучше понять природу массовых преследований и
тех стрессовых состояний, которые их порождали и которые
им сопутствовали.
Поэтому прежде всего было бы желательно уяснить
некоторые характерные особенности социальной психологии
населения Европы в указанный период. Мне представляется,
что тем самым был бы намечен тот фон, на котором
развертывалась охота на ведьм.
1.
Социальная психология масс периода, отделенного от
нашего времени несколькими столетиями, трудно уловима, и
методология выявления и оценки указаний и намеков на нее
в имеющихся источниках разработана недостаточно.
Основные классовые и сословные противоречия
позднефеодального общества создавали почву для
определенных настроений простонародья: ненависти к
господам, недоверия к священникам, зависти, испытываемой
к богатеям, монархических иллюзий. Что касается
последних, то помимо традиционного роялизма и веры в
«добрых королей», память о которых сохранялась веками, до
неузнаваемости трансформировав их подлинный облик
(Фридрих II Гогенштауфен, Людовик Святой, Генрих IV
Французский), народ придавал коронованным особам
сверхъестественные способности, в частности — во
Франции и Англии — дар исцелять золотушных.
Поведение и психология простолюдинов в первую
очередь определялись, естественно, их трудовой
деятельностью. В доиндустриальном обществе труд и досуг
еще не были четко отделены один от другого и
психологически противопоставлены. Крестьянский труд,
сезонный по своей природе, и периоды напряженной
деятельности сменяются периодами относительного отдыха.
Западноевропейский крестьянин в изучаемый период уже не
знал подневольного барщинного труда и еще не был знаком
со строгой трудовой дисциплиной, которую несло с собой

предпринимательское крупное хозяйство. Он трудился
вместе с членами своей семьи и иногда с работниками, и
такой труд в рамках небольшого по составу коллектива мог
служить источником удовлетворения и сознания важности
выполняемой работы. Происходившие в городе перемены в
отношении ко времени, связанные с повышенной его
оценкой, крестьян практически не затрагивали. Учение
протестантизма о труде как долге, «призвании» каждого,
выражавшее потребности буржуазного развития, также едва
ли могло оказать сколько-нибудь глубокое воздействие на
сознание сельского населения, которое помимо всяких
доктрин ощущало жизненную потребность трудиться в поте
лица. Тесная, неразрывная связь с землей и высокая оценка
сельскохозяйственного труда — неотъемлемая часть
крестьянской психологии.
Любопытно, что в адресованных простонародью
дешевых брошюрах «Голубой библиотеки» (см. ниже)
крестьяне и их труд почти вовсе не изображаются.
Единственный текст, обнаруженный в повествовании
«Мудрое трехлетнее дитя» (первая половина XVI в.), гласит:
«Что скажешь ты о работниках, возделывающих землю?
Большинство их спасется (от ада), ибо они живут своим
простым трудом и весь народ Божий кормится за их счет»
(89, 82). Но и это, оказывается, всего лишь цитата из
«Светильника» Гонория Августодунского (начало XII в.), —
очевидно, и спустя почти полтысячелетия не возникло новой
оценки труда крестьян.
Но когда мы говорим о социальной психологии
крестьян определенного периода, то стремимся к
вычленению специфических именно для этого периода
характеристик, в той или иной мере новых или нетипичных
для психологии крестьянских коллективов
предшествующего времени.
Первое, что при такой постановке вопроса
приходится отметить, — это неуверенность и страх, которые
владели народными массами и которые отмечают все без
исключения исследователи. Эти страх и неуверенность
имели множество важных причин. Неуверенность
крестьянину внушало прежде всего отношение к земле,
которую он обрабатывал. С одной стороны, он был кровно,
многими прочными узами с нею связан. П. Губер
утверждает, что безграничная привязанность крестьянина к
своему владению являлась в тот период одной из наиболее
глубоких черт психологии французского народа (127, 46).
Иначе ли обстояло дело за пределами Франции?
С другой стороны, связь возделывателя с землей
оставалась в феодальную эпоху под угрозой. Отношение это
в разных странах было далеко не одинаковым, но и у
французского цензитария, который приобрел на свой
участок фактическую собственность, не обладая, однако,
юридическими ее гарантиями, и у английского
копигольдера, стоявшего перед вполне реальной угрозой
сгона с земли лендлордом-огораживателем, не говоря уже о

более бесправном немецком крестьянине, перспективы
владения и передачи земли по наследству были весьма
смутными и неопределенными. Эта неуверенность,
вытекающая из самой природы феодальных
производственных отношений, была тем чувством, которое
двигало крестьянами как во время столь частых в XVI—
XVIII вв. восстаний, так и в ранних буржуазных
революциях, — как известно, аграрный вопрос стоял в них
во главе угла.
Известную обеспеченность своего положения могла
ощущать верхушка крестьян только в тех странах, в которых
ликвидация средневековых аграрных отношений произошла
в известной мере в пользу крестьянства. Таков
состоятельный норвежский бонд, обладающий восемью
коровами и лошадью, «богобоязненный и честный, хороший
сосед, верный Богу и королю, о чем всякий может
засвидетельствовать... он дружит со священником, знать
ничего не знает о ленсмане (чиновнике) и никому ничего не
должен... он свободен от господина, голода, вызванного
войной, и чумы; он владеет своей землей, лугом... Одет он в
домотканое платье, кожаные штаны и жилет. Живет в
согласии с женой. Он счастлив своим трудом, который
любит более всего». Так гласила норвежская поэма XVIII в.
«Крестьянское счастье» (94, 162—163).
Если это и не зарисовка из жизни, то, во всяком
случае, идеал свободного норвежского бонда. Мы
располагаем, кроме того, уникальным в своем роде
семейным портретом подобного преуспевающего и
уверенного в себе крестьянина. Речь идет о картине,
изображающей крестьянина Бьерна из хутора Фрейсак в
Халлингдале и его многочисленную семью. Первоначально
картина находилась в деревянной приходской церкви Гуль, а
ныне хранится в Норвежском народном музее в Осло. В
центре ее — пожилой бонд, самоуверенный и важный, с
окладистой бородой и длинными усами, с волосами,
ниспадающими на плечи из-под шляпы. Он стоит впереди
своих домочадцев, широко расставив ноги в объемистых
бриджах, опираясь на топор. О Бьерне Фрейсаке известно,
что он пользовался большим уважением у соседей и играл
роль предводителя в своей округе. По обе руки от него
располагаются женщины и дети разного возраста — от
новорожденного младенца на руках жены до взрослого
мужчины, всего два десятка нарядно одетых домочадцев,
устремивших исполненные преданности и почтения взоры
на главу семьи. Бьерн изображен с двумя женами — в ту
эпоху нередко встречаются портреты, на которых
изображены как живущие, так и уже скончавшиеся члены
семьи. По правую руку от него располагаются десятеро
детей от первой жены, они все более или менее взрослые, а
по левую руку — дети от второго брака (их восемь человек).
Этот семейный портрет-эпитафия, датированный
1699 г., отнюдь не представляет собой произведения
высокого искусства, но, несомненно, служит ценным

свидетельством материального и духовного благополучия
богатого и свободного бонда. Бьерн Фрейсак умер в 1710 г. в
возрасте 75 лет, и поэтому не вызывает сомнения, что
именно он сам заказал художнику этот семейный портрет.
Над портретом видна надпись религиозного содержания, с
выражением благочестивых чувств и надежды на
достижение загробного спасения (231). Стоит отметить, что
такого рода семейные портреты, весьма распространенные в
XVII—XVIII вв., как правило, писались для аристократов,
чиновников высокого ранга, пасторов и богатых бюргеров; в
данном же случае перед нами — крестьянская семья. Факт
сам по себе столь же уникальный, сколь и
многозначительный!
Однако Норвегия — исключение. В других странах
радость фактического обладания землей, которая кормит
крестьянина, отравлялась гнетом со стороны более или
менее развитой социальной иерархии, посягавшей и на
значительную часть производимого крестьянином продукта,
и на его земельные права.
Все исследователи, повторяю, отмечают
неуверенность и страх, которые владели массами в XVI—
XVII вв. Отдельные ученые связывают рост напряженности
в социально-психологической сфере с общей экономической
и политической ситуацией в Европе конца XVI — начала
XVII в. В период между 1580 и 1620 гг., пишут они,
хозяйственный подъем предшествующего времени сменился
длительным застоем и упадком. Последний нашел также и
демографическое выражение. Социально-экономический
кризис сопровождался крупными политическими
коллизиями. Население не могло не ощущать и не
осознавать обрушившихся на него бедствий.
Оптимистические настроения, характерные, по мнению X.
Лемана, для более раннего периода, сменяются всякого рода
страхами, отчаянием и попытками как-то объяснить кризис,
с чем связано, в частности, возрождение эсхатологических
учений (158, 14 и сл.). По поводу установления корреляции
между изменением объективных условий жизни и
социально-психологическими процессами нужно заметить,
что коллективные страхи и напряженные состояния стали
заметными в Европе задолго до конца XVI в.
Одним из важнейших источников коллективных
фобий был страх перед смертью и загробной гибелью. Страх
этот, присутствовавший в сознании народа на протяжении
всего средневековья, обострился после великих эпидемий
чумы, в конце XIV и XV вв. Частые рецидивы эпидемии,
которые не давали времени для восстановления прежней
численности населения, высокая смертность новорожденных
и маленьких детей, короткая продолжительность жизни,
разрушительные войны, сопровождавшиеся жестокой
расправой над мирными жителями, постоянный голод — все
это делало смерть близкой знакомой. Возникновение и
распространение в это время темы «пляски смерти» в
искусстве и литературе Западной Европы — симптом нового

умонастроения. Излюбленный сюжет художников,
миниатюристов, граверов — изображение людей разных
статусов, от папы и императора до простолюдина, которые
пляшут, взявшись за руки, ведет же хоровод
гримасничающая и ухмыляющаяся смерть — универсальная
уравнительница. Если во Франции dance macabre, по-
видимому, воспринимался в качестве аллегории, то в
Германии Totentanz был связан с верой, согласно которой
души, не искупившие своих грехов и лишенные загробного
покоя, скитаются по земле, вынужденные по ночам плясать
под дудку Смерти (200, 34—83).
Страх перед загробным воздаянием двигал толпами
флагеллантов, которые бродили по городам и деревням, он
же делал столь популярными народных проповедников,
призывавших к немедленному покаянию; страх этот
неимоверно усиливался в моменты, когда появлялись
пророчества о близящемся конце света и Страшном суде. Не
показательно ли то, что миф о панике, якобы охватившей
Запад перед 1000 г., был порожден лихорадочным ростом
милленаристских настроений именно в конце XV и начале
XVI в? (106,198).
В это же время начинает шире практиковаться
завещание — инструмент, при помощи которого стремились
примирить земные интересы с заботами о загробном
спасении, внося в отношения с миром иным точный счет и
расчет. Анализ завещаний — источников массовых и
дающих при соответствующей их обработке ценные
объективные сведения об умонастроениях завещателей —
показывает, что последние были охвачены неодолимым
стремлением обеспечить свое спасение в потустороннем
мире и с этой целью поручали остающимся в живых
отслужить за упокой их душ возможно большее число месс
(98). Этот безудержный рост численности заупокойных
служб — вплоть до тысяч и десятков тысяч — как нельзя
лучше выдает страхи и надежды завещателей, связанные с
загробным существованием. Авторы завещаний настаивают
на том, чтобы львиная доля месс была отслужена
непосредственно после их кончины: мысль о Страшном суде
«в конце времен» явственно отступает перед страхом
немедленного осуждения души в момент смерти индивида.
Наконец, утверждение идеи чистилища, в огне
которого души могут очиститься от грехов и обрести
надежду на спасение, в свою очередь отражало постоянную
одержимость страхом перед потусторонним миром и
расплатой за прожитую жизнь. Догмат о чистилище был
принят католической церковью в XIII в., но в церковной
иконографии изображения чистилища появляются не ранее
XV столетия (240; 239,66) — свидетельство того, что
озабоченность населения мыслью об искуплении земных
грехов усилилась именно в конце средневековья и начале
Нового времени. Есть основания предполагать, что идея
вечности, усваиваемая народным сознанием с большим
трудом в силу специфики присущего ему восприятия

времени, внедрялась в него прежде всего в образе
нескончаемых мук, которым будут подвергаться души
грешников. Если картины рая оставались смутными и
непроясненными (ведь о небесных радостях вообще
невозможно поведать на языке человеческом, и о них
церковные авторы писали как о «несказанных»,
«невыразимых», «неимоверных» и т. п.), то картины ада и
народное воображение, и живопись, и литература рисовали с
большой наглядностью. Ад был намного реальнее рая.
Чистилище же открывало путь избежать вечности адских
мук (131, 255—275).
Со страхом загробных мук был непосредственно
связан страх перед нечистой силой. Этот страх
присутствовал в сознании верующих на всем протяжении
средневековья, и тем не менее трактовка сил ада
существенно изменяется как раз в указанный период. До
этого черт, страшный по своей сути, был подчас вместе с тем
и смешон, и сохранилось немало повествований о том, как
бесы попадают в нелепое положение, как их обманывают и
высмеивают люди, как святые изгоняют их из одержимых, и
бесы бессильны пред могуществом святости и даже
прославляют ее. Черт — «обезьяна Господа» и может
действовать лишь в очерченных Божьей волей пределах.
Пожалуй, наиболее поразительны рассказы о «добрых злых
духах» — им любо общение с людьми, которым они готовы
оказывать бескорыстные услуги, не посягая на их души (см.
выше). Нетрудно допустить фольклорные истоки подобной
двойственности в трактовке нечистой силы (147). Эти
фольклорные мотивы сохраняются и в более позднее время.
Но в конце средневековья начинается в высшей
степени показательная трансформация образа Сатаны и его
приспешников. Прежде всего, возникает убеждение в том,
что количество бесов неимоверно велико. В XVI в. их
насчитывали не менее семи с половиной миллионов, во главе
этого воинства стоят 79 князей, подчиненных
непосредственно самому Люциферу (106, 251). Па другим
толкованиям, демонов еще больше, ибо к каждому человеку
приставлен бес, для того чтобы его совратить. Были
несчастные, которых осаждали толпы демонов. Мир
инфицирован бесами, и они подстерегают любой шаг
человека. Однако дело не в простой неисчислимости
демонов. Они утратили былую двойственность и стали
однотонно и бесконечно страшными, воплощением
абсолютного Зла. Мало этого, Сатану мыслят теперь как
всесильного соперника Бога, как «князя мира сего». По
Лютеру, дьяволу принадлежит весь видимый мир. Но таково
же было убеждение и простолюдинов. Одна женщина на
вопрос о том, скольких богов она признает, отвечала: «Двоих
— Бога-Отца и дьявола». В существовании чертей стали
видеть доказательство бытия Божьего: «Нет чертей, нет и
Бога» (225, 469 и сл., 476). Ситуацию общественного
сознания этой эпохи можно было бы определить так: человек
в постоянном и деятельном присутствии дьявола.

При посредстве проповедников теологи внушали
народу мысль о всемогуществе нечистой силы и ее
постоянном и всестороннем вмешательстве в жизнь
человека. С этой идеей смыкалось представление о
близящемся конце света. Усиление всемогущества дьявола
— показатель того, что перед завершением земной истории
он выступит в роли Антихриста. Готовясь к этой финальной
всемирно-исторической драме, Сатана собирает свое
воинство, включающее людей, которые принесли ему
присягу верности и вступили в договор с целью вредить
Божьему люду. Поэтому обнаружение и уничтожение ведьм
и колдунов расценивались как борьба против Антихриста.
Трактаты по демонологии — важная и чрезвычайно
объемистая отрасль литературы в XV—XVII вв. Но едва ли
можно сомневаться в том, что одержимость богословов
мыслью о Сатане и аде, который за ним скрывается, в
немалой мере питалась соответствующими настроениями,
разлитыми во всех слоях общества. Разве не глубоко
символичен тот факт, что многократно засвидетельствованы
заявления лиц, привлеченных по обвинению в ведовстве, об
их сношениях с нечистой силой — заявления, сделанные еще
до всякого внушения со стороны судей и применения пытки?
Так, монахиня Мария Санская утверждала, будто вступила в
договор с дьяволом, и даже цитировала его текст (229, 67).
Исследователи полагают, что за подобными самооговорами
могла таиться неосознанная тенденция социально или
умственно неполноценных людей самоутвердиться,
преодолеть свою посредственность, привлечь к себе
внимание. В 1626 г. женщина, представшая пред судом по
обвинению в колдовстве, прочитала судьям своеобразную
молитву, в которой обращение к Христу и святому Иоанну
сочеталось с обращением к дьяволу (113,60).
К признаниям подобных лиц историки применяют
понятие «субъективной реальности» — того образа мира,
который создавался в их головах, причудливо и
преображение отражая действительность, переплетающуюся
с фантазмами. Эта «субъективная реальность», наполненная
бесами и их проделками, в которых якобы участвуют такого
рода люди, не закрепилась бы в их сознании под одним
только внушением богословов, приходских священников или
странствующих монахов, если б она не зарождалась в
фантазии спонтанно, на основе собственных психических
состояний, впечатлений и переживаний. Стереотипность
описаний шабаша ведьм во главе с Сатаной и признаний
допрашиваемых в судах по обвинению в ведовстве — вряд
ли продукт простой диктовки судьями нужных показаний.
Не пользуется поддержкой современных ученых и
точка зрения тех авторов, которые вслед за Дж. Фрэзером
полагают, что миф о ведьмах в той или иной мере опирался
на реальность и что на протяжении всего средневековья
фигурировали тайные языческие секты приверженцев культа
плодородия, поклонников и поклонниц «рогатого бога» (183;
184; 204; 222). О такого рода сектах не было известно на

протяжении целого тысячелетия, пока о них в конце XV в. не
заговорили гонители ведьм.
Но фольклор, рассказываюший о сборищах
злокозненных ведьм и колдунов и о гнусных обрядах,
которые они на этих шабашах отправляли под
верховенством дьявола, — реальность духовной жизни
многих европейцев в XV—XVII вв. И потому нет ничего
удивительного в том, что, когда обвиняемую или
обвиняемого принуждали давать показания, они
«признавались» все в тех же стандартных грехах и рисовали
до мелочей сходные сцены плясок, пирушек, непристойных
жестов и оргий, в которых якобы принимали участие.
Особый интерес представляют показания детей: их не
пытали, но нередко они сами охотно рассказывали о всякого
рода ведовских действах и собственном участии в них —
ведь они жадно внимали подобным сказкам и с готовностью
в них верили. При расследовании обоснованности
признаний, полученных в ходе испанских ведовских
процессов 1610 г., было установлено, что девочки, которые
«сознались» в половых сношениях с Сатаной, были
девственными (83, 218; 95, 209исл.). Тринадцатилетняя
служанка из Риома (Франция), видимо, усвоив ведовской
фольклор в качестве собственного жизненного опыта, без
всякого принуждения призналась, что имела сношения с
дьяволом и посещала шабаш (173, 17 и сл.). На процессе в
шведской провинции Даларна во второй половине XVII в.
дети давали показания, что матери брали их с собой на
шабаш, и немало детей было осуждено (80).
Страх смерти, загробных мук и одержимость идеей
постоянного присутствия в повседневной действительности
нечистой силы, вмешивающейся в жизнь людей, — все это
симптомы материальных и социальных невзгод населения,
которые умножились в переходный период от средневековья
к Новому времени, когда рушился или расшатывался
привычный уклад жизни. Молитва французских крестьян в
XVII в.: «Избави нас, Господи, от чумы, голода и войны»
(126, 82) — как нельзя лучше высвечивает источники их
страхов — источники, искоренить которые они были
бессильны.
И в самом деле, важным источником постоянной
неуверенности страхов широких масс населения Европы в
XV—XVII вв. были войны, как внешние, так и
междоусобные — они грозили им разорением, грабежом,
насилием, убийствами. Война кормила сама себя, и солдатня,
вбиравшая в свои ряды отребье общества, жила за счет
беззащитных горожан и прежде всего крестьян, лишенных
права ношения оружия. Бесчинства военщины в период
постоянных войн и наемных армий представляли собой
подлинное стихийное бедствие. Достаточно напомнить о
многих страницах «Симплициссимуса» и о сценах захвата и
разграбления деревни, которыми не случайно столь богато
изобразительное искусство XVI и XVII столетий.
Другой причиной страхов и неуверенности, не

оставлявших жителей деревни и города, был голод или
угроза его — последствие низкой урожайности.
Значительная часть населения постоянно жила впроголодь. В
Германии в промежуток между 1660 и 1807 гг. в среднем
каждый четвертый год был голодным (148, 271). Спутники
этого существования на грани голода — праздники,
устраивавшиеся по окончании жатвы и сопровождавшиеся
пирушками и попойками, во время которых проедалась
немалая доля собранного. Итальянский священник с
неодобрением писал в XVIII в. о пастухах-далматинцах:
подобно готтентотам, они в течение недели тратят то, чего
хватило бы на месяцы, и только потому, что представился
случай повеселиться (94, 178). Эти колебания между
длительным недоеданием и праздничным обжорством,
наглядно выразившиеся в конфликте Поста с Карнавалом
(см. картину Брейгеля), — показатель материальной
неустойчивости положения сельского населения, которая
неизбежно сопровождалась резкими сменами настроений и
колебаниями психики.
Начавшееся в переходный от феодализма к
капитализму период расшатывание традиционных
деревенских микроструктур, таких, как сельская община, в
свою очередь не могло не порождать беспокойства и
служило источником внутренних конфликтов в этих прежде
замкнутых мирках крестьянской жизни. На более ранней
стадии община, приход, по существу, исчерпывали весь мир
крестьян, из поколения в поколение сидевших на своих
наделах (русское наименование общины — «мир» —
охватывало совокупность таких важнейших
мировоззренческих аспектов, как «Вселенная», «община»,
«человеческий коллектив», «покой», т. е. условие
благополучия в этом коллективе и в большом мире); при
переходе же от средних веков к Новому времени этот малый
мир не мог не быть потеснен в их сознании большим миром
нации, государства, городов, далеких путей, поскольку, с
одной стороны, участился уход крестьян из деревни, а с
другой — этот большой мир все энергичнее вторгался в
пределы деревни — в лице купцов и коробейников,
судебных чиновников и сборщиков налогов, проповедников
и нищих, завоевателей и солдат. Но, очевидно, наиболее
мучительными оказались внутренняя ломка общинного
порядка и кризис сельской солидарности, вызванный
усилением противоречий между жителями деревни. С этой
напряженной социально-психологической обстановкой,
сложившейся в западноевропейской деревне, связана и охота
на ведьм, развернувшаяся в XVI и XVII вв.
Самые различные факторы воздействовали на
психику народных масс в неблагоприятном направлении,
порождая напряженность и страхи. Поэтому нельзя не
прислушаться к голосу тех историков, которые говорят о
крайней неустойчивости настроений масс, легко впадавших
в панику и склонных к внезапным коротким
иррациональным взрывам возмущения с сопутствовавшей

им кровавой жестокостью. По мнению Э.Леруа Ладюри, в
моменты подобных взрывов на поверхность общественной
жизни выступал примитивный пласт сознания (161, 681 и
сл.). Наряду с крупными, относительно организованными
крестьянскими восстаниями XVI—XVIII вв., в которых
можно выявить элементы сознательности, в деревне
постоянно происходили более мелкие выступления. Ж. Рюде
говорит о «повседневности возмущения» в
доиндустриальной Европе (202, 35). Действительно, в одной
только Аквитании между 1590 и 1715 гг. насчитывалось от
450 до 500 народных выступлений; во Франции между 1715
и кануном Великой революции их было не менее сотни, а в
английской деревне между 1735 и 1800 гг. — 275 (106, 143).
Многочисленны были и городские мятежи и восстания,
толпы голодных и угнетенных с легкостью выходили на
улицы и громили все окружающее. Многие из этих
выступлений не обнаруживают следов классового сознания
и ясных намерений восставших, не говоря уже о каких-либо
программах (169, 160, 337 и сл., 363; 172, 110 и сл.).
Комментируя это утверждение Р. Мандру, советская
исследовательница А.Д. Люблинская отмечала, что, в то
время как участники Жакерии и других крупных
крестьянских восстаний периода развитого феодализма
имели перед собой вполне конкретного классового врага —
сеньоров, для крестьян XVI—XVII вв. этот враг был рассеян
повсюду, и они склонны были видеть его помимо
собственного сеньора во всяком богаче, горожанине,
королевском сборщике налогов или ином чиновнике и судье,
и эта многоликость противников лишала восставших ясной
политической ориентации (77, 294).
Значительная часть сельских и городских мятежей
представляла собой спонтанную реакцию против реальной
или воображаемой угрозы, вспышку, которая могла длиться
всего только один день. Во французском городе Тарне в 1774
г. состоялся суд над крестьянами, которые убили инженера,
приняв его планы и чертежи за колдовские средства,
угрожающие их благополучию (112,133). Не следует
упускать из виду, что наряду с крестьянами и городскими
плебеями важную роль в народных выступлениях играли
люмпены — элементы, которые не могли найти своего места
в обществе и представляли собой источник постоянного
брожения. Активными участницами этих возмущений
являлись женщины, особенно когда причиной мятежа был
недостаток хлеба или его дороговизна (226). Отдельные
выступления имели «молодежный» характер. Среди
последователей Греймбла и Лаймбауэра — вождей
крестьянского восстания в Австрии в 30-е гг. XVII в. —
преобладали подростки, увлеченные этими самозванными
«мессиями» (198, 276). Связь повседневных возмущений
низов города и деревни с распространившимся среди них
чувством необеспеченности, нестабильности и
неуверенности не вызывает сомнения.
До какой степени была «заряжена» социально-
