Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев
Подождите немного. Документ загружается.

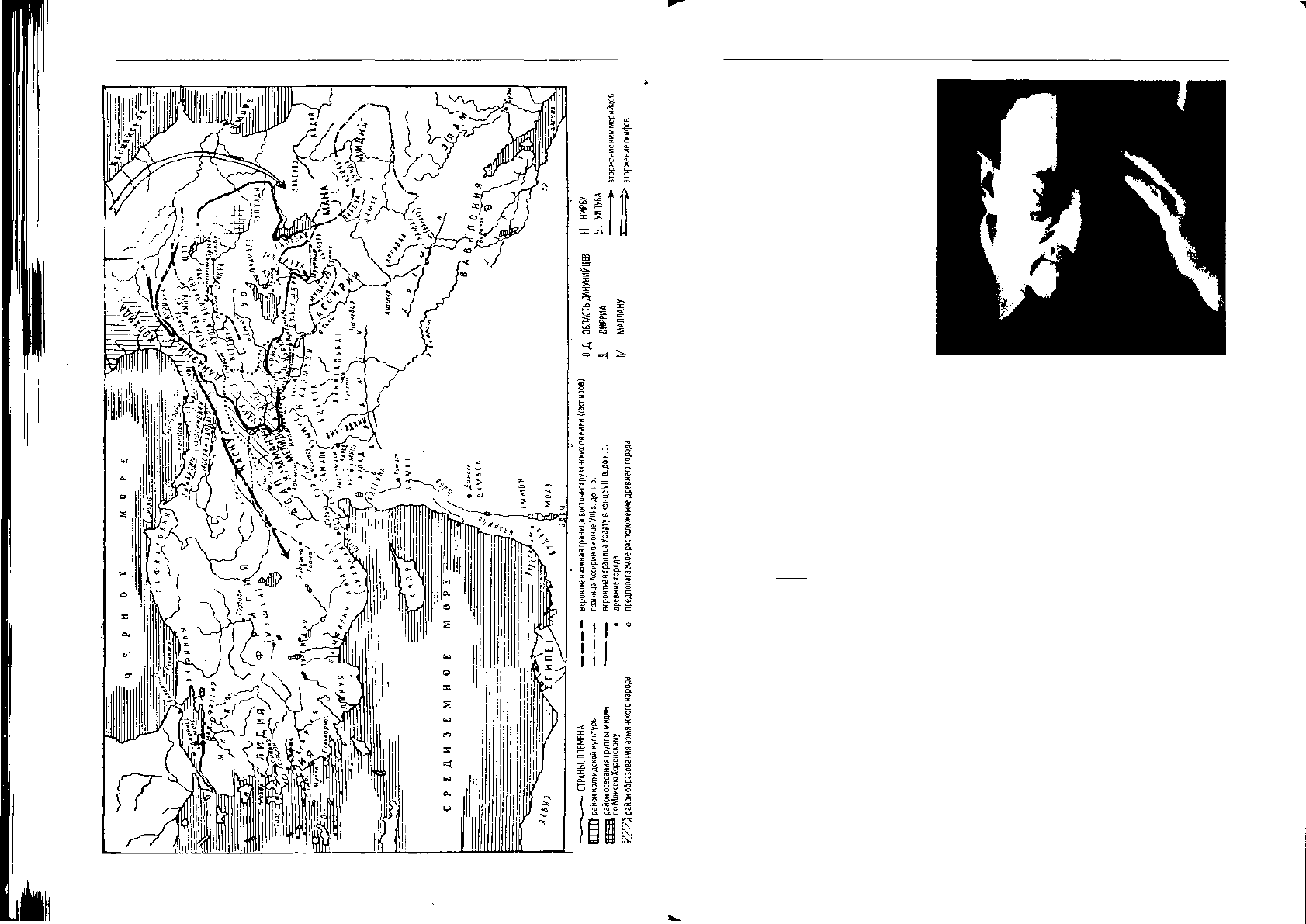
114
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Рис. 51. Ранние армяне в Закавказье и Малой Азии в IX—VII вв. до н. э. (по Дьяконову, 1968)
III. Гордиев узел
115
Рис. 52. Игорь Михайлович Дьяконов
армянско-греческих схожде-
ний в лексике. Есть и схожде-
ния только армяно-арийские,
в том числе «эрг» — вед.
«арка» — 'песня'. Общую судь-
бу с индоарийскими языками
характеризует и отсутствие на-
звания домашней свиньи в чис-
ле индоевропейских элементов,
сохранившихся в армянском.
В отличие от фригийского
армянский сохранился в живом
обиходе у нынешнего наро-
да, но зато о фригийцах много
писали античные авторы, а об
армянах — очень мало: армя-
не жили далеко. Геродот (VII, 2) повествует, что армяне, будучи выходцами
из фригийской земли, имели фригийское вооружение. Евдокс Книдский до-
бавляет: «в языке их много фригийского». Поэтому ранние стадии армянско-
го этногенеза в большой мере зависят от ранней локализации фригийцев. Из
античных сведений и данных лингвистики и восточных письменных источни-
ков исходил И. М. Дьяконов (рис. 52), строя свою концепцию происхождения
армян и их самоназвания — «хайк», «хайя».
По Дьяконову, фригийцы и их подразделение мисы (или мизийцы, Mysia)
были известны восточным народам (ассирийцам) под общим именем мушков
(где муш корень, родственный античному mus- в Mysia, а -к — армянский
формант множественного числа: например, хайк — армяне). Они, переселив-
шись в Малую Азию с Балканского полуострова на рубеже XIII-XII вв. до н. э.,
застали Хеттскую империю в состоянии гибели и распада. Кто ее разгромил,
не очень ясно, возможно, как раз они. Заселив подвластные ранее хеттам
земли, фригийцы-мушки беспокоили северо-западные границы Ассирии. Они
влились в постхеттские государственные образования (всё-таки родственные
по языку) и, освоив хеттскую статусную идентичность, несомненно, более вы-
сокую, противопоставляли себя окрестному хурритскому и семитскому насе-
лению уже как хеттов. «Хетты» стало их самоназванием. КIX—VIII вв. (а веро-
ятно, с сер. XII в.) они владели землями в долине Верхнего Евфрата к западу
от озера Ван. Захватывая оттуда в конце VII — начале VI вв. до н. э. земли
Распавшегося урартского государства, населенные мелкими народцами и язы-
ками, они принесли туда свой индоевропейский язык (близкий фригийскому
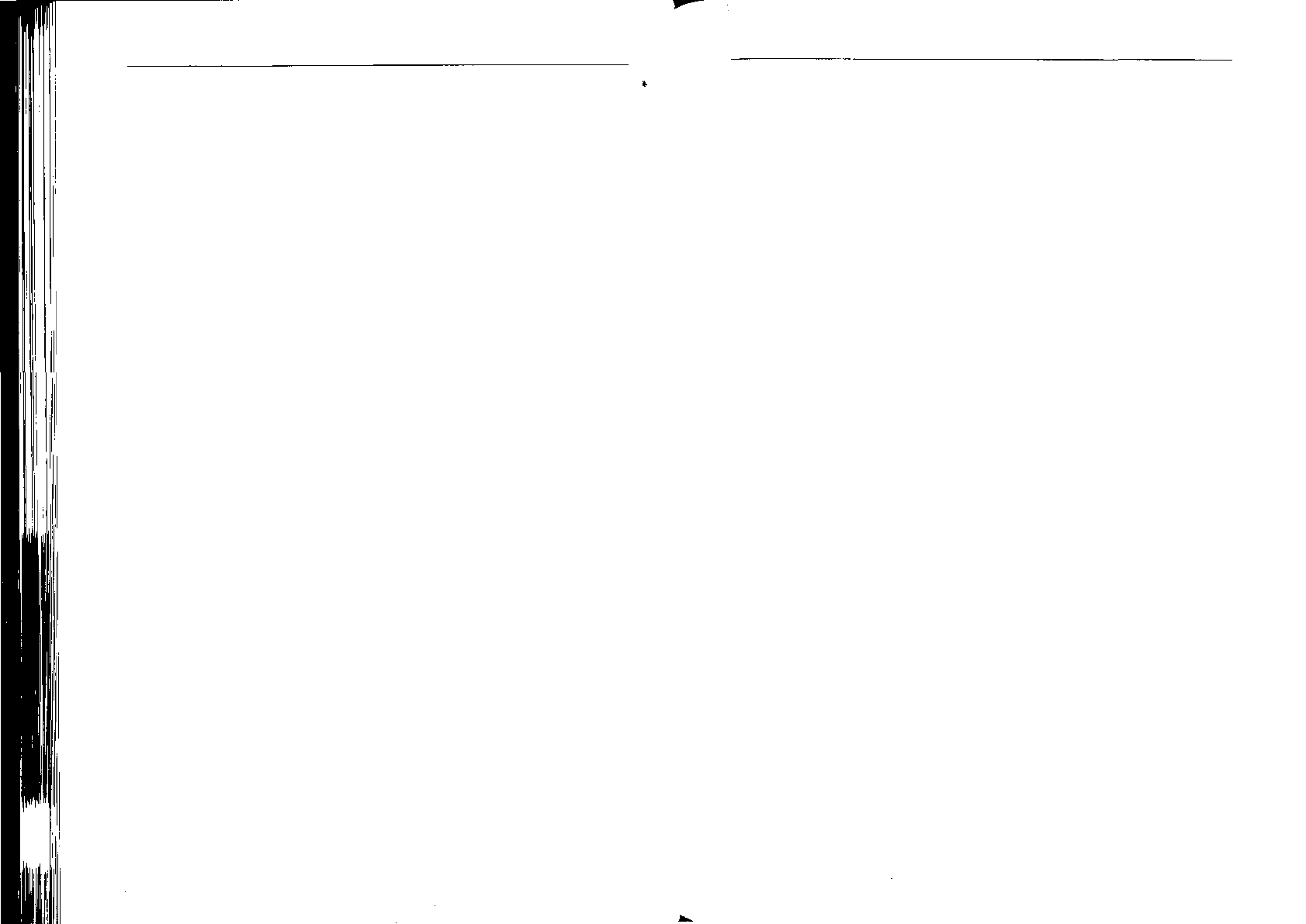
114
114 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
протоармянский). Вобрав в себя много местных элементов, особенно в произ-
ношении и лексике, этотязык стал Lingua franca — объединяющим языком. Так
сложился армянский язык. Из самоназвания «хетты» (Hatti), в протоармян-
ском *Hatjos или *Hatijos, по нормам звуковых переходов армянского языка
закономерно образовалось «хай-» — нынешнее самоназвание армян.
Грузины же называли армян по ближайшей к ним армянской области Сух-
му — получилось название «сомехи» (как и по сей день грузины называют
армян), а в арамейском и персидском — по такой же области Арме. Так полу-
чилось название «армяне», перешедшее от персов к грекам и распространив-
шееся далее по Азии и Европе.
Поскольку армянам пришлось не раз отстаивать свою территорию и са-
мостоятельность от мощных соседей, в армянской науке была очень сильна
тенденция доказывать исконность проживания армян в Закавказье: мол, они
ниоткуда не переселялись, миграции (из Фригии) осуществлялись только вну-
три Малой Азии, а элементы фригийского заимствовались в результате сосед-
ства (см. Ишханян, 1982). Сторонники этой концепции подчеркивали обилие
сходств армянского с местными языками Малой Азии, особенно хурритскими
(Урарту), незначительность индоевропейских корней (это во многих работах
отстаивал Капанцян) и отвергали особое родство армянского с фригийским.
Они с энтузиазмом встречали гипотезы об индоевропейской прародине в Ма-
лой Азии или Закавказье — ведь тогда армян ниоткуда не нужно выводить,
они живут на своей исконной прародине. Поэтому концепция Дьяконова на-
талкивалась в Армении на ожесточенное сопротивление.
Ныне отдельные выступления сторонников автохтонности армян в Закав-
казье, конечно, возможны (автохтонность всё еще имеет хождение среди по-
пулистских политиков, всё еще звучит ультрапатриотически). Но концепция
Дьяконова завоевала общенаучное признание, и даже на Кавказе в основном
уточняются ее детали — расположение основных племенных групп — запад-
ные мушки (фригийцы и мисы), восточные мушки (армяне), даты их миграций и т.
п. Но при всех уточнениях остается неясным, где жили протоармяне до проник-
новения в Закавказье — до XII в. до н. э. Ясно лишь, что они пришли в Малую
Азию вместе с фригийцами откуда-то с Балканского полуострова. Дальнейшее
проникновение в глубь веков приходится осуществлять, держась за фригийцев.
Впрочем, Мэллори в своем обзорном труде пишет: «Увязка фригийцев
и армян с одной и той же широкой волной миграций запутывает их происхо-
ждение почти безнадежно» (Mallory, 1989: 35). Всё же попытаемся распутать.
5. Историческое предание и лингвистика. Фригийцы больше всего
известны каждому образованному человеку по двум вещам. Во-первых, по
III. Гордиев узел 115
126
фригийскому колпаку, который французы во время Великой французской ре-
волюции сделали символом революционной Франции. Во-вторых, по леген-
дам об их первых царях.
Был у фригийцев царем Мидас, прославленный своим благословенным
царствованием. Согласно легенде, он настолько понравился богам, что ему
было предложено испросить любое пожелание, и оно будет исполнено. Мидас
пожадничал и захотел, чтобы всё, к чему он прикоснется, превращалось в золо-
то. Пожелание было исполнено буквально, и Мидас едва не погиб, так как лю-
бая пища, как только он прикасался к ней, немедленно превращалась в золото.
В другой раз он тоже разгневал божество. По мифу, Аполлон состязал-
ся с Паном, чья музыка лучше. Судить был приглашен царь Мидас, и он отдал
первенство Пану. Разгневанный Аполлон, считавший, что только осел может
не слышать превосходства его музыки, наградил Мидаса ослиными ушами. Тот
прятал их под высоким фригийским колпаком, и знал о новом отличии царя
только его брадобрей, поклявшийся хранить эту тайну. Но словоохотливого
брадобрея так и подмывало поделиться с кем-нибудь. Не в силах сопротив-
ляться этому желанию, он вырыл в поле ямку и наедине прокричал в нее свою
тайну. И закопал. Но в этом месте вырос тростник, дети сделали из него ду-
дочки, а в их игре стали слышны слова: «У царя Мидаса ослиные уши». Так это
стало известно всем.
Мидас — фигура историческая, его имя (как Мита) есть в надписях X в.
до н. э. (т. е. он жил в Малой Азии за два века до Гомера). Столица Фригийско-
го царства, Гордион, согласно мифу, основана его отцом Гордием. Вероятно,
Гордий было традиционным царским именем у фригийцев. Другой Гордий, сын
Мидаса, оставил колесницу с запутанным узлом на ярме. Кто развяжет горди-
ев узел, гласило предание, тому владеть всей Азией. Александр Македонский
разрубил его мечом.
Как бы там ни было, фригийцы явно входят в одну ветвь индоевропей-
цев с армянами, греками и ариями. Правда, черт, общих для этой группы,
они имеют меньше других, а по некоторым морфологическим особенностям
объединяются с западными соседями, особенно с балтами. Учитывая это,
можно заключить, что, видимо, их первоначальная область лежала на край-
нем севере ареала общих предков этой группы — глубоко в материковой
части Балкано-Карпато-Дунайского региона. Но исследователи выводят их
из разных районов — скажем, польский исследователь В. Пайонковский,
специально занимавшийся пеонами (вероятно, из-за сходства со своей фа-
милией, которая, однако, образована от польского слова paj^k 'паук'), считал
очагом протофригийцев территорию нынешней Румынии. По данным топони-
мики (местные названия), ономастики (имена) и мифологии (миф о приходе

128 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
Пелопса, мифического родоначальника династии Атридов) реконструируется
их незапамятно раннее нашествие на Грецию, о котором более реалистичного
исторического предания не сохранилось, но которое увязывается с некото-
рыми археологическими находками (об этом говорилось в предшествующей
главе).
В Малой Азии фригийцы, конечно, поздние пришельцы. В хеттское время
их там не было: никаких фригийцев и фригийских слов хеттские источники
не знают. Гомер (VIII—VII вв. до н. э.), чей географический кругозор в Малой
Азии был весьма узок, знает фригийцев только неподалеку от Илиона — на се-
верном берегу Малой Азии, к востоку от оз. Аскания (Никейского). Геродот же
(V в. до н. э.) знает и эту фригийскую территорию, и Великую Фригию в цен-
тре Малой Азии, со столицей в Гордионе (рис. 53). На обеих территориях есть
позднефригийские надписи, по которым видны два диалекта фригийского
языка, соответствующие этим двум территориям. Но древнефригийские над-
писи (с VII в. до н. э.) есть только в Великой Фригии — они сплошным пятном
закрывают западную часть центра Малой Азии, между верховьями Сангария,
Герма, Меандра и озером Татта.
Геродот сообщает (VII, 73), что фригийцы отселились из Македонии, т. е. что
они первоначально жили на Балканах к северу от Греции и что они там называ-
лись бригами (Bpiysi;, у других авторов Bpuyoi), а уже в Малой Азии получили
наименование фригов, фригийцев (Фр(у£<;). Это сообщение может быть конструк-
цией античных ученых, призванной объяснить сходство племенных названий:
в Македонии и позже обитали брюки (brykes, brykai, brykeoi), причислявшиеся
к фракийцам, и звучали имена Brygias, Brygion, Brykeis. Но и Ксанф Лидийский
(пересказан Страбоном) говорит о приходе фригийцев из Европы, от левого (за-
падного) берега Черного моря — это другой вариант их размещения в Европе.
Сам Страбон (VII, fr. 38) считает, что родина фригийцев — Пеония, т. е. земли
Северной Македонии. А Геродот к своему сообщению о фригийцах добавляет, что
вифинцы (т. е. северные фригийцы) называют себя стримонцами — выходцами
с берегов Стримоны, из Македонии. То есть он передает местное предание.
По данным археологии, фригийцы осели в Вифинии, т. е. на северном
побережье Малой Азии, примерно в IX в. — это установлено по появлению
курганов, действительно из Македонии, судя по сходству этих курганов и их
культуры с болгарскими курганами. Наконец, диалект северных фригий-
цев, по заключению 0. Хааса, ближе к македонскому языку, тогда как южных
(центральномалоазийских) — к греческому.
Напрашивается идея связать переселение бригов на юг с движением «на-
родов моря» за несколько веков до обнаружения фригийцев в Малой Азии, но
среди «народов моря» фригийцы не упоминаются.
III. Гордиев узел
129
Рис. 53. Фригийцы в Малой Азии и на Балканах (по И. M. Дьяконову, 1980)
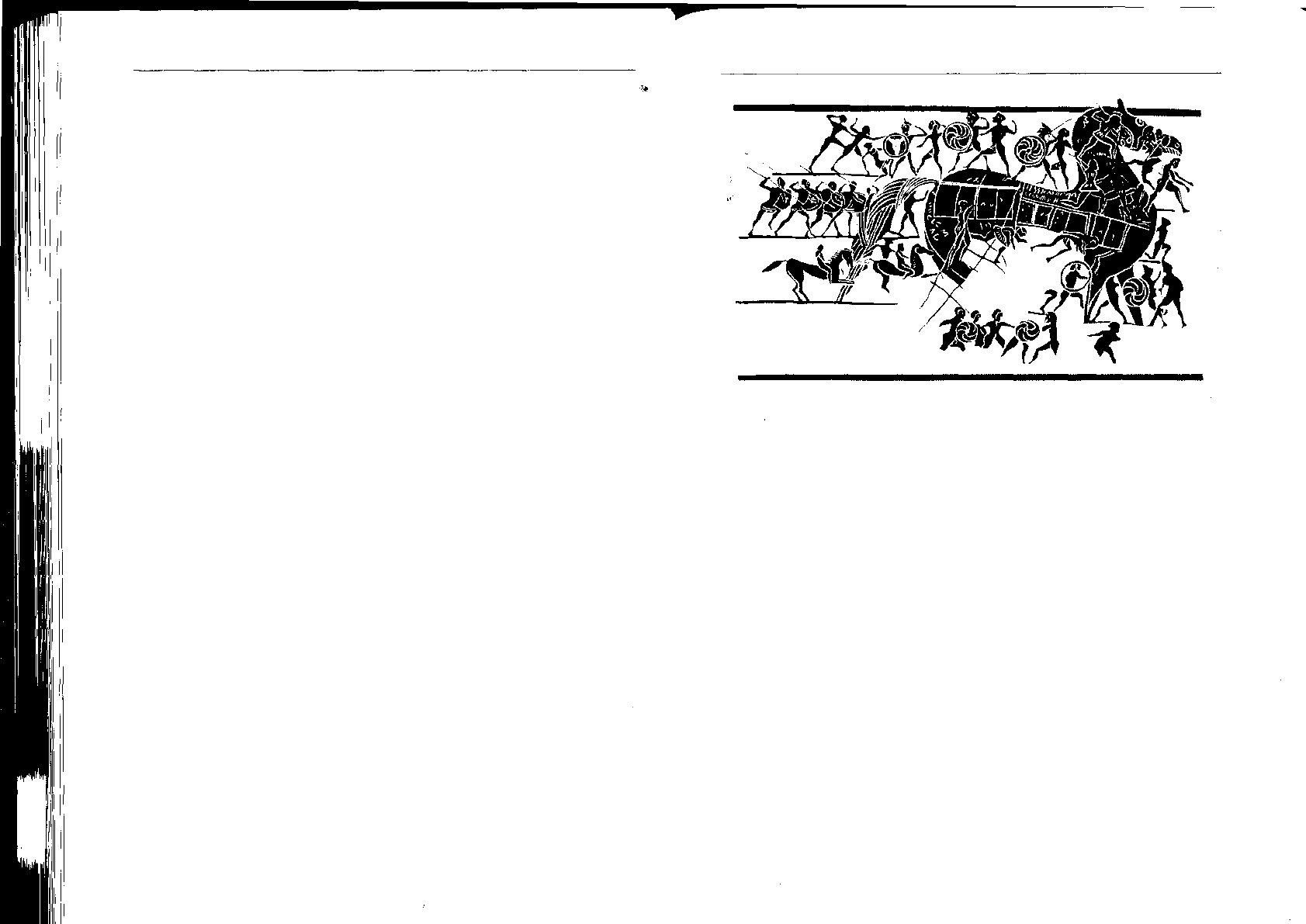
114
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ Введение
6.Троянская война. Самый грозный, сокрушительный и, следовательно,
самый мощный поток «народов моря» прошел к концу XIII — началу XII вв.
именно по восточному побережью Средиземного моря, а перед тем — через
Малую Азию. Египет явно знал не всё об этом движении — он зафиксировал
только тот выплеск, который докатился до дельты Нила. Наверняка не все
народы названы, да и названные имена плохо понятны. А хетты,увы, молчат.
Однако был на пути этого сокрушительного потока один пункт, который
потоку нельзя было миновать и который известен истории очень подробно —
по легендам и по археологии. Миновать его нельзя, потому что там переход из
Европы в Азию, проливы, Боспор и Дарданеллы. Этот пункт — Троя.
Молчание источников иногда очень красноречиво. Особенно в тех слу-
чаях, когда источник умалчивает о том, о чем говорил прежде. Присмотримся
к сообщениям Рамсеса III. Нетрудно заметить, что на сей раз в союзе с да-
найцами нет троянцев — а ведь были во времена Мернептаха! Очевидно, Троя
тоже погибла к этому времени — по Гомеру, именно от рук данайцев (значит,
своих прежних друзей?). Троянскую войну греческая традиция относит при-
мерно к этому времени (XIII в.). По археологическим данным, в частности по
находкам импортной микенской керамики, неплохо датированной, Троя была
разрушена на рубеже XIII-XII вв. Падение Трои должно было предшествовать
гибели Хеттской империи: ведь Троя стояла впереди хеттов на пути всесокру-
шительного потока «народов моря».
Но ведь троянцы еще незадолго до того и сами входили в его состав. Что
же произошло?
Ныне, сто с лишним лет спустя после подвижнических раскопок Шлимана,
более полувека после повторных раскопок Блегена и несколько десятилетий
после раскопок Корфмана там же, все верят, что Троя — не плод поэтического
воображения, что Троянская война была в действительности. Правда, только
специалисты знают, что теперь уже историчность событий и некоторых глав-
ных действующих лиц Илиады подтверждена и письменными документами —
как косвенно, так и прямо. Но лишь некоторые специалисты сознают, что, не-
смотря на всё это, достоверность Гомера в изложении событий крайне нена-
дежна и основные факты остаются под вопросом. И тот, что раскопана именно
Троя, и тот, что Троянская война — историческая реальность, археологически
подтвержденная.
По Гомеру, Трою осадили объединенные союзные войска и флот ахейских
государств Греции под предводительством микенского царя Агамемнона, Атре-
ева сына. Осаждающие ссорились, и это вредило осаде. Дальнейшие события
описаны в других поэмах, не Гомера, дошедших до нас в сокращенном пере-
ложении. После девяти лет безуспешных боев ахейцы-данайцы по наущению
III. Гордиев узел
130
Рис. 54. Троянский конь, как его представляли и изображали древние греки.
Чернофигурное изображение с коринфского арибалла ок. 560 г. до н. э.
Одиссея пошли на хитрость: заключили мир с осажденными троянцами и по-
дарили им огромного деревянного коня, внутри которого посадили воинов.
Троянцы проломили стену, чтобы ввезти статую в город (рис. 54, илл. 21, 22).
Корабли отплыли, однако ночью вернулись. Выбравшиеся из коня воины от-
крыли ворота, через них и через пролом в стене ахейцы ворвались в город.
Троя была разрушена и сожжена, ее царь Приам и его сын Парис-Александр
убиты (старший сын Гектор погиб еще во время осады). Возвращение одного
из героев осады, Одиссея, описано опять Гомером, на сей раз — в совершенно
сказочной поэме «Одиссея».
Руины Трои вроде бы найдены (рис. 55, илл. 23) недалеко от нынешнего
Стамбула (Константинополя), у другого конца проходного Мраморного моря
(Стамбул — у северного пролива, Троя — у южного). Подобно Константино-
полю, Троя — пункт стратегический, предмет заботы и вожделений разных
претендентов на доминирование над обширным регионом. Здесь наиболее
уязвимое место (переправа) единственного сухопутного маршрута из Европы
на Ближний Восток через Малую Азию. И здесь же опорный пункт (в проливе)
Для кораблей, способных контролировать морской путь из Средиземного моря
в Черное — путь аргонавтов.
Как ни странно, за последние без малого три тысячи лет всего две народ-
ности сменилось в Константинополе: сначала им владели греки, потом турки.
Вроде бы точно так же обстояло дело перед тем с Троей: за три тысячи лет
в
ней сменилось всего две-три археологические культуры (если не считать
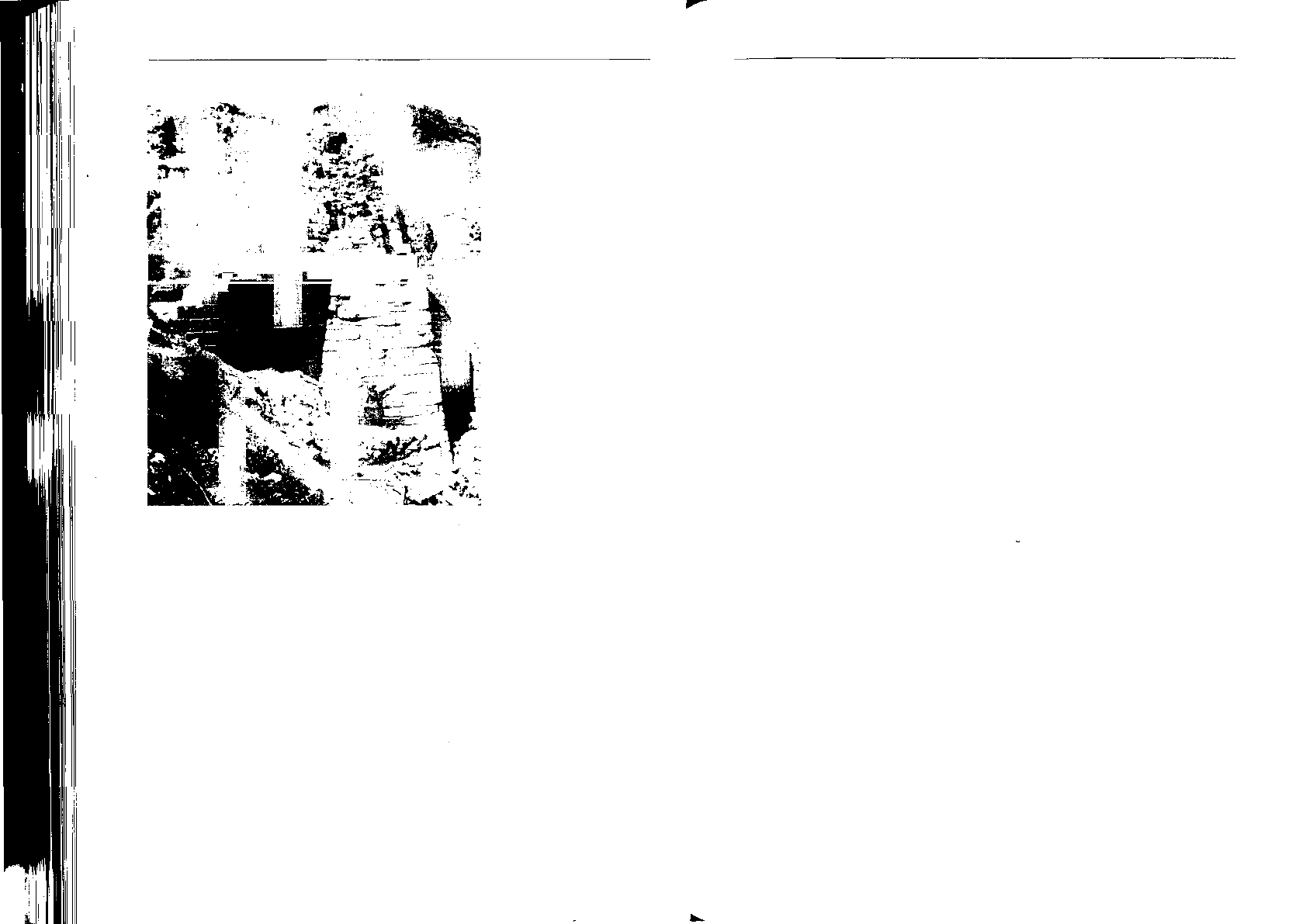
132
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
небольшого заверши-
тельного эпизода, о ко-
тором особо).
Семь мощных слоев
раскопал здесь Шлиман,
еще два, гораздо более
поздних, были выявле-
ны на склонах после его
смерти (Илл. 24-25). Пер-
||i I j'*, вый слой (снизу) — это
* - •" одна культура, со второ-
го по пятый развивалась
другая, но родственная
с первой, ее сменила тре-
тья, родственная грече-
ской и хеттской — с ло-
шадьми, серой керамикой
и с остатками в урнах.
Это Троя VI и Троя Vila.
Троя VI, самая могучая
из всех сменявших здесь
одна другую цитаделей,
просуществовав более
половины тысячелетия,
погибла, возможно, от
землетрясения в первой четверти или середине XIII в., и это землетрясение
вспоминали гомеровские герои. Археологи обнаружили в этом слое сдвинутые
и обрушенные крепостные стены — они падали целыми блоками.
Город был отстроен наспех: в стену клали необработанные камни, дома
стали меньше, беднее. Это и есть Троя Vila. Она существовала недолго.
Это был тревожный период. Население окрестностей стекалось в город,
под защиту крепостных стен. Даже улицы застроены времянками. Пифосы
(огромные сосуды для припасов) оказалось выгодно закапывать в землю до
горловины: увеличилась вдвое вместимость кладовых. Жители явно готови-
лись к осаде. Причина тревоги ясна: ухудшились отношения с ахейцами —
привозной греческой керамики с островов стало гораздо меньше, чем прежде,
а привозной с материка, можно даже сказать, вовсе не стало. У крепостных
ворот выстроено помещение с провизией, большой пекарней и кухней. Види-
мо, при осаде воины отряда, охранявшего ворота, уже не могли отлучаться.
Рис. 55. Расколки Трои. Троя VI, северная стена,
в Н. Schliemann «Abenteuer meines Zebens»,
A. StolL, Leipzig, 1958
III. Гордиев узел
133
Троя Vila погибла от насильственного разрушения и огромного пожара.
Слой пепла достигает в толщину полуметра и даже метра. Среди руин и пепла
валяются куски скелетов. Трагический финал.
По немногочисленным обломкам привозной греческой керамики, хро-
нология которой неплохо разработана, археологи датировали это событие
в пределах XIII в., особенно доказательно греческий профессор Милонас —
самым рубежом XIII-XII вв.
В Греции город Фивы, захваченный царем Орхомена Этеоклом, сыном
Эдипа, по преданию, дважды пострадал от соседей. Сначала «Семеро против
Фив», затем сыновья и преемники «семерых» — «эпигоны», которые и раз-
рушили Фивы. Это было перед самым походом на Трою: «эпигоны», победите-
ли Фив, участвуют в троянской кампании, а Фивы, естественно, не участвуют.
Раскопки в Фивах показали, что город разрушен тогда же, когда и Троя, — на
рубеже веков. Даты, стало быть, сходятся.
Еще древнегреческие авторы пытались определить точно дату падения
Трои. Они опирались в своих расчетах на легендарные перечни царей и сведе-
ния о длительности правлений каждого. Конечно, это шаткая опора (сведения
сбивчивы, неполны и разноречивы), так что выводы расходятся, но большей
частью греки относили это событие к началу XII в. Назывались годы (в пе-
ресчете на наше летосчисление) 1190, 1184, но и 1135, 1334... Всё же сама
близость дат к результатам археологии показательна. Но, пожалуй, в сужении
интервала археология всё-таки надежнее.
Замечу еще раз: если в 1220 г. в ливийской коалиции против фараона
Мернептаха тереш участвовали вместе с экуэш (ахейцами), то в 1186 г. в пол-
чищах, подошедших к Египту по восточному побережью Средиземного моря,
денйен (данайцы) есть, а тереш нету. Нет уже, стало быть, не только хеттской
империи, нет и неких троянцев, живших к западу от нее. Да и неясно: денйен
(данаи, данайцы) — это то же, что ахейцы, или нет. Для Гомера — это одно и то
же, но Гомер жил полтысячи лет спустя. Для него Илион и Троя — это одно и то
же (во всей Илиаде так), а в реальности, по хеттским источникам того времени,
было два разных города.
7. Хетты, ахейцы и Троя. Теперь для уточнения реальной политической
обстановки той поры, особенно в Малой Азии, где расположена Троя, есть
смысл обратиться к письменным документам — к добытой раскопками и рас-
шифрованной переписке хеттских царей с соседями.
Как известно, у гомеровской Трои есть второе имя — Илион. В Гоме-
ровском эпосе оба имени не различаются, Троя и Илион упоминаются впе-
ремешку — как один город. Но когда я сравнил эпитеты, застывшие при этих

132
132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
названиях в Илиаде, оказалось, что они описывают разные города. Один го- *
род (Троя) — на тучной почве в долине, другой (Илион) — на возвышенно-
сти, обдуваемый ветрами. Возникло подозрение, что немецкие ученые XIX в.
были правы: гомеровский эпос сложился из смеси нескольких песен о раз-
ных городах, разных героях и разных событиях. Проверив другие синонимы
в Илиаде (их в ней ненормально много), я установил, что они тоже по-разному
распределены в ее главах, и более того, что пики распределения одних совпа-
дают с пиками распределения других. То есть что подозрение оправдывается.
В частности, в одних песнях главный герой — Ахилл, в других Диомед. В од-
них песнях осажден город Троя, в других — Илион. Царевич, из-за которого
началась война, в одних песнях — Александр, в других — Парис, и т. д. Все
эти заключения я изложил (с приведением всех карт и статистических таблиц)
в моногафии «Анатомия "Илиады"», к которой и отсылаю интересующихся
доказательствами.
В хеттских документах (написанных клинописью на глиняных табличках
и расшифрованных) упоминаются в северо-западном углу Малой Азии непода-
леку друг от друга два города — Таруйса и Вилюса (рис. 56). В них опознали эти
два имени — Троя и Илион (в раннем греческом — Илиос,еще раньше — Вилиос).
Шлиман раскопал Илион — город, который сохранился до античного вре-
мени. Это ясно из надписей на обнаруженных камнях. Где была Троя, более
древний город, неясно. До античного времени он не дожил. С моей точки зре-
ния, он находился на о. Лемнос напротив Илиона и совпадает с раскопанным
итальянцами поселением близ Полиохни. Именно это был главный город все-
го региона. Мои выводы о двух городах И. М. Дьяконов принял и ввел в свой
учебник истории Древнего Востока, а предположение о Полиохни он счел не-
достаточно доказанным. Во всяком случае, когда я называю раскопанный в Гис-
сарлыке город не только Илионом, но и Троей (говоря о Трое II, Трое VI и т. п.),
это нужно понимать условно — как дань научной традиции. Эпос о Троянской
войне сложился из песен о двух городах — Трое и Илионе, а в котором из них
реально происходили эпические события — неясно. В том виде, в котором они
представлены в эпосе, — скорее всего, ни в каком реальном городе не происхо-
дили. Но некоторые события как-то (очень слабо) привязываются к Илиону —
Вилюсе (всё-таки этот город существовал до более поздних времен).
Судя по хеттской дипломатической переписке, в XIV—XIII вв. на западе
Малой Азии существовала слабо оформленная ассоциация из пяти лувий-
ских государств, в которое входила и Вилюса-Илиос (т. е. Гомеров Илион),
а возглавляла союз Арцава — царство к юго-востоку от Трои-Илиона. Ино-
гда эта ассоциация враждовала с хеттами, но чаще принимала хеттское по-
кровительство. Вспомним, что дрднй (дарданой, дарданы) были союзниками
III. Гордиев узел 66
134
1. [Ард]укка (в Киликии)
8. Каракиса (Корикесий в Панфилии)
15.Куруппия
16. Лукка (Ликия)
21. Вилуса (У'иллиос, Илиос, Илион)
22. Таруйса (Троиса, Троия)
Рис. 56. Троя и Илион в хеттской «Хронике
Тудхалии IV» (вторая треть XIII в. до н. э.) —
списке стран, усмиренных хеттами.
Список из 22 позиций построен в географическом
порядке с ЮВ на СЗ см. Л. С. Клейн. Анатомия Илиады,
1998, с. 44-57, рис. 3
хеттов в битве при Кадеше,
а Гомер называет кетеев (хет-
тов) в числе союзников Приама
в Троянской войне. У Гомера
хетты представлены очень сла-
бо — они не выделяются среди
других союзников Трои, и это
естественно: ко времени жиз-
ни Гомера Хеттской империи
уже давно не существовало,
а наследниками ее имени объ-
являли себя незначительные
государства на задворках Ма-
лой Азии, у самого края геогра-
фического кругозора Гомера. В эпоху Илиона (археологической Трои) обста-
новка была, конечно, совсем иной.
Хетты весьма интенсивно и на равных или почти на равных сносились
с Аххиявой — ахейским царством. Многие современные историки помещают
его на островах или на западном или южном побережье Малой Азии, относя
название к одной из здешних ахейских колоний, засвидетельствованных ар-
хеологически (о. Родос, город Милет и др.). Но когда речь идет о резиденции
царя, всё-таки это, скорее всего, была материковая Греция, прежде всего Ми-
кенское царство. Вряд ли слишком близко от хеттов могло долго существовать
и весьма независимо держаться крупное государство. Во многих отношени-
ях оно выступает как далекое и заморское, хотя и владеющее территориями
в Малой Азии.
С энтузиазмом, талантом и проницательностью Э. Форрер и его после-
дователи опознавали в странных, возможно, исковерканных именах истори-
ческих деятелей из хеттских документов знакомые имена героев греческого
эпоса и мифов. Это встретило резкую критику многих специалистов. Скептики
обращали внимание на то, что в парах сопоставляемых имен нет полных зву-
ковых соответствий, требуемых правилами сравнительной лингвистики. Да
и хронологические соотношения не совсем те, что в эпосе и мифологии. Но
это явно завышенные претензии. От певцов, повторяющих понаслышке, не из
первых уст, отдельные, выхваченные из речи личные имена далеких и давних
иностранных исторических деятелей, трудно ожидать, чтобы они пунктуально
соблюдали регулярные звуковые соответствия, реализуемые в массовых и по-
стоянных контактах между соседними народами при заимствовании широко
Употребительных терминов. Скорее тут надо предположить принципы игры

136
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
III. Гордиев узел
137
в «испорченный телефон». Немногим лучше обстояло дело и с эпизодиче-
ской записью чуждых имен хеттскими писцами и чиновниками, возможно, и не
имевших прямого контакта с иностранцами, а получавших сведения от раз-
ведчиков или послов. Что же до хронологии, то фольклор редко отображает
реальные хронологические отношения.
Когда-то многие отрицали, что ахейцы были населением Микенской
Греции, но расшифровка линейного письма В подтвердила это отождест-
вление. Потом стало хорошим тоном отвергать размещение центра Аххиявы
хеттскими источниками в Микенах, но и эта идентификация пробила себе
дорогу — аргументы в пользу Микен собраны И. М. Дьяконовым в «Истории
армянского народа» (Ереван, 1964) и Р. Гордезиани в «Проблемах гомеров-
ского эпоса» (Тбилиси, 1978). Теперь скептики завзято предостерегают от
увлечений внешним сходством имен. Эта мода тоже пройдет, а сопоставле-
ния останутся.
В начале XIV в. хеттский царь Тудхалияс III действует в союзе с царем
Аххиявы по имени Акагамунас. Если это воспроизведение имени Агамемнона
(греч. Агамемнонос), «высшего царя» (переку-ванаки) ахейцев, то, увы, неточ-
ное. Но ведь это были первые контакты хеттов с Аххиявой. Да и неточность не
так уж велика: в череде согласных этого длинного имени между «г(к)» и «м»
вместо еще одного «м» проставлено еще одно «г», и два носовых звука («мн»)
слились в один («н»):
Ага мемн оное
Ака гам унас
Звукосочетание -гам- вместо второго слога оказалось в третьем, но про-
изнесено. Да и у самих греков это имя пишется по-разному. На вазах написано
то Агамеммон, то Агаменон, а языковеды по косвенным основаниям предпола-
гают и формы Агамедмон и Агаменмон. Не обязательно думать, что это другой,
более ранний Агамемнон: фольлор вполне мог «поручить» верховное коман-
дование осадой Трои этому влиятельному древнему правителю — партнеру
хеттского царя, а ко времени Гомера — уже былинному герою.
Дружба хеттов с ахейцами была длительной: сын Тудхалияса III Супил-
лулиумас I, прогневавшись на жену (возможно, ахейскую принцессу) и опаса-
ясь ее интриг (в Хаттусасе царицы были чрезвычайно влиятельны), выслал ее
в Аххияву. Его сын Мурсилис II, заболев, попросил привезти ему богов (ста-
туи) из Аххиявы и с Лацбаса (Лесбоса), надеясь, что они его исцелят.
Из всехТудхалиясов и Мурсилисов на хеттском троне именно эти два царя
XIV в., периода дружбы с Аххиявой, видимо, вошли в генеалогическую леген-
ду Микенской династии Пелопидов. Пелопс — исконный родоначальник дина-
стии (Пелопия — имя жены обоих Атридов и дочери одного из них) — фигура
Рис. 57. Фронтон над Львиными воротами в Микенах
местная, греческая или догреческая. Пелопоннес — в переводе «остров Пе-
лопа». Эта персонификация перестала удовлетворять амбиции Микенских
царей. В это время хеттские цари шли к разделу мира с Египтом — вскоре
Муваталлис поведет в «битву народов» при Кадеше целую свиту вассалов
и сателлитов. Поэтому хеттские цари этого времени были образцом, идеалом
и мерилом власти и могущества для ахейских династов, только что вышедших
на арену мировой политики. Ведь как раз в XIV в. выстроена Микенская цита-
дель, в XIII в. — Львиные ворота (рис. 57, илл. 11) на манер хеттских порталов
со львами (рис. 58). Теперь ахейские династы стремились возвести свою ро-
дословную именно к этим малоазийским властелинам.
Отцом Пелопса, основателя микенской династии, был объявлен малоазий-
ский царь Тантал (Танталос), в котором Ж. Пуассон распознал Тудхалияса (Тут-
халияса). Интересно, что в мифе имя Тантала носит и двоюродный брат Агамем-
нона, современника и союзника Тудхалияса III, и этот Тантал является первым
мужем Клитемнестры, жены Агамемнона. Впрочем, возможно, что отразилась
и память о Тудхалиясе II (середина XV в.) — действительном основателе данной
хеттской династии, в которой было еще два Тудхалияса — III и IV.
Выиграть колесничные ристания и тем добыть жену и царство в Греции
Пелопсу в мифе помог возничий будущего тестя Миртил (греч. Мюртилос).
Его прообраз — хеттский царь Мурсилис. Хеттский знатный возничий (ко-
нечно, не сам царь) обычно предоставлялся полузависимым царям в качестве

138
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
III. Гордиев узел
139
Рис. 58. Львиные ворота в Хаттусе (фото из книги 0. Герни, 1987)
почетного провожатого (и одновременно надзирателя) при их визитах к хетт-
скому царю за апробацией власти, за инвеститурой. По легенде, Миртил стал
затем претендовать на жену Пелопса Гипподамию и на полцарства и был ко-
варно убит Пелопсом и сброшен со скалы. Видимо, в такой добавке сказалось
последующее противостояние обеих сил.
Отношения начали портиться еще при Мурсилисе II. К концу его царство-
вания положение на востоке усложнилось: царь Ассирии Ададнирари I завер-
шил разгром Митаннийского царства, взяв в плен царя Вассашатту, и Ассирия
превратилась в великую державу. Одновременно начались первые столкно-
вения хеттов с египтянами в Сирии. У хеттского царя оказались связаны руки,
чем и воспользовались западные соседи, постепенно становившиеся всё бо-
лее активными.
Когда царь страны Арцава, выступивший в союзе с правителями Милава-
ты и Вилюсы против хеттов, был разбит, он бежал «за море» в Аххияву и не
был выдан (подобные перемещения были реальным образцом для легендар-
ного переселения Пелопса). Стало быть, Вилюса (Илион) пребывает в это вре-
мя в союзе с ахейцами и в оппозиции к хеттам.
Ближе к концу своего царствования Мурсилис II (его годы правления —
1339-1306) направил ахейскому царю письмо, адресованное как равному
(«мой брат») и содержащее сетование по поводу покровительства ахей-
цев некоему Пиямаратусу. Этот агрессивный субъект был разбит. Он бежал
в Милавату (Милет) к своим зятьям Аваянасу и Атпасу, правителям Милаваты,
вассалам царя Аххиявы, а затем, когда хеттский царь прибыл и туда, правите-
ли Милаваты получили от царя Аххиявы распоряжение выдать Пиямаратуса
(но ни подарков, ни привета хеттскому «брату»). Пиямаратус бежал дальше —
в саму Аххияву и оттуда стал делать набеги на хеттские владения. Он надеет-
ся на следы старых раздоров между Аххиявой и хеттами (значит, к этому вре-
мени такие уже давно происходили) и на продолжение недавнего конфликта
между ними же из-за Вилюсы (Илиона). Однако этот недавний конфликт за-
вершился уступкой хеттов ахейскому царю (вот как!), давние же оскорбления
хеттский царь просит простить: он был тогда молод и горяч. Он предлагает
свалить всю вину за ссору на хеттских и ахейских послов и для полюбовного
улаживания дела казнить их.
Хеттский царь просит ахейского царя гарантировать замирение Пияма-
ратуса, или выгнать его, или выдать его хеттам. Он обещает не причинять ему
вреда и посылает за ним возничего очень высокого ранга (женатого на род-
ственнице царицы) — того, который уже стоял на колеснице у брата ахейского
царя Атавакулаваса (очевидно, при его визите в Хаттусас). В этом брате узна-
ют Этеокла (ранняя греч. форма имени: Этевоклевес), мифического царя Ор-
хомена, — того, который захватил греческие Фивы за поколение до Троянской
войны, что и вызвало нападение «Семерых» на Фивы.
Этот важный документ историки приписывали разным царям, но в конце
концов по другим документам было точно установлено, что автором был Мур-
силис II.
Судя по более поздним документам, Пиямаратус был выдан хеттам.
В известной мере эпизод повторяет историю с царем Арцавы: там был
союз Арцавы с Милетом и Илионом, а потерпев поражение от хеттов, царь
Арцавы бежал в Аххияву. Здесь Пиямаратус (его исходная база неизвестна)
связан с Милетом, рассчитывает на ссору ахейцев с хеттами из-за Илиона и,
потерпев поражение, бежит сначала в Милет, потом в Аххияву. По-видимому,
общая раскладка сил оставалась одинаковой, что и порождало стереотипные
эпизоды. Это позволяет предполагать, что Илион по-прежнему был на стороне
врагов хеттского царя и, следовательно, в дружбе с ахейцами. Этому вполне
соответсвует обилие микенской импортной керамики (включая привозную
с греческого материка) в Трое VI.
8. Илион без Троянской войны. Ситуация резко изменилась при Мува-
таллисе на хеттском троне (1306-1282). Это при нем состоялась знаменитая
битва при Кадеше с войсками Рамсеса II, укрепившая хеттское могущество
в Азии. Небольшие государства запада Малой Азии, вроде Трои, должны были

132
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
признать его диктат, но ахейцы, сами набиравшие силу и располагавшие ис-
ходной базой за морем, т. е. в безопасности, оказали сопротивление и даже
предприняли натиск. Именно в это время, в условиях соперничества с хет-
тами, и были выстроены Львиные ворота в Микенах в подражание хеттским
сооружениям (Малая Азия усеяна каменными львами хеттского времени). Ве-
роятно, в это время и были заложены основы упомянутой генеалогической
легенды, возводившей ахейских царей к тем же предкам, от которых проис-
ходил Муваталлис — к Тудхалиясу и Мурсилису. Этой легендой ахейские цари
утверждали свое равенство с хеттскими — равенство, которое, видимо, оспа-
ривалось. Образы давно умерших Тудхалияса и Мурсилиса, ставшие в грече-
ском мифе Танталом и Муртилом, выполняли ту же функцию, что и два льва на
Микенских воротах.
Илиону (Вилюсе) было не до таких претензий. Хетты были достаточно
близки и достаточно сильны, чтобы навязать свою волю, а стратегическая по-
зиция Илиона для хеттов достаточно важна, чтобы о нем стоило позаботить-
ся. Как показал Дж. Меллаарт, через владения Илиона проходил основной
торговый путь, по которому шло снабжение хеттов европейским оловом для
изготовления бронзового оружия. К тому же на рубеже XIV—XIII вв. (по да-
тировке К. Блегена) Вилюсу-Илион постигла беда: страшное землетрясение,
разрушившее, как показали раскопки, часть крепостных стен и многие дома.
Прибегнуть к покровительству хеттского соседа было единственным разу-
мным решением для илийцев. Переход Илиона на сторону хеттов, естествен-
но, должен был резко обострить его отношения с ахейцами. И действительно,
археология фиксирует пресечение микенского импорта в Трое Vila и призна-
ки осадного положения.
В Илиаде память о хеттском покровительстве можно видеть в том, как
Аполлон оберегал («пас») при отце Приама троянские стада, а во время Тро-
янской войны рьяно защищал Илион. В греческом пантеоне Аполлон — бог
новый и чужой, первоначально связанный отнюдь не с искусствами. Его про-
образ — хеттский бог Апалиунас, охранитель ворот. Естественно, что он за-
щищал «высоковоротную Трою». Вилюса устояла: она и дальше упоминается
в хеттских документах, в которых отражено хеттское покровительство.
К началу XIII в. относится договор хеттского царя Муваталлиса (или Му-
талиса) с Алаксантусом (или Алаксандусом), царем Вилюсы. В этом троянце
видят Париса: ведь у того имелось второе имя — Александр. Из документов
явствует, что когда умер царь Куккунис, отец Алаксантуса, население Вилюсы
не признало сына (кажется, приемного) царем. Тот бежал к хеттскому царю Му-
талису, который приютил царевича и помог ему вернуть трон. Слабый отзвук
этого события австрийский историк П. Кречмер увидел в греческой легенде,
III. Гордиев узел
141
переданной Стефаном Византийским. По легенде, когда Парис-Александр, по-
хитив в Спарте Елену, возвращался в Трою, он по дороге гостил у одного из
малоазийских царей — Мотила (греч. Мотюлос). Сюжет не требовал останов-
ки, так что, видимо, в легенду попросту вторгся исторический факт.
Проф. И. М. Дьяконов заметил, что по хронологии этот Александр при-
ходится Приаму скорее отцом, чем сыном, и припомнил в связи с этим обы-
чай называть внука по деду. Но в этой оговорке нет необходимости: ведь
для фольклора, для эпоса как раз характерно, что он обычно сводит героев
из разных эпох в одну плоскость и при этом изменяет их родственные от-
ношения, а хронология Троянской войны и, следовательно, жизни Приама
сомнительна.
Любопытным может оказаться сопоставление основных событий, свя-
занных с именами обоих Александров — документального и эпического. Кон-
фликт, выделивший Алаксантуса, завязался вокруг его стремления получить
трон, каковые притязания не признавались населением. Конфликт, просла-
вивший Александра-Париса, совершенно иной: он весь закручен вокруг похи-
щения чужой жены. Но у ахейцев явно соблюдался старый (известный в Егип-
те) обычай передачи трона через женщину (царскую дочь или жену). Получив
Гипподамию, Пелопс приобрел вместе с ней и царство. Обоих сыновей Пелоп-
са (Атрея и Феста) миф, чтобы сделать наследниками Пелопса, женит на его
внучке Пелопии. Агамемнон получил микенский престол из рук тестя —Тин-
дарея. Одиссей, согласно Павсанию (III, 20.10-11), с трудом отделался от уго-
воров тестя остаться царствовать в Лакедемоне. Сватаясь к Пенелопе, жени-
хи претендовали на освободившийся трон Одиссея. Орест становится царем
не в царстве отца, Агамемнона, а в Спарте — женившись на дочери Менелая
Гермионе, в Микенах же становится царем Пилад — сын сестры Агамемнона
и муж его дочери. Еще очевиднее роль Клитемнестры — при ее жизни кто
владел Клитемнестрой, тот и сидел на троне в Микенах, а Елена — сестра
Клитемнестры. Если мы вспомним всё это, то притязания на Елену окажутся
не столь уж несерьезным поводом для войны.
Вот только о каком троне шел спор — о спартанском ли? Действительно
ли речь шла о том, чтобы восстановить справедливость и вернуть Менелаю
похищенную суженую, или это фольклорная перелицовка ради очищения
«своих», а на деле всё было наоборот, и ахейский династ претендовал на тро-
янскую царицу Елену и тем самым на троянский трон? Ведь в результате спора
трех богинь («яблоко раздора» и «суд Париса») Елена была присуждена Пари-
су божеством, это буквально его суженая\ По эпосу, Парис и Елена жили как
супруги в Илионе, а после смерти Париса на ней по законам левирата женился
его младший брат Деифоб и хотел жениться другой брат — Гелон, и только
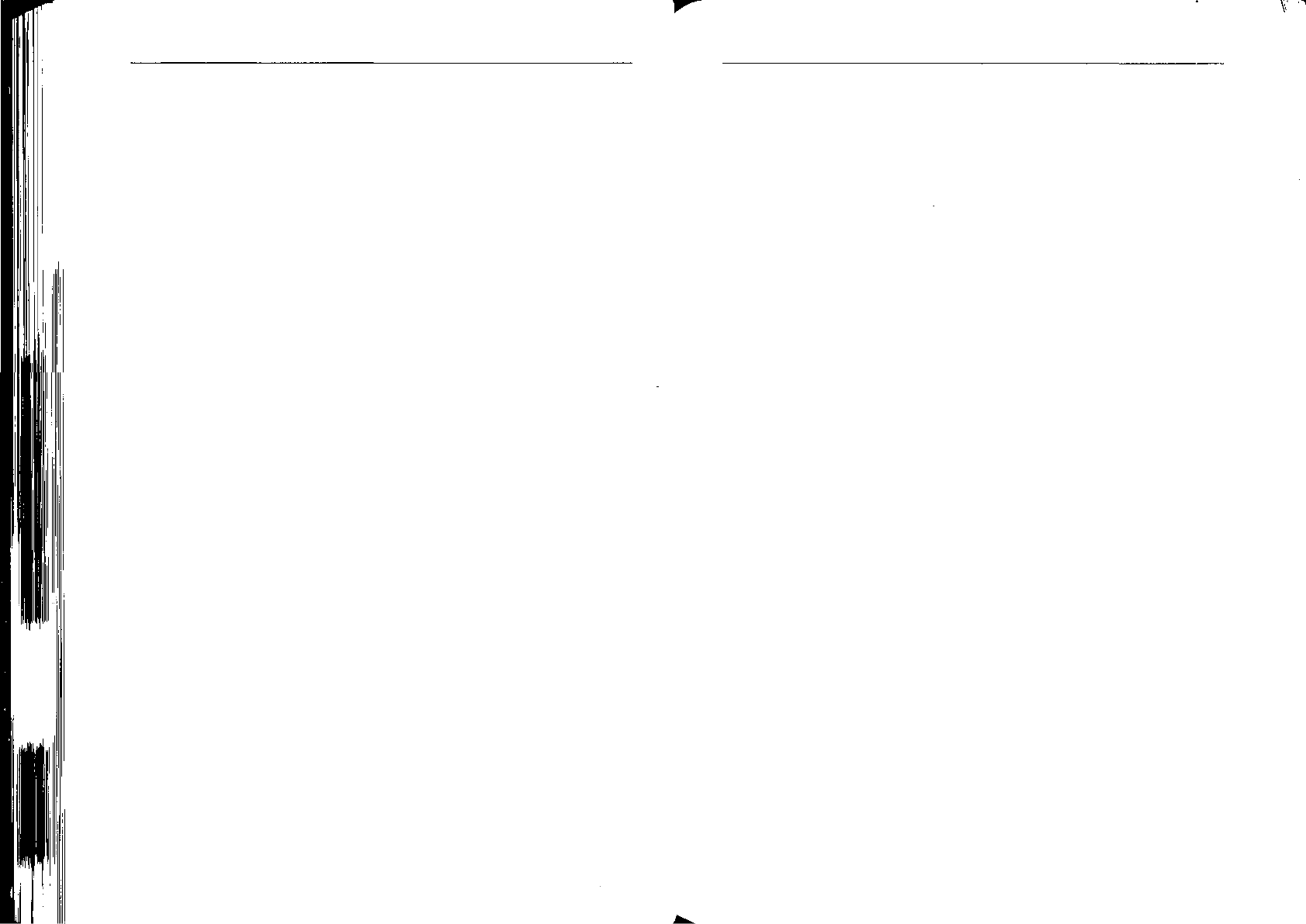
132
Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ
III. Гордиев узел
143
затем она досталась Менелаю! Это было бы совершенно непонятно, если бы '*
Елена была в Трое чужой женой, всеми презираемой. Но всё становится на
свои места, если предположить, что Парис был ее первым и законным супру-
гом, Деифоб — вторым, столь же законным, а Менелай — наглым претенден-
том, женихом типа тех, что сватались к Пенелопе.
И в самом деле, на о. Родосе Елену потом почитали как богиню раститель-
ности с эпитетом Дендритис (Ветвящаяся).
Неправомерность и надуманность претензий Менелая на нее становится
еще яснее, когда мы, благодаря исследованиям С. X. Гордона, узнаем источ-
ник, из которого греки заимствовали саму идею божественной компенсации
за бегство жены. Есть финикийское сказание середины II тыс. до н. э. о Кере-
те, найденное в Угарите (Рас-Шамра). Сказание о Керете гласит: «Его законная
жена поистине ушла от него. Его собственная супруга, которую он получил
за положенные дары, удалилась». Во сне ему явился бог Эл, его отец, и велел
принести возлияние вином и медом, осадить город Удм и потребовать себе
в жены Хурэй, дочь царя. Царь попытался откупиться, но пришлось отдать
дочь. Все эти детали сюжета есть и в предании о Менелае, как оно изложено
у Гомера, также в другой раннегреческой поэме «Киприях» и у Эсхила: Ме-
нелай горюет из-за бегства жены, видит вещий сон, осаждает город, Парис
пытается откупиться, но тщетно, Менелай завоевывает жену.
Судя по имени финикийского героя — Керета, он критянин (ср. библейское
крети, греч. Крета). Значит, финикийское сказание заимствовано у минойцев,
возможно, через ахейцев. Уэбстер показал, что с XVII в. до н. э. на Крите, а за-
тем в материковой Греции — вплоть до XII в. — часто встречались изображения
осады города минойцами (позже — ахейцами), при чем дамы смотрят со стен
города или из окон дворца. Возможно, это иллюстрация уже бытовавшего ска-
зания. Связь Менелая с Критом проступает в том, что Парис и похитил-то Елену
как раз когда Менелай был на Крите (ахейская мотивировка его пребывания на
Крите — похороны его деда Катрея и раздел наследства).
Примечательно, что в ранней версии, хотя жена и покинула героя, он не ее
отвоевывал, а добывал новую, указанную ему богом. Идея отождествить но-
вую избранницу с беглянкой осенила кого-то из создателей Троянского цикла
эпических сказаний, видимо, когда старая сага об осаде города ради завоева-
ния царства (и трона) была привязана к экспедиции под Трою. Общая ситуа-
ция в это время как раз способствовала таким притязаниям: Илион ослаблен,
дружба ахейцев с хеттами расстроена, отношения у них натянутые, с Илионом
же у ахейцев (как свидетельствует археология) в это время полный разрыв.
Полстолетия спустя, в середине и третьей четверти XIII в., при царе Туд-
халиясе IV, иное соотношение и иная раскладка сил. Весь запад Малой Азии
отпал от хеттов, но и не пристал к ахейцам. В этом районе сформировалось
мощное объединение (более двух десятков мелких государств), которое хетты
называют Ассува. Это имя в греческой передаче стало потом названием всего
материка — Азия. В составе объединения упомянуты и Вилюса (Илиос), и Та-
руйса (Троя), стало быть, еще не ставшие синонимами.
Хетты провели несколько кампаний против этого объединения, в одной
из них взяли в плен 10 ООО пеших воинов и 600 колесничих — это показывает
размах военных контингентов Ассувы. Похоже, что Вилюса играла в объеди-
нении далеко не последнюю роль. Это видно вот из чего. После победы хетты
привезли в свою столицу Хаттусас на поселение знать побежденных. Среди
этих вельмож особо названы только Пияма-Инарас, его сын Куккулис и род-
ственник Малацитис, все с детьми, внуками и колесницами. Этот Куккулис, ко-
торый вскоре поднял восстание и погиб, — явно тёзка и, возможно, потомок
того Куккуниса, который был отцом Алаксантуса. То есть, скорее всего, в пле-
ну троянский царевич Куккулис (или Куккунис) II.
По времени уже пора бы появиться Приаму: ведь он был стариком в годы
Троянской войны. Приама нет. Зато перед нами прошли уже два деятеля с име-
нами, первая часть которых — Пияма: Пиямаратус и Пияма-Инарас. Первый
строил какие-то расчеты в связи с конфликтом держав из-за Вилюсы, а вто-
рой является отцом Куккуниса, тёзки прежнего царя Вилюсы. Не илийские ли
это фигуры, и не проступает ли в этих повторениях тронное имя ряда царей
Илиона? Не исключено, что первый из них — Пиямаратус — и есть прототип
гомеровского Приама, по крайней мере, в том, что касается имени. У него есть
важное преимущество в качестве претендента на эту роль: ахейцы его хоро-
шо знали, и в их среде могла сохраниться память о нем в связи с конфликтом
из-за Вилюсы-Илиона. На деле этот авантюрист вряд ли владел Вилюсой, но
мог быть в родстве с ее царями (как был в родстве с правителями Милаваты).
Каковы в это время отношения с ахейцами?
В хронике Тудхалияса IV сообщается, что одна из стран запада Малой
Азии (не входящая, кажется, в состав Ассувы) нарушает покой, и когда дей-
ствующий там царь Аххиявы отступил, хетты пошли в наступление (на эту ли
страну или на ахейцев, неясно: табличка повреждена). В письме к правителю
Амурру (библейских амореев) Тудхалияс сообщает, что равными себе призна-
ёт только царей Египта, Вавилона, Ассирии и... Тут было проставлено назва-
ние Аххиявы, но затем внесено исправление: слово «Аххиява» затерто писца-
ми, и его едва можно прочесть. То ли царь в последний момент передумал, то
ли писец, заготовлявший текст, перечислил равноправных монархов согласно
Дипломатической традиции, а царь внес изменения: в сложившихся обстоя-
тельствах он отказывался признавать ахейского руководителя достойным
