Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк
Подождите немного. Документ загружается.


отдельных людей менее значимыми в их взаимоотношениях друг с другом»
*)
,– заявляет другой
американец, социолог О. Клэпп. В «массовом обществе», где конкретный индивид, по выражению
Клэппа, «растворяется в общей категории», перечеркивающей его индивидуальность, глубокая и
длительная дружба практически невозможна.
Доводы в пользу этого мнения можно условно разделить на две группы. Первая подчеркивает
социальные трудности общения – рост социальной мобильности, экстенсивность и опредмеченность
общения, замену личных контактов деловыми, функциональными. Вторая утверждает, что современный
человек психологически не испытывает потребности в глубокой дружбе или не способен к ней.
Поскольку психология дружбы составляет один из основных аспектов содержания данной книги, мы
подробно рассмотрим ее во втором разделе, пока же по необходимости кратко затронем социальные
стороны проблемы.
То, что пространственная и социальная мобильность меняет характер межличностного общения,–
факт бесспорный. Но всегда ли это означает разобщенность и деиндивидуализацию? Жалобы на
подобные процессы, как мы видели, гораздо старше не только научно-технической революции, но и
самого капитализма. Экстенсивность общения снижает устойчивость отношений, зато повышает
избирательность, заставляя человека выбирать, с кем он хотел бы и может дружить. Отделение
свободно избранной дружбы от «данных» помимо нашей воли соседских и родственных связей была,
как мы видели выше, одной из предпосылок осознания дружбы как особого социального института и
морального отношения. Текучесть и множественность межличностных контактов, с одной стороны,
снижает значимость каждой отдельной связи, а с другой – интенсифицирует потребность в устойчивой
близости, эмоциональном тепле, психологической интимности.
Конечно, поддерживать такие отношения гораздо труднее, нежели те, которые сами собой
вырастают из родства или соседства. Но разве когда-нибудь было иначе? И если современный человек
чаще, чем его предки, испытывает чувство одиночества (так это или не так – проверить невозможно), не
связано ли это в первую очередь с тем, что он придает большее значение своему внутреннему миру и
интимным переживаниям, которыми невозможно делиться с кем попало?
Городской быт существенно меняет характер межличностного общения. В деревне оно более или
менее открыто, прозрачно и поддается прямой регламентации со стороны «мира». Город же
характеризуется множественностью групп, информационных потоков и способов общения
*)
. Однако это
не значит, что городской образ жизни принципиально безличен и не имеет никакого духа
«общинности». Микромир индивидуального существования в городе также создается своеобразной
системой родственных, соседских н дружеских связей, хотя и менее тесных, чем в деревне.
Социологические исследования показывают, что рост размеров населенного пункта и плотности его
населения сам по себе не ослабляет уз родства и дружбы и потребности людей в каких-то устойчивых
неформальных связях. Широта и разветвленность таких связей зависит главным образом от
длительности проживания семьи в данном месте. Понятно, что в США, где мобильность населения
вдвое, а то и втрое выше, чем в остальных индустриально развитых странах, этот вопрос стоит особенно
остро. Но если и можно по примеру публициста В. Паккарда назвать американцев «нацией
посторонних», это порождается не столько их пространственной мобильностью, сколько стоящими на
пути свободного человеческого общения классовыми, имущественными и этническими барьерами.
Нельзя в полном объеме принять и жалобы на отчуждающее воздействие средств массовой
коммуникации и на развитие технических средств общения. Еще Платон опасался, что появление
письменности нанесет удар по индивидуальности мышления, так как отныне люди будут усваивать
знания «по посторонним знакам» и в результате будут «казаться многознающими, оставаясь в
большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо
мудрых»
*)
. Однако вряд ли сейчас кто-нибудь может думать, что начитанные люди глупее или духовно
беднее тех, кто мало читает.
Сегодня модно сетовать, как вредно влияют на общение телефон и телевизор. Телефон почти
вытеснил из нашей жизни переписку и все чаще замещает (но не заменяет) непосредственное личное
общение, а телевизор убивает живой обмен мнениями: приходя друг к другу в гости, люди подчас не
беседуют, а сообща смотрят телевизор.
*)
Klapp О. Е. Collective Search for Identity. N. Y., 1969, p. 30.
*)
См. об этом подробнее: Яницкий О. Н. Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация.– В кн.:
Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс. М., 1972, с. 38–75; Розин В. М. Городская культура, человек,
окружающая среда.– Вопросы философии, 1980, № 1, с. 43-54.
*)
Платон. Соч. В 3-х т., т. 2, с. 216-217.

В этих жалобах много справедливого. Социологические исследования показывают, что люди,
проводящие особенно много времени у голубого экрана, обычно менее коммуникабельны и отличаются
меньшей избирательностью культурных интересов. Но какова здесь причинная связь? Является ли
некоммуникабельность порождением «телемании» или, наоборот, пассивное поглощение телепрограмм
– попытка компенсировать бедность эмоционального мира и деятельности личности? Второе
предположение представляется более правдоподобным
*)
.
Глобальные теории отчуждения, не принимающие в расчет социально-культурных и личностных
факторов, не только методологически сомнительны, но и нравственно вредны, подкрепляя и без того
сильный соблазн перекладывать личную ответственность на массовые социальные процессы эпохи: не
умею искренне говорить с другими – виноват телевизор, не интересуюсь жизнью своих близких –
виновата урбанизация. Те или иные коммуникативные трудности существовали всегда, в известной
мере они имманентны человеческому существованию, и преодолеть их может только сам индивид.
Всякая попытка переложить их на общество, урбанизацию, научно-техническую револю-ЦР1Ю, то есть
на некие безличные внешние силы, противоречит тому самому идеалу дружбы, во имя и от лица
которого осуществляется такое осуждение.
В спорах о современных тенденциях развития дружбы часто затрагивается проблема соотношения
ее инструментальных и экспрессивных функций. Проблема эта известна давно, капитализм
чрезвычайно обострил ее, поскольку в буржуазной системе ценностей неутилитарное межличностное
общение стоит ниже производственной предметной деятельности. К. Маркс. отмечал, что «в прямом
соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира»
*)
.
Противоречие между инструментальными и экспрессивными ценностями человеческих
отношений обнаруживается и при экспериментальном изучении мотивационного ядра личности.
Американские психологи Д. Аткинсон, Д. Макклеланд и другие с помощью специальных тестов
выделили особый мотивационный синдром – «потребность в достижении» (need for achievement).
Синдром этот представляет собой систему относительно устойчивых мотивов поведения. Люди, у
которых «потребность в достижении» наиболее выражена, отличаются целым рядом психологических
особенностей. В частности, было замечено, что они испытывают меньшую потребность в общении.
Возникает вопрос, является ли вскрытая американскими психологами обратная зависимость
между «потребностью в достижении» и потребностью в общении всеобщим психологическим законом,
в силу которого «деловитость» редко сочетается с «душевностью», или же она обусловлена
специфическими социальными условиями?
«Потребность в достижении» имеет социальную природу и поэтому по-разному проявляется в
условиях разных культур и общественных систем. Принцип «использовал – выбросил», который, по
мнению А. Тоффлера, лежит сегодня в основе межличностных отношений, не принцип индустриализма
вообще, а плоть от плоти капиталистической системы, в которой рабочая сила является товаром. Суть
трагедии не в том, что человека «выбрасывают» быстрее, чем в прошлом веке, а в том, что его вообще
рассматривают и используют как вещь. В мире, где жизнь основана на таком принципе, неутилитарные
межличностные отношения действительно могут существовать лишь как отдельные хрупкие островки, а
то и просто как миражи.
В США все это выражено особенно резко и неумолимо. Вдумчивый наблюдатель американского
образа жизни С. Кондратов пишет о своих нью-йоркских впечатлениях: «...в человеческих отношениях
поражал избыток механистичного и явно недоставало незастывающего цемента душевного тепла. Как и
вещи, отношения между людьми были рациональны, функциональны, эффективны (вот коронное
слово!). Не на дерево с корнями, уходящими в землю, и кроной, то пышно зеленеющей, то
сбрасывающей листья, походили они, а на комбинации каких-то кубиков, каких-то геометрических
фигур. Вместо органической связи были холодные стыковочные узлы»
*)
.
Американские бизнесмены, у которых была обнаружена отрицательная зависимость между
«потребностью в достижении» и потребностью в принадлежности к какой-то общности, группе, не
единственный тип «современного человека» даже в рамках капиталистической системы. Япония тоже
буржуазная страна и в некоторых отношениях не менее динамичная, чем США. Однако
экспериментальные исследования показали, что у японцев высокая «потребность в достижении»
сочетается с не менее развитой потребностью в принадлежности к группе, между ними нет антагонизма.
Ученые объясняют это сохранением в Японии традиционной структуры семьи и тем, что в воспитании
*)
См.: Фирсов В. М. Пути развития средств массовой коммуникации. Л., 1977, с. 91.
*)
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 87-88.
*)
Кондратов С. Блики Нью-Йорка. Вместо воспоминаний,– Иностранная литература, 1980, № 1, с. 241-242.

детей подчеркивается не столько желательность личного успеха, сколько требование не посрамить свою
семью, род, группу и т. д. Юного американца учат, что он должен обязательно опередить всех, юного
японца – что он должен не отставать от других.
Человек в Японии постоянно чувствует себя частью какой-то группы – то ли семьи, то ли общины,
то ли фирмы
*)
. Он не выносит уединения, стремится всегда быть вместе с другими. «Сельский
подросток, приехавший работать в Токио, не имеет представления об одиночестве его сверстника,
скажем, в Лондоне, где можно годами снимать комнату и не знать, кто живет за стеной. Японец скорее
поселится с кем-нибудь вместе, и даже если он будет спать за перегородкой, ему будет слышен каждый
вздох, каждое движение соседей. Люди, с которыми он окажется под одной крышей, тут же станут
считать его членом воображаемой семьи. Его будут спрашивать, куда и зачем он уходит, когда
вернется. Адресованные ему письма будут вместе читать и обсуждать»
*)
.
Интересно, однако, что тесное и не всегда добровольное общение сочетается у японцев с
недостатком психологической близости и раскованности. «Строгая субординация, которая всегда
напоминает человеку о подобающем месте, требует постоянно блюсти дистанцию в жизненном строю;
предписанная учтивость, которая сковывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами –
все это обрекает японцев на известную замкнутость и в то же время рождает у них боязнь оставаться
наедине с собой, стремление избегать того, что они называют словом «сабисий». Но при всем том, что
японцы любят быть на людях, они не умеют, вернее, не могут легко сходиться с людьми. Круг друзей,
которых человек обретает на протяжении своей жизни, весьма ограничен. Это, как правило, бывшие
одноклассники по школе или университету, а также сослуживцы одного с ним ранга»
*)
.
Хотя, согласно традиции, сложившиеся в детстве и юности индивидуальные дружеские
отношения считаются в Японии даже более интимными, чем внутрисемейные отношения, в целом
японский идеал дружбы скорее спокоен и созерцателен, чем экспрессивен. Проявление глубокой,
напряженной интимности шокирует японца. Недаром право личности на неприкосновенность ее
частной жизни от посторонних оживленно обсуждается в современной японской художественной
литературе. В пьесе Кобо Абэ «Друзья» описывается гибель молодого человека в результате вторжения
в его жизнь бесцеремонного семейства, решившего «освободить» его от одиночества.
Не совсем одинаковы каноны дружбы и у европейских народов. Воспитанный в духе
традиционной сдержанности англичанин не способен к бурной экспрессивности итальянца дли
сентиментальной исповедности немца. В отношениях англичанина с друзьями, как и с членами
собственной семьи, всегда присутствует некоторая отчужденность. Причем, в отличие от японца, у
которого дефицит интимности связан с недостаточной автономизацией личности от группы, английская
сдержанность – результат гипертрофии принципа личной независимости. «Возводя в культ понятие
частной жизни, независимости и самостоятельности человека, который должен полагаться лишь на свои
силы, англичане обрекают себя на замкнутость и, стало быть, на одиночество... Душа англичанина – это
его крепость в не меньшей степени, чем его дом. Англичанин традиционно чурается излишней
фамильярности, избегает проявлений душевной близости. В его духовном мире существует некая зона,
куда он не допускает даже самых близких»
*)
.
Немецкий психолог К. Левин, проживший много лет в США, сравнивая межличностное общение
американцев и немцев, писал, что американцы кажутся более открытыми, оставляя «для себя» лишь
небольшой, самый глубокий участок своего Я; однако их дружеские связи сравнительно поверхностны
и экстенсивны. Напротив, немцы поддерживают отношения с меньшим числом людей и строже
соблюдают границы своего Я, зато в общении с немногими близкими людьми они раскрываются
полнее
*)
. Эта гипотеза не была эмпирически проверена, но нечто подобное обнаружилось при
сравнении дружеских отношений американских и датских старшеклассников
*)
. Юные датчане имеют
меньше друзей, чем их американские сверстники, зато их дружба более исключительна, интенсивна и
сильнее отличается от простого приятельства. Датские подростки общаются со своими друзьями
значительно больше, чем с остальными товарищами, их дружба чаще бывает взаимной и у них больше
общих черт с их друзьями, чем у американских старшеклассников.
Этнопсихологические различия обнаруживаются и в содержании дружеских отношений
(типичные темы разговоров с друзьями, формы их совместной деятельности и т. п.). Иначе говоря,
*)
См.: Овчинников В. Ветка сакуры. М., 1975, с. 69.
*)
Овчинников В. Ветка сакуры, с. 98.
*)
Там же, с. 98–99.
*)
Овчинников В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах,–Новый мир, 1979, № 4, с. 239.
*)
Lewin К. Resolving Social Conflicts. N. Y., 1948.
*)
Kandel D. В., Lesser G. S. Youth in Two Worlds. United States and Denmark. San Francisco, 1972, ch. 5.

социально-психологические особенности дружбы связаны с производственными отношениями
опосредствованно, через образ жизни народа, включая его традиционную культуру, быт, семейные
отношения и многое другое.
Ряд проблем, о которых говорилось выше, существуют и в социалистическом обществе. Однако
социалистический образ жизни диктует принципиально иной, чем капитализм, стиль межличностных
отношений. Частная собственность, конкуренция, антагонизм классовых интересов неминуемо
разобщают индивидов. Социалистический принцип «Человек человеку – друг, товарищ и брат»,
напротив, предполагает взаимопомощь и кооперацию людей.
Прежде всего это повышает социальную ценность дружбы, что отражается и в иерархии личных
жизненных ценностей. Отвечая на вопрос о своих жизненных планах, молодые ленинградцы поставили
на второе место (88,1% всех ответов) – «найти верных друзей» (на первом месте стоит получение
любимой работы)
*)
. Хотя с возрастом иерархия ценностей меняется, дружба всегда занимает одно из
первых мест. Сравнивая данные о ценностных ориентациях большой группы советских инженеров с
аналогичными американскими данными, ленинградские ученые во главе с В. А. Ядовым выявили, что у
советских людей ориентация на друзей («хорошие, верные друзья») стоит на 6-м месте (ей
предшествуют такие ценности, как сохранение мира, здоровье, интересная работа, счастливая семейная
жизнь и любовь), а у белых американцев – на 10-м месте
*)
.
Общий коллективистский настрой создает благоприятный социально-психологический фон для
развития дружественных отношений между людьми как на макро-, так и на микросоциальном уровне.
Хотя марксистская этика не отождествляет категории дружбы и товарищества, она считает их
взаимосвязанными и не противопоставляет индивидуальные привязанности коллективным, что присуще
буржуазной этике.
Судя по данным социологических исследований, именно в производственных и учебных
коллективах завязывается большая часть наших дружб. Товарищи по работе стоят на первом месте в
структуре свободного общения как у инженерно-технических работников Москвы, Киева и Харькова,
обследованных А. А. Зворыкиным и А. М. Гелюта, так и у трудящихся Тюмени и Сургута,
обследованных свердловским социологом В. П. Решем
*)
.
Однако было бы ошибкой ограничивать сферу личного общения товарищами по работе или
профессии. Люди, с которыми нас сводит профессиональная судьба, не всегда обладают теми
индивидуальными качествами, которые нам хотелось бы видеть в своих друзьях. Кроме того, общение
преимущественно с сослуживцами может усиливать профессиональную ограниченность и
поглощенность служебными делами. Поэтому многие люди стихийно или сознательно стараются
расширить круг своих неформальных человеческих контактов. Шире всего в нем представлены
родственники, соседи, друзья детства и товарищи по любительским занятиям. К сожалению, хотя круг
людей, которых участники социологических опросов называют друзьями и приятелями, довольно
широк и разнообразен, интенсивность и качество общения оставляют у многих чувство
неудовлетворенности. Отсюда – жалобы на дефицит времени, большие расстояния и т. п.
Коммуникативные проблемы современного человека неоднозначны. С одной стороны, он сетует
на многолюдье, недостаток уединения, возможности побыть наедине со своими мыслями.
Отступи, как отлив, все дневное, пустое волненье,
Одиночество, стань, словно месяц, над часом моим!
*)
С другой стороны, люди часто чувствуют одиночество, причем имеется в виду не физическая
изоляция, а неудовлетворенность качеством своих человеческих контактов, отсутствие близких,
интимных друзей («Друзей много, да друга нет»). Много читательских откликов вызвала, например,
статья писателя Е. Богата «Концерт по радио. Исповедь одинокого человека» в «Литературной газете»
(12 марта 1980 г.). Проблема одиночества чаще всего обсуждается в контексте семейной жизни, но в
действительности она гораздо шире. Холостяк, имеющий хороших верных друзей, может быть менее
одиноким, чем человек, живущий в семье, от которой он психологически, внутренне далек.
Может ли социалистическое общество чем-то помочь таким людям? Если под «помощью»
подразумевать попытки разрешить за них их личные проблемы,– конечно нет. Никто не может снабдить
всех людей друзьями и любимыми, да еще с гарантией постоянства и благополучия. Однако общество
вполне может позаботиться о создании более благоприятных условий для такого индивидуального
*)
См.: Иконникова С. Н., Лисовский В. Г. Молодежь о себе, о своих сверстниках. Л., 1969, с. 91.
*)
См.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л., 1979, с. 90–91.
*)
См.: Социальные проблемы труда и производства. Советско-польское сравнительное исследование. М., 1969, с. 194–
196; Архангельский Л. М. Социально-этические проблемы теории личности. М., 1974, с. 176–186.
*)
Брюсов В. Я. Избр. соч. В 2-х т. М., 1955, т. 1, с. 219.

поиска.
Прежде всего общество может эффективно способствовать поддержанию традиционных форм
бытового общения, в частности соседских связей. Урбанизация ослабила соседские контакты и
существенно сузила их сферу. Проведенный в конце 60-х годов социологический опрос 370 семей,
живущих в государственных, и 65 семей – в кооперативных домах, в Ленинграде и 142 семей в Темир-
Тау показал, что только половина жильцов поддерживает друг с другом личное общение, причем
основное содержание его (две трети всех оказанных услуг) сводится к материальной взаимопомощи.
Информационные и бытовые услуги составляют около 30%
*)
. Между тем соседские связи могут быть
весьма эффективными в решении многих бытовых задач, воспитании детей и просто как канал
межличностной коммуникации. В некоторых республиках и областях нашей страны эти возможности
учитываются, что находит отражение в планах градостроительства и социального развития
соответствующих населенных пунктов.
Общество призвано помогать рождению и укреплению новых форм свободного общения –
самодеятельных общественных клубов и других объединений по интересам, где люди могут совместно
проводить время и завязывать личные контакты. Это особенно важно для тех категорий населения, чей
круг общения по каким-то причинам ограничен (одинокие женщины, пенсионеры). Принципы
организации таких клубов иногда вызывают споры. Так, одни считают, что старикам приятно и полезно
находиться в своем кругу, другие же опасаются, что возрастная сегрегация лишь усиливает отчуждение
пожилых людей, которым лучше быть вместе с молодежью. Но в том и достоинство самодеятельных
организаций, что они могут быть разными, учитывая многообразие индивидуальных запросов и
потребностей.
Наконец, помощь общества может касаться и психологических проблем общения. Известно, что от
одиночества страдают, как правило, люди, имеющие какие-то коммуникативные трудности. Одни
скованы жесткими рамками привычных ритуалов, потому что в детстве их приучили подавлять,
сдерживать свои чувства, но не научили свободно и красиво выражать их. Другие слишком рассудочны,
рационалистичны. Третьи стали жертвами каких-то травматических переживаний. Большую
положительную роль в судьбе таких людей может сыграть широкое распространение консультативной
психологической службы. Ведь преодолеть коммуникативные трудности может многим помочь
консультация у опытного психолога, специальные занятия по тренировке сензитивности
(чувствительности), иногда просто возможность выговориться. Психологические консультация уже
начали создаваться в рамках службы семьи. Но целесообразно, вероятно, распространить их
деятельность на всю сферу общения.
Итак, хотя урбанизация и научно-техническая революция серьезно влияют на характер
межличностного общения, связанные с этим тенденции нельзя рассматривать как проявление
глобального процесса отчуждения и деиндивидуализации человека в современную эпоху. И форма, и
степень, и содержание этих тенденций зависят прежде всего от социально-экономических, а также
историко-культурных и психологических факторов. Последние особенно проявляют себя в такой форме
межличностных отношений, как дружба. Это обстоятельство побуждает рассмотреть психологические
основы дружбы более глубоко.
Часть II
*)
См.: Баранов А. В. Общение по месту жительства и соседство.– Информационный бюллетень Советской
социологической ассоциации. М., 1969, № 16.
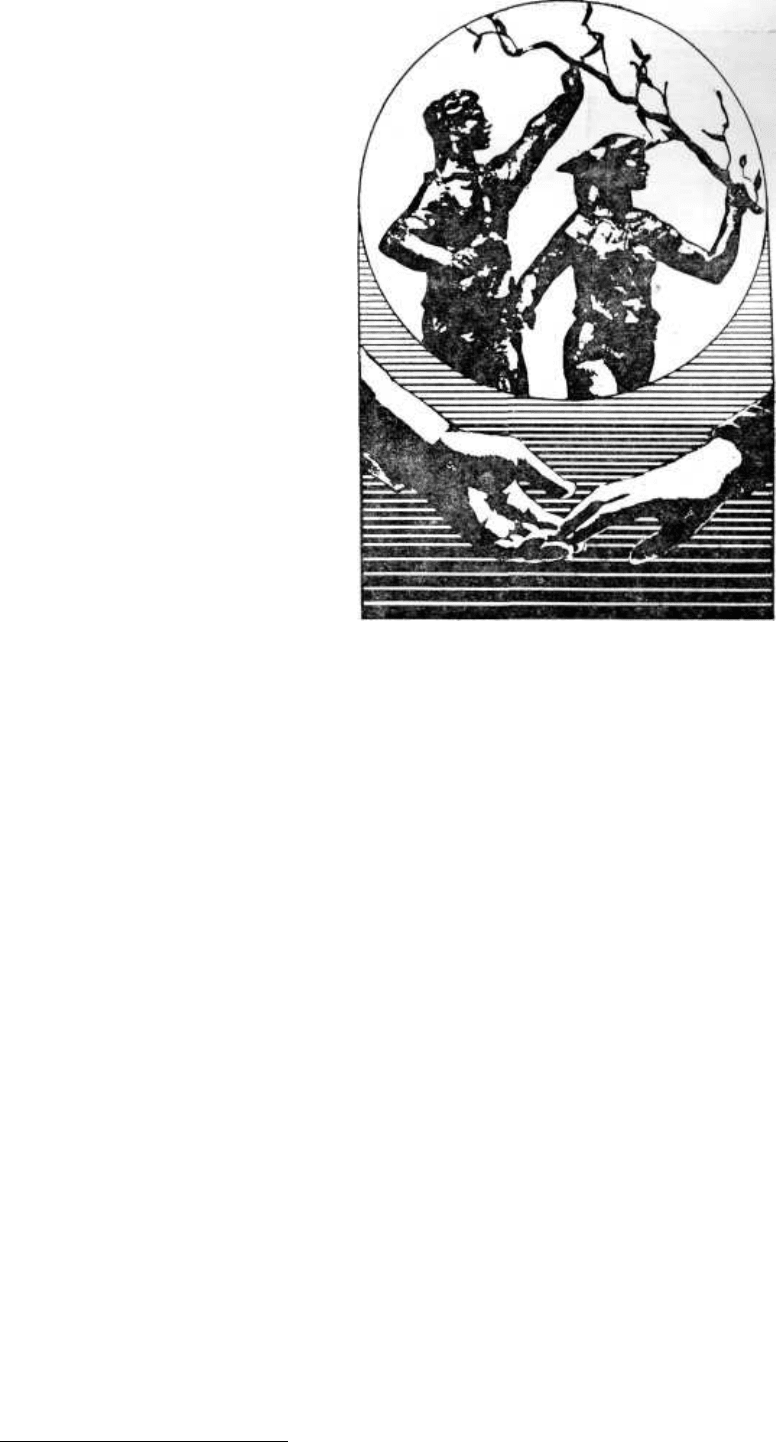
Чувства и отношения
1. АНАТОМИЯ ДРУЖБЫ
Скажи мне, где любви начало?
Ум, сердце ль жизнь ей даровало?
И чем питаться ей пристало?
У. Шекспир
Что же такое дружба с точки зрения психологии? Вследствие чего она возникает, чем
поддерживается, какие психологические функции выполняет? Для ответа на эти вопросы необходимо
разграничить объективные предпосылки и психологические механизмы дружбы.
Дружба, как мы видели, всегда означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу (в
современной социальной психологии такое тяготение называется атракцией). Каким бы спонтанным ни
казалось это притяжение, оно имеет определенные объективные предпосылки. Психологическая
близость в значительной мере производив от других, более простых, объективных форм общности –
пространственно-территориальной близости, сходства возраста, пола, профессионального и
образовательного уровня и особенно от совместной деятельности, предполагающей общие цели,
определенное разделение обязанностей и т. д.
Уже простая территориальная близость, делающая частые межличностные контакты
неизбежными, способствует зарождению взаимного интереса и симпатии. В патриархальной сельской
среде дружеские отношения чаще всего были дополнением и углублением соседских. В городе, где
место работы и место жительства обычно разобщены, свободное общение более избирательно. Роль
соседства здесь заметно снижается. Люди, живущие в многоквартирных домах, часто даже не знают,
как зовут их соседей по лестничной клетке. Советские социологи, изучавшие, чем заполнено внерабочее
время жителей ряда крупных промышленных центров, обнаружили, что у половины из них друзья
живут не по соседству, а в других районах. Только у пятой части из опрошенных ими знакомство с
другом состоялось благодаря тому, что они жили на одной улице или в одном дворе
*)
.
Тем не менее соседство и сегодня играет большую роль в возникновении и поддержании
*)
См.: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы. М., 1972, с. 152–153.

дружеских отношений. Первичной ячейкой, где завязывается детская дружба, обычно бывает «свой
двор», чуть позже– «своя улица». С возрастом (а также с получением образования) территориальные
рамки выбора друзей заметно расширяются, но все-таки сохраняют свое значение.
Американский социолог К. Бродерик, опросив 7622 пары дружественных городских семей,
обнаружил, что почти 30% из них – соседи, а 28% познакомились благодаря тому, что раньше были
соседями
*)
. У 300 мужчин, которых французский социальный психолог Ж. Мезоннев спрашивал о
причинах прекращения их прежних дружеских связей, на первом месте (45% всех ответов) оказалась
перемена местожительства своего или друга
*)
.
Может быть, территориальная близость – только одно из внешних условий возникновения и
сохранения дружбы? Нет. Французские социологи провели такой эксперимент. В одной военной школе-
интернате 400 курсантов (мужчины от 21 до 35 лет) были поселены группами по 40 человек. Расселение
проводилось строго по списку (в алфавитном порядке); ничего общего, кроме совместного проживания,
у этих людей поначалу не было. Тем не менее, когда спустя несколько недель был произведен
социометрический тест – курсантам предложили выбрать тех, кто им более симпатичен,– число
взаимных выборов в пределах общей зоны местожительства составило 68%
*)
.
Впрочем, связь пространственной близости и атракции неоднозначна. Американский
исследователь Т. Ньюком провел следующий эксперимент. Он расселял студентов-первокурсников
Мичиганского университета по комнатам в разных сочетаниях, по принципу сходства или несходства
установок, а затем изучал динамику их взаимоотношений. Оказалось, что на ранних стадиях знакомства
атракция больше зависит от пространственной близости, чем от сходства установок, однако в
дальнейшем положение меняется и сходство установок перевешивает влияние соседства
*)
.
Если даже простая пространственная и бытовая близость способствует зарождению
дружественных чувств и некоторой групповой солидарности, то еще важнее совместная деятельность,
связанная с определенным разделением функций, кооперацией и взаимопомощью.
Научная психология, как и обыденное сознание, различает деловые, функциональные отношения и
личные, индивидуальные привязанности, а также групповые, коллективные отношения, обусловленное
принадлежностью к одному и тому же коллективу товарищество и основанную на индивидуальном
выборе и личной симпатии дружбу.
Деловые отношения, или, как называют их вслед за А. С. Макаренко некоторые советские ученые,
отношения ответственной зависимости, подчинены достижению какой-то внеиндивидуальной цели –
производственной, учебной и т. д. Они всегда специализированы, и личность участвует в них как
исполнитель определенной социальной функции, роли. Принадлежность к данному коллективу и
вытекающее из нее чувство солидарности с другими его членами (товарищество) не обязательно
предполагает личную симпатию к каждому из них в отдельности, без чего немыслима дружба
*)
.
Однако различие дружбы и товарищества не следует абсолютизировать. Разграничение
инструментальных и экспрессивных функций общения всегда относительно. Тесная кооперация и
взаимопомощь в совместной деятельности легко и незаметно перерастают во взаимную симпатию.
Коллектив сплачивается не только общей заинтересованностью его членов в результатах их совместной
деятельности, но и чувством групповой солидарности, сопричастности к целому. Степень
эмоциональной идентификации индивидов с группой – один из главных показателей сплоченности
коллектива
*)
. Но идентификация с коллективом невозможна без взаимной поддержки и заботы об
отдельных товарищах. «Чувство локтя» – важнейший общий компонент товарищества и дружбы.
Поэтому товарищеские отношения не просто фон, а живая питательная среда для возникновения и
развития индивидуализированной дружбы.
Недаром большую часть своих друзей люди приобретают именно в процессе совместной
деятельности, в своих производственных или учебных коллективах, причем значение этого вида
общности значительно перевешивает роль территориально-бытовых факторов. Например, свыше
половины обследованных Л. А. Гордоном и Э. В. Клоповым таганрогских рабочих познакомились со
своими интимными друзьями на работе; инженеры и техники две пятых своих друзей приобрели в годы
*)
Broderick С. Predicting Friendship Behavior. A Study of the Determinants of Friendship Selection and Maintenance in a
College Population. Cornell Univ., 1956.
*)
Maisonneuve J. Psycho-sociologie des affinites. P., 1966. p. 219.
*)
Ibid, p. 78-81.
*)
Newcomb Т. М. The Acquaintance Process. N. Y., 1961.
*)
См.: Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания.– Соч. В 7-ми т. М., 1957, т. 5, с. 210.
*)
Подробнее об этом см.: Петровский А. В., Шпалин-ский В. В. Социальная психология коллектива. М., 1978.

совместной учебы и около трети – на работе
*)
.
Решающее значение совместной деятельности и коллективной принадлежности для
возникновения дружбы доказывается и социально-психологическими экспериментами. Известен,
например, эксперимент американского социального психолога М. Шерифа
*)
.
Группа мальчиков 11 – 12-летнего возраста, взятых из разных школ и ранее никогда не
встречавшихся друг с другом, была вывезена в загородный лагерь. В течение трех дней подростки
имели возможность совершенно свободно общаться друг с другом, у них складывались какие-то
привязанности, возникали группировки, игровые компании и т. д. Досле того как между ребятами
установились определенные личные взаимоотношения, был проведен социометрический тест, в ходе
которого каждый назвал своих лучших друзей. Затем ребята были разделены на две команды таким
образом, чтобы две трети лучших друзей каждого оказались в противоположной команде. Каждая
команда получила собственное задание, общение между членами разных команд было сведено к
минимуму, а сами команды поставлены в отношения соревнования и соперничества. Через несколько
дней мальчиков снова просили назвать своих лучшей друзей, подчеркнув, что они могут выбирать не
только из собственной команды, но и из другой. На сей раз выбор оказался совершенно другим.
Членство в команде решительно перевесило первоначальные личные симпатии: число «лучших друзей»
из собственной команды составило в одном случае 95%, в другом – 88%.
Эксперимент свидетельствует, что индивидуальное предпочтение полностью определяет выбор
друзей там, где отсутствуют сложившиеся коллективы и группы. Но если индивид уже находится в
составе какой-то группы, имеющей собственные цели, определенное распределение ролей и т. д., это
накладывает отпечаток и на его личные предпочтения. Как правило, он выбирает друзей из числа тех
людей, с которыми чаще общается в повседневной деятельности и с которыми его связывает чувство
групповой солидарности.
Разумеется, реальная жизнь города сложнее экспериментальной ситуации. Каждый человек
одновременно принадлежит не к одному, а к нескольким разным коллективам (производственным,
общественно-политическим, семейно-бытовым), а также имеет целый ряд референтных групп, с
которыми он сообразует свое поведение. Между тем количество близких друзей всегда ограниченно.
Отсюда – проблема индивидуального выбора, с которого, собственно, и начинается психология дружбы,
в отличие от психологии коллективной деятельности или психологии общения.
По каким же признакам человек выбирает друзей?
Межличностная атракция, тяготение людей друг к другу, которое часто перерастает в дружбу,–
сложный психический феномен. Психологи чаще всего трактуют атракцию как социальную установку,
специфическое ценностное отношение одного индивида к другому. Как всякая другая установка,
атракция имеет три главных компонента: эмоционально-оценочный – характер и сила чувств,
испытываемых индивидом к определенному объекту; когнитивный (познавательный) – представления
индивида об этом объекте, лице; поведенческий – склонность индивида к сближению с данным лицом
(или избеганию его) и характерные проявления этой склонности.
Такая схема облегчает анализ субъективных установочных компонентов дружбы. Но ведь дружба
не только отношение одного индивида к другому, а также устойчивое взаимоотношение между
индивидами. Отсюда разные направления ее психологического исследования: с одной стороны, это
изучение атракции с точки зрения свойств ее объекта, вызывающих расположение, интерес, а с другой
– выявление свойств субъекта, которые определяют его тяготение к данному объекту, и потребностей,
которые он пытается удовлетворить с помощью последнего. Эти подходы являются встречными,
взаимодополняющими. Существует и третий подход, в центре внимания которого находится сам
процесс взаимодействия субъекта и объекта, его содержание, фазы развития и влияние на обоих
участников, коль скоро объектом атракции является не вещь, а другое лицо. Последний подход самый
сложный, и именно он преобладает в современной социальной психологии.
Еще Платон и Аристотель задавались вопросом, что делает одного человека привлекательным для
другого и, в частности, ищет ли он в друге собственное подобие или, напротив, дополнение.
Экспериментальные психологические исследования дружбы, начавшиеся в конце XIX – начале XX в.,
также долгое время концентрировались вокруг этой проблемы. С точки зрения житейского здравого
смысла оба мнения одинаково правдоподобны. Понимание друга как «другого Я» обязательно
предполагает принцип сходства: люди, расходящиеся между собой в существенных характеристиках,
*)
См.: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы, с. 152.
*)
Sherif M., Sherif С. W. Groups in Harmony and Tension. N. Y., 1953; Sherif M. Group Conflict and Cooperation. Their
Social Psychology. L., 1967.

вряд ли могут быть особенно близки. Однако alter ego не просто второе, а именно другое Я; друзья
призваны не дублировать, а взаимно обогащать один другого.
А коль скоро это так, прежде чем обсуждать вопрос о сходстве или несходстве друзей, нужно
уточнить целый ряд вопросов.
Во-первых, класс подразумеваемых сходств. Идет ли речь об общности пола, возраста,
социального положения, профессии, образования с других объективных, непсихологических признаков?
Или об общности ценностных ориентации, взглядов, интересов? Или о сходстве характеров,
темперамента, личностных черт и т. п.? Это ведь совершенно разные вещи.
Во-вторых, степень предполагаемого сходства. Имеется ли в виду полное совпадение качеств или
какое-то более ограниченное сходство?
В-третьих, значение и смысл данного сходства для самой личности. Чем важнее данное качество
для личности, тем выше требования, которые она, вероятно, предъявляет в этом отношении к своим
друзьям. Человек, живущий напряженной эстетической жизнью, вряд ли сможет дружить с тем, кто не
выносит искусства. А для того, кто видит в искусстве только развлечение, эстетические вкусы его
друзей, пожалуй, несущественны.
В-четвертых, объем, широта диапазона сходств. Сходство друзей может ограничиваться одной
какой-либо сферой, а может охватывать сразу несколько черт – и социальные характеристики, и
ценностные ориентации, и личностные черты.
Кроме того, необходимо уточнить, идет ли речь об установках и о том, какими люди
представляют самих себя и своих друзей, или об их реальных качествах.
Многочисленные социально-психологические исследования показывают, что в установках людей,
в тех требованиях, которые они предъявляют к своим друзьям, ориентация на сходство (любовь к
подобию, гомофилия) решительно преобладает над ориентацией на дополнение (любовь к различиям,
гетерофилия). Подавляющее большинство людей предпочитает дружить с людьми своего возраста,
пола, социального положения, образования и т. д. Почти столь же желательно совпадение или, по
крайней мере, близость основных ценностных ориентации, интересов и черт характера.
Однако проявляется ли эта установка в реальном поведении? Действительно ли друзья больше
похожи друг на друга, чем на окружающих, или им это только кажется? В том, что касается
объективных характеристик (пол, возраст, социальное положение, образовательный уровень),
однородность действительно преобладает. Люди в большинстве случаев дружат с представителями
собственного «круга» – возрастного, социального, культурного. Несколько меньшая, но все-таки
значительная степень сходства наблюдается также в социальных установках и ценностных ориентациях
друзей. Хотя здесь нет полного совпадения, друзья, как правило, придерживаются более или менее
общих взглядов по наиболее важным для них вопросам. Это происходит не только потому, что люди с
самого начала выбирают себе в друзья единомышленников, но и потому, что они сознательно и
бессознательно приспосабливаются друг к Другу.
Сложнее обстоит дело с индивидуально-личностными, психологическими чертами. Эти качества
очень разнородны и не всегда поддаются строгому объективному измерению.
В самом крупном по охвату американском исследовании «личностного профиля» дружбы
сопоставлялись сходства и различия дружеских пар 1800 американских старшеклассников. Сначала их
просили назвать своего лучшего друга, а затем рассказать о своих домашних условиях, отношениях с
родителями, учебных интересах, способах проведения досуга, социальных установках и
психологических состояниях. Сравнение ответов друзей показало, что они очень похожи друг на друга
по своим социально-демографическим свойствам (социальное происхождение, пол, раса и возраст).
Значительное сходство наблюдается также в некоторых аспектах поведения, особенно если оно
отклоняется от социальной нормы и нарушает какие-то запреты (например, курение), в учебных
интересах и степени участия в групповой жизни сверстников. Что же касается психологических
факторов (оценка своих личных качеств и отношений с родителями), то здесь сходство между друзьями
значительно меньше
*)
.
Следует учитывать, что складывающиеся у нас представления о степени нашего сходства или
различия с другими людьми далеко не всегда достоверны. Те, кого мы предпочитаем, кажутся нам, как
правило, более похожими на нас самих, чем те, кого мы отвергаем. Социометрические исследования
показывают, что при попытке предсказать, кто из знакомых или товарищей окажет им предпочтение, а
кто отвергнет их, люди обычно (около 70% испытуемых) бессознательно предполагают взаимность
*)
Kandet D. В. Similarity in real-life adolescent friendship pairs.– Journal of Personality and Social Psychology, 1978, vol. 36,
N 3, p. 306–312.

выбора. Оказывая предпочтение другому лицу, выбирая его в качестве партнера по игре, спутника по
путешествию и т. д., мы невольно ожидаем, что он в свою очередь выберет нас. От антипатичного
человека, напротив, мы ждем неприятия, отвержения.
Сравнительное изучение реальных и воображаемых друзьями сходства и различий между ними
помогает выявить некоторые скрытые, не осознаваемые людьми психологические функции дружбы.
Однако в таких исследованиях дружба обычно выглядит субъектно-объектным отношением, в котором
один партнер удовлетворяет потребности другого, оставаясь сам относительно пассивным. Иначе
говоря, это межличностное отношение рассматривается с точки зрения одного из участников,
высвечивая ролевую и установочную асимметричность дружеских отношений.
Уже античные философы понимали специфику переживаний и поведения «любящего» и
«любимого». Сильные эмоциональные привязанности очень часто отличаются эгоцентричностью.
Подавляющее большинство людей, характеризуя свое понимание дружбы, перечисляет, чего они
ожидают от друга. Лишь немногие говорят о том, что они сами делают или готовы сделать для другого.
Но в каких бы терминах ни описывали люди свои взаимоотношения, человеческое общение по
самой сути своей является субъектно-субъектным. Как справедливо подчеркивает М. С. Каган,
«общение есть не просто действие, но именно взаимодействие... Это значит, что общение есть
практическая активность субъекта, направленная на других субъектов и не превращающая их в
объекты, а, напротив, ориентирующаяся на них именно как на субъектов»
*)
. Иными словами, общение
– это именно взаимодействие субъектов, вступающих в него как партнеры
*)
.
В дружбе момент субъектности, коммуникативного взаимодействия Я и Ты, проявляется особенно
резко, поднимаясь до нравственного принципа, который запрещает видеть в другом вещь, средство
достижения собственных целей. И психологически дружба не просто взаимодействие «готовых»
индивидов, а творческое взаимопересечение Я и Ты, в ходе которого они сливаются в некоторое Мы,
приобретая свойства, каких не имел каждый из них в отдельности.
Однако изучение дружбы как процесса сопряжено с большими методологическими трудностями.
Одни исследователи выдвигают на первый план его поведенческие, другие – познавательные, третьи –
эмоциональные, четвертые – личностные компоненты. По сути дела, каждое из основных современных
направлений в зарубежной социальной психологии имеет свою собственную парадигму атракции
*)
.
Необихевиористы описывают дружбу главным образом в поведенческих терминах. Основой
всякого парного взаимодействия они считают обмен, в котором оба партнера получают какие-то
вознаграждения и поощрения. Необходимым условием и предпосылкой дружбы является, согласно этой
точке зрения, то, что партнеры получают друг от друга и от самого процесса взаимодействия максимум
положительного подкрепления (поощрения) и минимум отрицательного подкрепления (издержки).
Эксперименты, поставленные в соответствие с этой теоретической ориентацией, стараются взвесить
прежде всего объективные следствия, «исходы» процесса дружеского взаимодействия: получают ли его
участники «вознаграждение», «удовольствие», «снижение напряжения» и т. п.
Когнитивистская ориентация, в отличие от бихевиористской, больше интересуется
взаимодействием психических структур, определяя характер взаимоотношений друзей на основе
динамики их социальных установок, ценностных ориентации и т. п. Бихевиористы изучают прежде
всего доступное внешнему наблюдению, «открытое» поведение, причем предполагается, что
поведенческие процессы доминируют над процессами познания. Когнитивисты изучают
преимущественно психические образования – знаки, значения, благодаря которым осуществляется
понимание и т. д., хотя предполагается, что они могут быть выведены из поведения. Бихевиоризм
склонен к «молекулярному» анализу – к изучению отдельных компонентов общения (чувства,
симпатии), а когнитивизм – к изучению процесса в целом.
Когнитивная психология уделяет особое внимание тому, какие черты и свойства личности
облегчают ей восприятие и адекватную оценку других людей. В начале 60-х годов американский
психолог Г. Олпорт свел эти качества к следующему списку:
1. Жизненный опыт, общая зрелость. Взрослый человек может понять подростка, обратное же
невозможно.
2. Сходство между оценивающим и оцениваемым субъектами.
*)
Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974, с. 82.
*)
См.: Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии.– Методологические проблемы социальной психологии.
М., 1975, с. 127.
*)
Их общую характеристику см.: Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная
психология на Западе (теоретические направления). М., 1978.
