Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции
Подождите немного. Документ загружается.


логическая структура предполагает подлежащее и сказуемое. Семантические свойства того, что
может быть подлежащим или, иначе, субъектом в предложениях такого вида, согласно концепции
Фреге, существенно отличаются от семантических свойств того, что может быть в таких
предложениях сказуемым (или, иначе, предикатом). Семантика выражений второго типа
определяет их как имена понятий, которые, в свою очередь, расшифровываются Фреге как
функции, которым могут соответствовать предметы ("насыщать" их, в терминологии Фреге).
Выражения, которые можно сопоставить единичным терминам — это, соответственно, те, которые
могут выполнять роль субъектов в предложениях субъектно-предикатного вида: они обозначают
предметы, подпадающие под понятия (или понятия, подпадающие под другие понятия — в этом
случае имя понятия не может быть заменено на имя предмета без изменения значения
предложения).
Эта теория предполагает, таким образом, три основных типа выражений: предложения, имена
предметов (собственные имена) и имена понятий. Соответствующая их семантике онтология
оказывается весьма богатой. Если не считать, что имя понятия имеет понятие своим референтом в
том же смысле, в каком имя предмета имеет своим референтом предмет (например, если не
трактовать понятие как признак), то говорить об однотипности референции применительно к трем
перечисленным случаям не приходится. Относительно теории Фреге, вероятно, должны быть
различены более одного типа связей выражений с тем, что Фреге называет значением (Bedeutung)
и что можно сопоставить референции (трактуя последнюю достаточно широко). Само это
сопоставление, однако, уместно на том, по крайней мере, основании, что и предметы, и функции, и
истинностные значения располагаются Фреге на одном семантическом уровне относительно,
соответственно, имен собственных, имен понятий или предикатов и предложений. Но, если
принимать аналогию между значениями собственных имен (референциями) и значениями
предложений и имен понятий всерьез, то можно предположить, что во всех трех случаях имеет
место, все же, в каком-то смысле один и тот же тип связи, а предложения и имена понятий —
своего рода собственные имена. Тогда, состав сущностей, соответствующих такой семантике,
должен включать, как минимум, такие предметы как 'истинно' и 'ложно', а также — все возможные
понятия.
Семантика имен понятий сопоставима семантике общих имен в том, что она так же
предполагает аналог отношения соозначивания: только, в отличие от трактовки Миллем общих
имен, «прямым» значением имен понятий, по Фреге, является понятие, а «косвенным» —
подпадающие под него предметы (или другие понятия). Нежелание признавать понятия,
абстракции вообще, в каком-либо смысле сущестующими и, соответственно, тем, к чему могут
относиться термины как с своим референтам, обычно подталкивает делать упор в семантической
характеризации таких имен именно на их «косвенную» референцию (если предметы, вовлеченные
в эту связь, сами признаются онтологически допустимыми). Но, разумеется, связь подпадания
предмета под понятие нельзя понимать по аналогии с коннотацией в смысле Милля: последнюю
можно трактовать, например, в терминах логических связей, благодаря вовлеченности в которые
общее имя может правильно утверждаться относительно определенных предметов. Но, если
абстрагироваться от вопроса о том, что является значением в первичном или прямом, а что — во
вторичном или косвенном смысле, оба эти подхода — Милля и Фреге — сходны в том, что ставят
(референциальную) значимость общих имен в зависимость от существования определенных
предметов в мире и определенных описаний в языке.
Рассел сузил класс индивидуальных имен, исключив из него определенные дескрипции. Куайн
пошел по этому пути дальше и, применив расселовский анализ дескрипций ко всем собственным
именам, отказал им всем в референциальности на том основании, что и они являются скрытыми
определенными дескрипциями — т.е., что их можно перефразировать без ущерба для
истинностного значения целого предложения так же, как определенные дескрипции: например,
выражение 'Пегас' преобразуемо, согласно Куайну, в 'нечто, что есть Пегас' или 'нечто, что
пегасит'. Новые выражения ‘есть Пегас’ или ‘пегасит’ имеют логическую форму предикатов, а не
собственных имен. У предикатов, в отличие от собственных имен, нет референта, а есть только
объем (extension) — т.е. множество всех объектов, относительно которых данный термин, понятый
как предикат, истинен. Из этой концепции следует, таким образом, что подлинными носителями
референции со стороны языка являются связанные переменные, а в естественных языках наиболее
близки к тому, чтобы считаться их аналогами, местоимения. (Предикаты и предложения Куайн не
рассматривал как переменные квантификации и, соответственно, как имена.) Такой подход

совершенно меняет картину референции. Референции местоимений прямо зависят от
обстоятельств употребления; эти зависимости устанавливаются правилами; подобным образом,
референции имен, подставляемых на место переменных, также регулируются правилами, хотя и
другого вида. Будет ли иметь референт переменная в контекстах вида 'х пегасит' и, соответственно
— замещающее ее в обыденном дискурсе имя 'Пегас' — зависит от условий истинности
предложения '(∃х)(х пегасит)' в языке, в котором это имя имеет употребление. Если предложение
такого вида истинно, то это значит, что соответствующие сущности (в данном случае, Пегас)
принадлежат к онтологическим обязательствам, предполагаемыми данным языком или данной
теорией, и входит в онтологию этого языка (теории).
1.1.3. Референциальная непрозрачность
По Фреге, 'Фосфорус', 'Гесперус', 'Венера', 'Утренняя Звезда' и 'Вечерняя Звезда' — все
указывают на один предмет (Bedeutung). Сомнения порождает применение к таким
кореференциальным терминам известного принципа взаимозаменимости с сохранением
истинности (salva veritate). Если кореференциальность принимается как признак тождественности
терминов, то к ним может быть применен принцип Лейбница, гласящий, что "Тождественные
термины суть те, один из которых может быть поставлен вместо другого с сохранением
истинности. Если имеем А и В и А входит в какое-либо истинное предложение, и если
подстановкой В вместо А в каком-либо месте данного предложения будет получено новое
предложение, также истинное, и если то же самое достигается, какое бы предложение мы не взяли,
то говорят, что А и В тождественны".
[3]
Здесь существенно, что, во-первых, речь идет о тождественности разных по материальному
(синтаксическому и фонетическому) составу терминов (в отличие от тождественности А и А) и, во
вторых, истинность должна сохранятся при подстановке таких терминов на место друг друга на
множестве всех предложений, в которых один из этих терминов занимает какое-либо место. Фреге
сделал ответственной за все не связанные с истинностными значениями предложений отличия
случаев взаимной подстановки на место друг друга кореференциальных, но материально не
тождественных, терминов от случаев взаимной подстановки терминов, которые также и
материально тождественны — например, эпистемологическое отличие случаев 'а = а' от случаев,
когда 'а = b' истинно — другое семантическое свойство, которым он наделил выражения языка: их
смысл (Sinn). Смысл предложения — выраженная в нем мысль (Gedanke). Это положение,
конечно, накладывает на теорию дополнительные онтологические обязательства, поскольку
смысл, в свою очередь, также может быть референтом: можно утверждать или отрицать нечто о
смысле предложения или термина.
Идея, что термин имеет значение только в составе предложения, подталкивает к тому, чтобы
искать ответы на вопросы о референциях терминов, исследуя истинностные значения
соответствующих предложений. Так, онтологическое различие между предметами — например,
быком и единорогом — может фиксироваться в различии семантических характеристик
определенных предложений: а именно, в том, что предложения "Бык существует" и "Единорог
существует" различаются своими истинностными значениями. Семантика таких предложений,
конечно, зависит от того, как понимается "существует". Тем не менее, этот подход получил свое
дальнейшее развитие в последующих теориях. Трудности возникают здесь на уровне определения
истинностных значений. Так, "Нынешний король Франции лыс" могло быть истинным, будучи
произнесено в какой-либо момент французской истории, но теперь — ложно; следовательно,
истинностное значение в этом случае зависит, по крайней мере, от степени индексальности
составляющей "нынешний". "Ганнибал — великий полководец" будет истинным или ложным в
зависимости от того, какой Ганнибал имеется в виду — карфагенский полководец или арап Петра
Великого. Наконец, в сложных предложениях к серьезным затруднениям приводит применение
принципа заменимости выражения, являющегося частью, например, подчиненного предложения,
кореференциальным ему выражением.
Так, Рассел обратил внимание на существование контекстов, в которых подстановка одного из
двух терминов, которые должны, согласно предположению, иметь один и тот же референт, на
место другого, изменяет истинностное значение предложения. Таковы, например,
пропозициональные установки: термины 'Вальтер Скотт' и 'автор романа Уэверли' предполагаются
кореференциальными, но, если в предложении 'Георг IV хотел знать, является ли Вальтер Скотт
автором романа Уэверли' произвести соответствующую подстановку, то новое предложение

(Рассел говорит здесь о пропозициях) — например, 'Георг IV хотел знать, является ли Вальтер
Скотт Вальтером Скоттом' — может иметь другое истинностное значение (так, тогда как первое
истинно, второе — ложно). Эти и подобные контексты (куда относятся модальные контексты,
высказывания о будущем, полагания и др.) отличаются тем, что порождают неопределенности и
даже неопределимости истинностного значения (truth-value gaps): их называют интенсиональными
контекстами. Они таковы в отношении истинностного значения в силу особенностей своего
грамматического состава, можно сказать "сами по себе".
В других случаях такого рода неопределенность возникает вследствие наличия в составе
предложения неясного термина, такого, как, например, 'последний человек, касавшийся
поверхности Луны'; он двусмыслен уже в том отношении, что 'последний человек' в его составе
может трактоваться как 'последний из когда-либо живших людей' или как 'последний из ныне
живущих'. В случае трактовки второго типа эта составная часть термина наделяется чертами
индексального термина и референциальную определенность для целого составного термина можно
надеяться установить принятыми для терминов этого вида способами: путем дальнейших
уточнений в отношении 'ныне живущих' (все ли это ныне живущие люди — тогда
неопределенность сохраняется — или, например — достигшие 60-ти лет — чтобы быть
уверенным, что никто из них больше не полетит на Луну) и определения конкретного состава
ныне живущих, согласно проделанной спецификации, и того из них, кто хронологически
последним побывал на Луне. При трактовке первого типа ничего подобного сделать нельзя, разве
что, с точки зрения вечности или последнего из людей. В любом случае такие неясные термины
представляют собой особый случай терминов, поскольку они сами способны порождать
неопределенности истинностных значений, даже в неинтенсиональных (по своей грамматической
структуре) контекстах.
Интенсиональные контексты порождают референциальную неопределенность в отношении
встречающихся в них индивидуальных терминов в условиях применения к ним принципа
взаимозаменимости salva veritate или, по крайней мере, ослабляют уверенность в референциальной
определенности таких терминов. Куайн назвал такие контексты референциально непрозрачными.
Возможны по крайней мере два решения проблемы порожденной контекстом референциальной
непрозрачности: можно отказаться рассматривать кореференциальность как признак
тождественности терминов и, тем самым — применять к ним принцип взаимозаменимости salva
veritate, а можно, наоборот, отказаться считать такие термины кореференциальными, признав их
не тождественными, согласно избранному критерию. Решение Рассела состояло в исключении
определенных дескрипций из класса индивидуальных терминов. Можно сказать, что он выбрал
второй путь, отказав определенным дескрипциям в кореференциальности собственным именам на
основании отказа им в обладании независимой референцией. Он предложил анализ определенных
дескрипций, основанный на методе парафраза: так, выражение 'автор романа Уэверли', может быть
перефразировано (приведено к правильной логической форме) в 'тот, кто написал Уэверли' (или
даже правильнее, по Расселу, 'то, что написало Уэверли'). А таким конструкциям уже можно
ставить в соответствие формулы логики предикатов. При таком стиле парафраза нагрузка
референции переносится на некоторые индексальные термины ('тот', 'то', возможно - 'нечто'),
которым, предположительно, соответствует в языке логики квантор существования при
переменной.
Аналогичное предположение делается и в отношении соответствия между такими
выражениями, как 'всякий', 'все', 'каждый', 'любой', участвующих в создании неопределенных
дескрипций, и квантором общности при переменной. При этом, возникает, конечно, вопрос: для
всех ли частиц, играющих в естественных языках роли образования составных терминов, можно
установить соответствия такого рода? Например, 'некий' в выражении 'некий человек из толпы'
может соответствовать как квантор существования, так и квантор всеобщности, поскольку она
может обозначать как любого человека из толпы, так и определенного, в зависимости от
интерпретации. Однако для метода парафраза как такового эта трудность не является губительной
постольку, поскольку сохраняется надежда преодолеть ее в результате совершенствования самого
метода и, таким образом, продолжать рассматривать ее как техническую трудность.
Если трактовать 'то, что написало роман Уэверли' как пропозициональную функцию (‘х
написало Уэверли’), как это делает Рассел, то эта фраза должна сказываемой о любом, кто или что
удовлетворяет описанию 'написало Уэверли'. Но употребление определенных дескрипций в
интенсиональных контекстах остается чреватым (по крайней мере) двусмысленностями
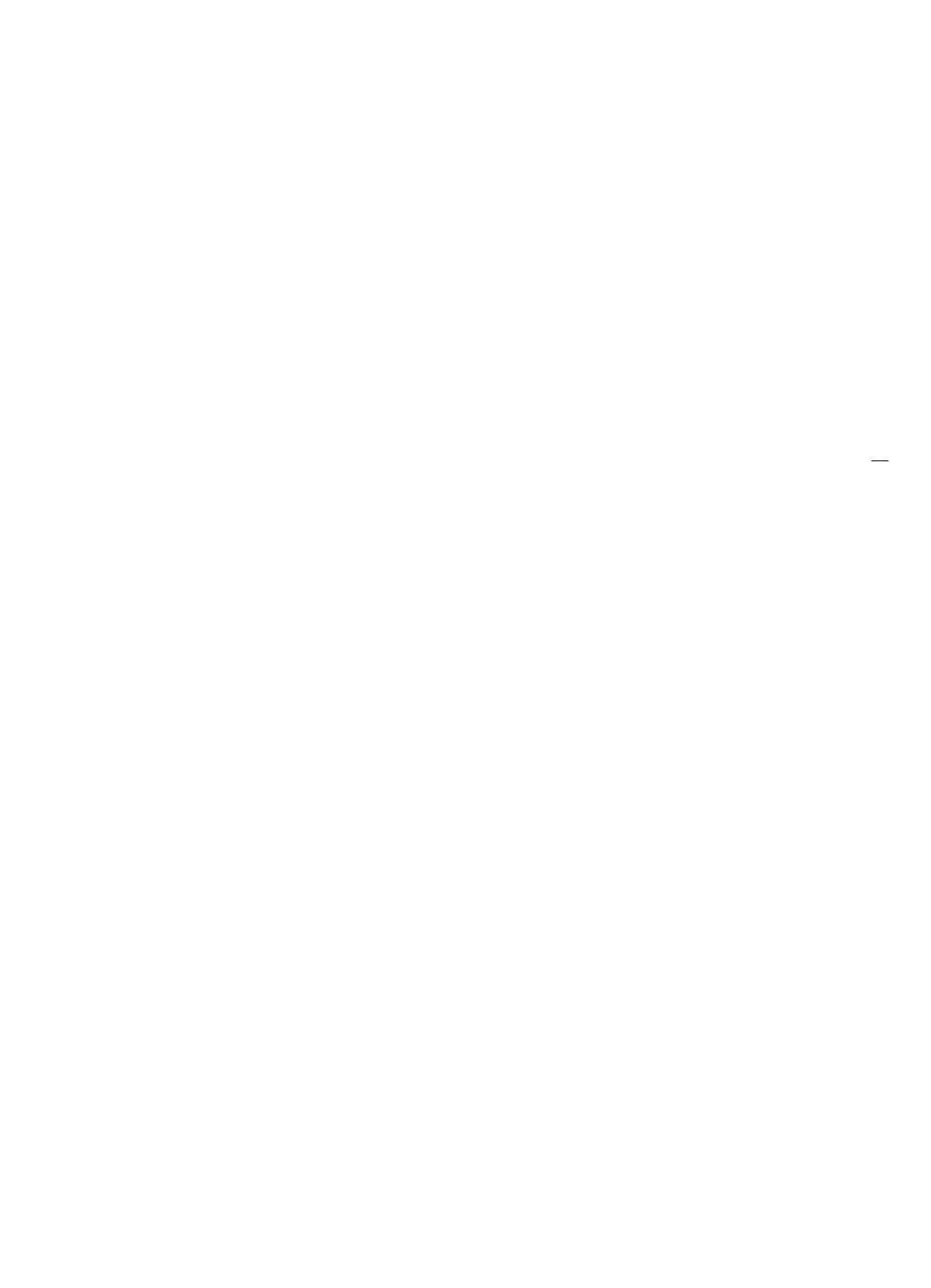
интерпретации. Так, одна из них связана с возможностью квантифицировать переменную как вне,
так и внутри интенсионального контекста, другая, иногда формулируемая в схоластических
терминах как различие между 'de dicto' и 'de re' интерпретациями — с возможностью
квантифицировать переменную квантором общности или квантром существования. Так,
высказывание ‘А ищет В’ можно понимать как истинную или ложную относительно
единственного конкретного индивида, которого ищет А, а можно — как истинную или ложную
относительно любого, кто удовлетворяет дескрипции ‘В’.
Проблема неоднозначности интерпретации (de dicto или de re, или что-то еще), таким образом,
остается; пока дело касается языка логики — все в порядке, но, когда доходит до предполагаемых
аналогов выражений со связанными переменными в естественных языках, возникают трудности с
переводом: как и в случае с выражением 'то, что написало Уэверли', здесь остается возможность de re
интерпретации выражений типа 'нечто, что пегасит' и, соответственно — парадокса "бороды
Платона": как может нечто не существующее быть референтом термина (в частности, как оно может
отрицаться)? И все же, в той мере, в какой сохраняется хотя бы призрачная возможность перевода
конструкций естественных языков на язык логики, остается и возможность устранения de re
интерпретаций и, соответственно, решения проблемы референции в духе Рассела и Куайна. Но один
из тезисов Куайна, получивший в литературе название тезиса онтологической относительности,
ставит онтологические обязательства языка в зависимость от его структуры; с другой же стороны
референциальная часть языка при таком подходе сама оказывается онтологически зависимой
[4]
. Для
того, чтобы объяснение референции или референциальности в терминах структуры языка или
концептуальной схемы, отвечающее критерию онтологической относительности, не было
реверсивным — т.е. использующим ссылки на онтологические обязательства системы как на то, что в
конечном счете определяет порядок связывания переменных — требуется, чтобы какая-то другая
часть языка определяла как его
онтологию, так и его референциальную структуру и сама при этом
была свободна как от референциальных, так и онтологических предпосылок. Эту часть должно
составлять то, что, согласно онтологическому критерию Куайна — "быть значит находиться среди
значений переменной" — определяет структуру распределения таких значений, иначе говоря, виды
сущностей и, соответственно, допустимые типы связывания переменных.
Но может ли такая часть языка считаться действительно самостоятельно действующей,
референциально или онтологически нейтральной силой? Ведь онтология и референциальная
структура языка при таком подходе вместе ставятся в зависимость от тех приемов и методов,
посредством которых мы — владеющие и использующие этот язык — структурируем наш опыт и
обучаем тому же новых членов нашего коммуникативного сообщества. Эти методы вполне могут
аккумулировать в себе различные референциальные и/или онтологические пресуппозиции. Так,
значения предикатов Куайн описывает с помощью понятия истинности, понятого в терминах
семантической концепции Тарского: значение предиката состоит в том, что он истинен относительно
каждого (или ни одного) объекта из множества, составляющего его объем. 'Истинен относительно' в
терминах Тарского расшифровывается через понятие удовлетворения (satisfaction) предиката
(сентенциальной функции или, иначе, открытого предложения, т.е. предложения с переменной)
последовательностями объектов. Но таким образом значение предикатов и, соответственно,
предикатная, концептуальная структура языка ставится в зависимость от онтологических
обязательств. Чтобы ответить на вопрос "Каковы онтологические обязательства, соответствующие
той или иной теории или тому или иному языку?", необходимо знать не только условия истинности
для соответствующих предложений языка, но и как интерпретировать переменные — что именно
подставлять на их место в предложениях в том или ином контексте (определяемом
межконцептуальными связями внутри языка). Это знание должно быть существенной частью того,
что должен знать человек, говорящий на каком-то языке.
1.1.4. Каузальная референция
Согласно сложившимся представлениям, референция может осуществляться, вообще говоря,
тремя способами.
1.
В тех (редких) случаях, когда наш доступ к рассматриваемой вещи непосредственен, мы можем
указывать непосредственно на вещи. Это использование имени соответствует расселовской концепции
логических имен собственных. Такой привилегированный доступ к вещи — исключение, и как только
мы отдаляемся от нашего референта в пространстве или времени, наш доступ становится косвенным.

"Косвенная" референция достигается одним из двух способов:
2. Мы можем устанавливать референцию обычных имен собственных и терминов
естественных родов, используя определенные дескрипции, где референты соответствующих
терминов — индивиды и рода, обозначенные (denoted) определенными дескрипциями.
3. Наше использование имен собственных или общих терминов может иметь некоторое каузальное
происхождение, где референты соответствующих терминов — индивиды и рода, которые фигурируют
некоторым важным способом в каузальных историях этого происхождения.
В любом из двух последних случаев мы можем успешно осуществлять референцию и
использовать соответствующие термины без того, чтобы знать, на что мы указываем. Например,
мы можем использовать определенную дескрипцию "причина ощущения S", чтобы установить
референцию "высокой температуры", не имея ни малейшей идеи, что является причиной
ощущения S. Точно так же наше использование выражения "электрон" может иметь некоторое
каузальное происхождение, которое определяет его референт, естественный род, без наличия у нас
какого бы то ни было представления о том, каково каузальное происхождение нашего
использования этого термина.
Так, Сол Крипке утверждает, что фрегеанская теория не в состоянии дать адекватную теорию
того, как имена указывают на предметы, и предлагает более адекватное, по его мнению,
объяснение того, как имена выбирают свои референты
[5]
. В теории Крипке появляются два важных
компонента: социальный и каузальный. Теория дескрипций считает, что имя N обозначает объект x
при использовании S в том случае, если x единственно удовлетворяет всем или большинству таких
предикатов F, что S согласился бы с "N есть F"; имя определяет свое обозначение с помощью
критерия пригодности. Но во многих случаях информация, обычно связываемая со
специфическими индивидами, является ошибочной. Поэтому теория дескрипций могла бы быть
расширена за счет включения социального элемента, который Крипке считает необходимым.
Согласно такой альтернативе, имена должны рассматриваться как играющие референциальную
роль в пределах языкового сообщества, а дескрипции, которые связаны с именем, должны
определяться общепринятыми полаганиями по поводу называемого индивида. Это не обязательно
должно достигаться усреднением полаганий языкового сообщества, касающихся этого индивида:
может быть увеличен "удельный вес" отдельных дескрипций — например, принадлежащих таким
членам языкового сообщества, кто обладает лучшим знанием рассматриваемого индивида
("экспертам").
Согласно Крипке, выбор не может зависеть исключительно от свойств, которыми обладает
индивид; каузальный элемент должен быть включен в любую успешную теорию референции.
Необходимость в каузальном элементе может быть обнаружена по следующей аналогии:
расплывчатая фотография все же является фотографией именно некоторого специфического
человека на основании причинного отношения, даже если мы можем получить лучшее
представление о внешности этого человека по фотографии его близнеца.
Согласно каузальной теории, если я не первым использую то или иное имя, то референт моего
использования имени зависит от использования имени тем человеком, от которого я (каузально)
перенял это имя. И если этот человек не первый начал (ввел) использование имени, то референт
его использования имени зависит от использования этого имени тем человеком, от которого он
перенял это имя, и так далее к первоначальному "крещению". Первоначальное представление
имени может быть рассмотрено просто как акт "прикрепления ярлыка" (labeling), как акт
назначения имени значения определенной дескрипции (например, человек передо мной сейчас),
или как акт "фиксации референции" имени при помощи определенной дескрипции. Референт
имени в каждом данном случае его использования есть функция своего каузального
происхождения. Каузальная теория оправданно критиковалась как слишком неопределенная в
спецификации релевантных каузальных цепей, определяющих референцию. Чтобы сделать
представление более точным, следует обратиться к контрпримерам, привлекающим
"ненормативные" каузальные цепи
[6]
.
Возникающий в этой связи вопрос таков: каковы онтологические основания для этих
каузальных цепей? На что, с такой точки зрения, указывает тот факт, что индивид (как
предполагается) может быть каузально прослежен в интенсиональных контекстах — на
каузальную связь между элементами мира или на конвенциональные классы высказываний?

1.2. Принцип онтологической относительности
Самое онтология может рассматриваться в рамках аналитического подхода как функция
эпистемологии и/или семантики — например, в аргументах, объясняющих, каким образом мы можем
делать значимые высказывания при помощи терминов, обозначающих несуществующие вещи.
Принцип онтологической относительности интересен как раз тем, что обещает однородный метод
установления онтологических заключений, нейтральный в отношении (реального) онтологического
статуса референтов.
1.2.1. Внутренние и внешние вопросы существования
Представления об онтологической относительности восходят к концепции языковых каркасов
Карнапа. Задать языковый каркас, по Карнапу, значит задать способы выражения, подчиняющиеся
определенным правилам
[7]
. Эта концепция была предложена в развитие расселовой идеи
многоступенчатого исчисления предикатов.
Предикат — функция р(х) — принимает два значения: истина и ложь. Если зафиксировать
область определения этой функции и поставить перед ней квантор общности или квантор
существования, то она превратится в истинное или ложное высказывание. Так, например, предикат
‘х — простое число’, определенный на множестве натуральных чисел, превращается в ложное
высказывание ‘(∀х)(х — простое число)’ и в истинное ‘(∃х)(х — простое число)’. Исчисление
предикатов второй ступени возникает, когда вводится, грубо говоря, функция от функции ‘Р(р(х))’,
т.е. тогда, когда сами предикаты становятся аргументами других предикатов. При этом вводится
переменная более высокого уровня, пробегающая уже множество индивидов и предикатов, причем
эта переменная может быть связана кванторами общности и существования. Так, например, мы
можем утверждать, что для всякого х, где х — натуральное число, существует у, где у — класс
натуральных чисел, содержащий какое-либо простое число, такой, что вcе элементы этого класса
расположены на числовой оси правее х. Здесь у — предикатная переменная, пробегающая
множество предикатов "быть элементом класса, содержащего какое-либо простое число" (в
предельном случае этот класс может состоять из одного простого числа). В обычной логике
предикатов мы утверждаем, что существует х, попадающий в тот или иной класс. В логике
предикатов второй ступени мы уже можем утверждать, что существует класс (описываемый
предикатом), элементом которого является некоторый х.
Языковые каркасы Карнапа указывают на более строгую, чем в традиционной метафизике
(основанной на перечислении свойств существующего) трактовку идеи существования, делающую
ее производной от более ясной идеи истины. Существовать, по Карнапу, значит быть значением
квантифицированной (связанной квантором общности или квантором существования) переменной.
Формулы, начинающиеся с кванторов, т.е. формулы типа "для всякого х..." или "существует такой
х, что...", в отличие от формул типа "а обладает свойством А", могут быть либо эмпирически
проверены, либо теоретически доказаны, либо и то и другое.
В связи с языковым каркасом Карнап различает внутренние и внешние вопросы
существования. Внутренний вопрос — это вопрос, задаваемый в терминах языкового каркаса и
предполагающий ответ, построенный в соответствии с его правилами. Внешние вопросы
существования ставятся вне языкового каркаса. Это вопросы о самом языковом каркасе, об его
уместности в данной ситуации или в связи с данной проблемой. Ответ на внешний вопрос
существования определяет тот язык, на котором будет ставиться внутренний вопрос и в рамках
которого будет обсуждаться и формулироваться ответ на этот вопрос. В отличие от внутренних
вопросов, которым предпосланы правила оценки на истинность и ложность, заложенные в
языковом каркасе, внешние вопросы решаются исходя из прагматических соображений и
определяются гласным или негласным соглашением группы исследователей. Вопросы о родах
существующего, предполагаемых в языковых каркасах, относятся к внутренним вопросам
существования, и ответы на них достигаются выяснением внутренних концептуальных ресурсов
того или иного языкового каркаса. Принять новый языковый каркас значит принять новый способ
выражения, а это может означать допущение некой новой области предметов, к которым отсылает
этот новый способ выражения.
Задание некоторого языкового каркаса означает задание некоторой совокупности
аналитических предложений. Предложение, аналитическое в одном языковом каркасе, может и не

быть таковым в ином каркасе. Внутренние вопросы существования могут получать как
аналитические, так и синтетические ответы; при этом синтетические ответы предполагают в
качестве условия понятие аналитичности в языке L. Внешние же вопросы существования не
получают ни аналитических, ни синтетических ответов. Ответы на них даются в результате
конвенций, принимаемых группами исследователей по каким-либо практическим соображениям.
Куайн согласен с Карнапом в том, что "существовать значит быть значением
квантифицированной переменной" (формулировка Куайна), но не выстраивает каких-либо
иерархий языков и онтологических утверждений — напротив, он акцентирует внимание на
альтернативных теоретических конструкциях, каждая из которых допускает что-то, что запрещено
в другой. Куайн выступает против статуса онтологических вопросов как статуса первых вопросов
существования, непосредственно обусловленных внешними вопросами; по его мнению, каждый
вопрос теории соединяет в себе то, что Карнап разводит как внутренние и внешние вопросы, а
именно, затрагивает как предмет обозначения, так и оценку целесообразности того языка, на
котором эти изыскания разворачиваются — делая значимые утверждения на некотором языке,
говорящий вторгается в сферу онтологического, т.е. предполагает некие рода сущего.
Куайн критикует Карнапа, указывая на две обусловливающие одна другую предпосылки
карнаповской точки зрения — дихотомию аналитического и синтетического и редукционизм,
утверждающий непосредственную или опосредованную сводимость теоретических предложений и
терминов к некой общей эмпирии. Аргументация здесь такова:
1. Дихотомия аналитического и синтетического предполагает редукционизм, потому чтодля
того, чтобы показать аналитичность предложений вида "все холостяки неженаты", надо прояснить
синонимию субъекта и предиката этого утверждения, сведя их к некоей совокупности данных,
показывающей, что области значений терминов "холостяк" и "неженатый мужчина" либо
совпадают, либо входят одна в другую. Истинность наших утверждений зависит как от языка, так
и от внеязыковых фактов, а последние для эмпириста сведутся к подтверждающим данным опыта.
В том крайнем случае, когда для определения истинности будет важен только лишь языковой
компонент, истинное утверждение будет аналитичным. При этом значения эмпирических
терминов не должны меняться в пределах данного языкового каркаса, т.к. иначе будет невозможно
доказать аналитичность.
2. Сводимость теоретического знания к эмпирии предполагает дихотомию аналитического и
синтетического, так как сведение теоретического предложения к протокольному требует
определенных дополнительных посылок, скажем, проверка предложения "Черняк — выдающийся
философ современности" требует посылки "Черняк существует". Непосредственная сводимость
означает "одношаговый" вывод из данного теоретического предложения "протокола наблюдения",
опосредованная — многоступенчатый вывод, при котором доказываются некие промежуточные
предложения. При этом данный вывод будет сведением (проверкой) именно рассматриваемого
предложения только в том случае, если эти дополнительные посылки будут аналитическими и,
значит, непроблематичными, не подлежащими проверке.
Но мы не можем фиксировать аналитических предложений, не допуская (пусть относительно
данного языкового каркаса) существующих помимо нашего сознания универсальных значений.
Так, принимая в качестве аналитического предложение "все холостяки не женаты", мы должны
принять, что объективно существует свойство "не являться женатым", под которое подпадает
свойство "быть холостым"; такой постулат представляется избыточным. Язык, согласно Куайну,
структурирован лишь постольку, поскольку включает конвенции, оправдываемые практикой, а
также проверяемые фактами предложения.
1.2.2. Относительность интерпретации теории
Поэтому Куайн выдвигает тезис онтологической относительности, направленный против
некритического принятия онтологии теории в качестве чего-то, существующего абсолютно,
независимо от языка теории. Онтологическими называют утверждения о существовании объектов;
онтологией называется совокупность объектов, существование которых предполагается теорией.
Согласно Куайну, онтология дважды относительна. Во-первых, она относительна той теории,
интерпретацией которой она является (интерпретировать теорию значит приписать значения ее
связанным переменным). Во-вторых, она относительна некоторой предпосылочной теории, в роли
которой обычно выступает некоторая исходная система представлений (в предельном случае, в
духе Дэвидсона — естественный язык). Онтологические утверждения некоторой новой теории

делаются с помощью предпосылочной теории. Первая теория интерпретируется на второй, т.е.
термины второй теории используются в качестве значений связанных переменных первой. С такой
точки зрения (по выражению Куайна, "с точки зрения эпистемологии"), физические объекты и
гомеровские боги не имеют родовых отличий и различаются только в степени
интерпретированности, подкрепленности актуальной концептуальной схемой.
По-видимому, интенция Куайна состоит именно в том, что принятие онтологической
относительности решает проблему "бороды Платона" среди прочих. Но так как его самый общий
критерий для онтологической относительности утверждает, что онтологические обязательства
языка определяются минимальным составом его связанных переменных, а в естественных языках
мы практически не имеем дела с предложениями с переменными, то этот критерий может работать
лишь постольку, поскольку (помимо прочих) решена проблема установления однозначной
корреляции между референциально значимыми фрагментами естественных языков и языком
логики (в частности, теории квантификации), которая бы оправдывала парафразы предложений
естественного языка в требуемые логические формы - например, переводящие предполагаемые
имена в позиции предикатов.
Разумеется, было бы наивно требовать полной формализации естественного языка и считать
отсутствие такой возможности провалом критерия онтологической относительности. Однако в
любом случае речь идет о минимальном наборе переменных; вопрос в том, может ли он быть
обнаружен без трансформации семантических категорий. Если принимать по-расселиански, что при
предикатах-константах имена выполняют роль переменных, то референции собственных имен и
других единичных терминов следует понимать как переменные при предикатах. Но, если, как Куайн,
отказывать в существовании в естественных языках особому классу собственных имен (разве что по
идиоматическим функциям остающихся таковыми), то тогда роль таких переменных вообще
переходит к самим объектам из объема квантификации.
Формально критерий онтологической относительности ("существовать значит быть значением
квантифицированной переменной") выглядит так. В стандартной семантике условия истинности
кванторного выражения формулируются следующим образом: (∃х) F(x) истинно ттт, когда
существует объект, выполняющий F(х). Поскольку эта формулировка представляет собой
эквивалентность, мы можем рассматривать ее не только в качестве определения условий
истинности квантификации, исходя из существования объекта, но и наоборот — как вывод о
существовании объекта, исходя из истинности кванторного выражения. Подобное обращение
является основой использования формализованных языков для выявления объектов, допускаемых
теорией. Далее, критерий онтологической относительности может быть переформулирован как
критерий онтологических допущений, выявляющий объекты, существование которых следует из
предположения об истинности формализованной теории. Последний также является не чем иным,
как обращением базового положения стандартной семантики, гласящего, что существующие
объекты могут быть обозначены, а заключающие о них пропозиции могут иметь истинностное
значение.
Отсюда принято выводить неправомерность универсального онтологического прочтения
экзистенциального квантора и критерия Куайна как выражающих именно реальное
существование, поскольку в стандартной семантике в качестве объектов могут рассматриваться и
мысленные объекты. Рассмотрим это возражение подробнее постольку, поскольку оно затрагивает
логическую форму высказываний.
1.2.3. Объектная и подстановочная интерпретации квантора существования
Форма аргумента Куайна такова:
T истинно.
T имеет обязательство к (is committed to) F.
Следовательно, существует F.
T здесь — теория, т.е. множество предложений, которые не должны быть дедуктивно
замкнутыми.
Первая посылка устанавливается любым способом, релевантным для специфической
рассматриваемой теории. Вторая интерпретируется в свете куайнова критерия,
переформулированного как критерий онтологического обязательства, а именно: T имеет
онтологическое обязательство к F только и если только F квантифицируется среди объектов в
диапазоне кванторов предложений Т таким образом, чтобы все предложения Т были истинными.
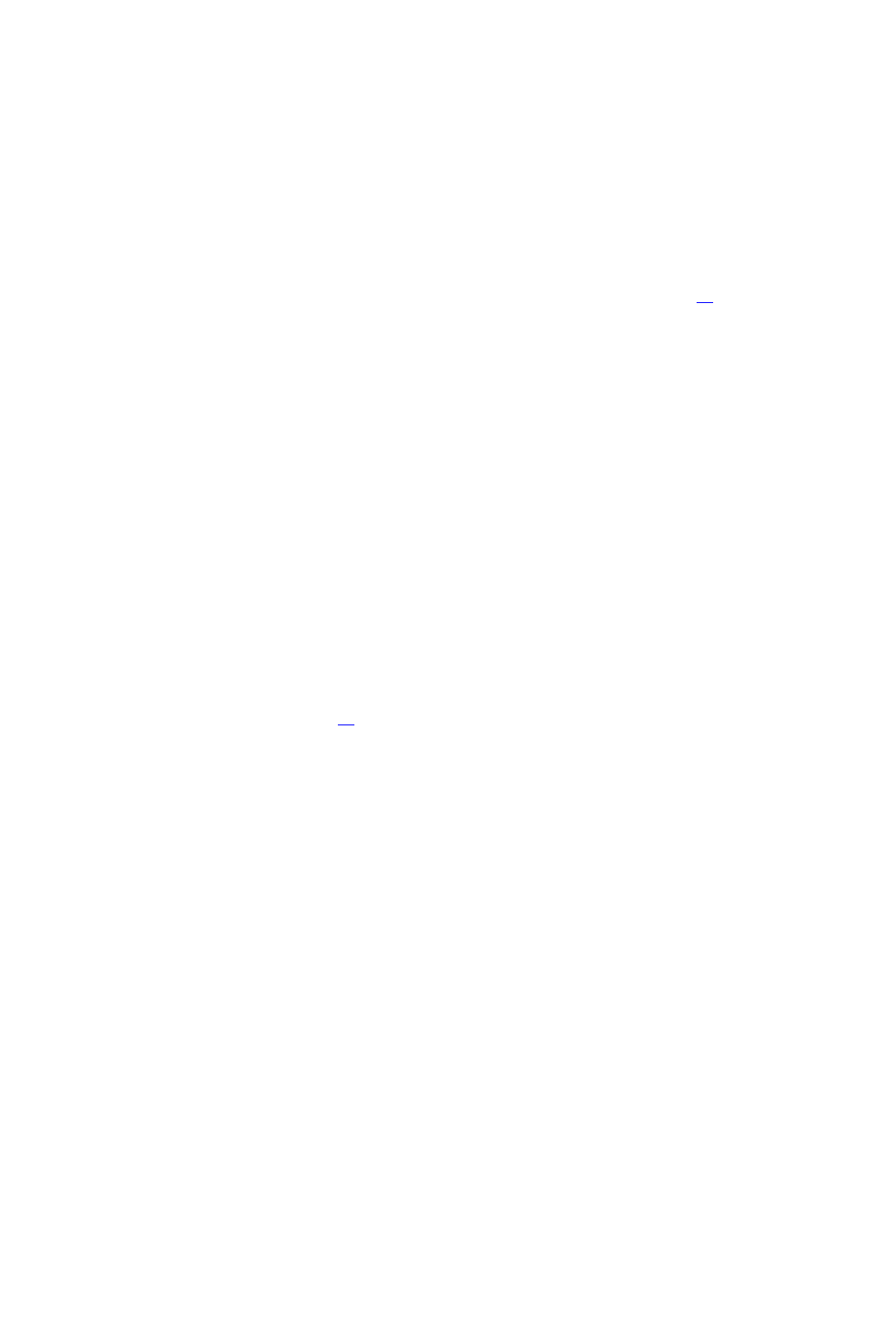
Критики куайнова критерия онтологического обязательства показали, что, поскольку в
качестве объектов могут рассматриваться и мысленные объекты, онтологическое обязательство не
является отношением между теорией и объектом или множеством объектов. Для приписываний
онтологического обязательства "T имеет обязательство к F", где F заменено сингулярным
предикатом, критерием является то, что T имплицирует предложения формы "(∃х) Fх". Аргумент
принимает следующую форму:
T истинно.
T имплицирует предложения формы (∃х) Fх.
Следовательно, существует F.
Однако здесь возникают новые возражения. В частности, во второй посылке обнаруживается
допущение, что кванторы в предложениях T должны интерпретироваться объектно. Поэтому для
валидности аргумента мы нуждаемся в дополнительной посылке, согласно которой логическая
форма предложений должна быть дана в терминах объектной квантификации
[8]
. Но по крайней
мере не очевидно, что такая посылка истинна.
Возражение этой посылке основано на истинности предложений вида
(1) Пегас — крылатый конь.
Это истинное предложение имплицирует
(2) (∃х) (x — крылатый конь)
Можно спасти наши полагания о несуществовании крылатых коней, используя для (2) подстановочную
интерпретацию. Аналогичным образом, можно полагать, что
(3) (∃х) N(x = 9)
(где N — знак необходимости), потому что
(4) N(9 = 9)
несмотря на то, что
(5) 9 = число планет & ~N(число планет = 9)
Но объектная интерпретация (3) (и прочтение термина "число планет" как единичного) делает
конъюнкцию (4) и (5) противоречивой. Подстановочная интерпретация позволяет каждому из
предложений (3) - (5) быть истинным
[9]
.
Различие между объектным и подстановочным типами семантической интерпретации состоит
в следующем. Референциальные системы описания имеют четко очерченную онтологию:
превращение формальных схем в утверждения о внешнем мире происходит при подстановке в
схемы вместо переменных имен существующих объектов. В соответствии с этим подходом
интерпретация семантического аппарата должна быть релятивизована к некоторой (в общем
случае произвольной) области объектов. Переменные пробегают по этой области, а индивидные
константы (имена) обозначают ее фиксированные объекты. Формулы вида (∃х) F(x) истинны ттт,
когда в универсуме рассмотрения существует по крайней мере один объект, удовлетворяющий F.
Поэтому вопрос о статусе имен в теории становится особенно важным, когда речь идет о том,
какие объекты существуют с точки зрения данной теории.
Подстановочная интерпретация предполагает другой взгляд на функцию формальной системы
в построении значимых высказываний: эта теория вообще ничего не говорит о существовании
объектов. Значениями переменных являются не объекты, а термины. Предложение вида (∃х) F(x)
истинно ттт, когда найдется хотя бы один термин, подстановка которого на место переменной в
открытое предложение F(x) дает истинное предложение. Подстановочный квантор ($х) не имеет
экзистенциального прочтения, а определение условий истинности кванторных выражений
осуществляется без непосредственного привлечения теории референции и не вызывает
характерных затруднений с модальными, косвенными и другими референциально непрозрачными
контекстами. В этом типе метатеории ничего не говорится об онтологии формализуемой теории.
Каждый объект представляется термином; иначе говоря, предполагается, что с точки зрения
метатеории (формализованной теории) нет никакой разницы между объектом и термином. Это
означает, что подстановочный тип теории применим там, где каждый объект имеет имя, и является
такой ревизией референциального типа теории, при которой элиминируются все вопросы указания
на объект. Так, в подстановочной теории универсальная квантификация истинна, когда она
истинна при подстановке всех терминов, а не для всех значений переменной, как в

референциальной теории. Соответственно, все объекты теории референциального типа могут быть
представлены знаками теории подстановочного типа.
Контраргумент здесь состоит в следующем: позиция, с которой наше предложение (1) истинно, плохо
согласовывается с нашим полаганием, что предложение
(6) Нынешний король Франции лыс.
не истинно. Полагаем ли мы (6) ложными или испытывающим недостаток истинностного значения в
целом, мы в любом случае не можем признать его истинным по той причине, что единичный термин,
который является его грамматическим подлежащим, не имеет референта, как и в предложении (1).
Очевидно, что требования вида
(7) У Мэри был крылатый конь.
отвергаются на том основании, что никаких крылатых коней не бывает, поэтому Мэри вряд ли
могла бы иметь такое животное. Это предполагает объектное прочтение квантора "не бывает".
Наконец, если (1) должно быть истинным, то его условия истинности должны сильно отличаться
от условий истинности таких поверхностно подобных предложений, как (7). Это различие должно
объяснить, как получается, что, хотя предложение (2) может кем-то полагаться истинным, есть и
другой смысл, в котором оно наверняка является ложным, так как в (некоторой) действительности
никаких крылатых коней не бывает. Если проведено это различие в условиях истинности, то (1) и
(2) должны рассматриваться как неоднозначные и должны быть заменены парами предложений,
логические формы которых более ясно указывают их содержание. С точки зрения сторонников
объектной квантификации, (1) и (2) должны получить объектную интерпретацию и, следовательно,
считаться ложными. Смысл, в котором они могут полагаться истинными, получит парафраз в
терминах полаганий некоторых (определенных) людей, или импликаций в некотором корпусе
литературных текстов, или истины в некоторых возможных мирах.
Таким образом, обращение к нашим полаганиям относительно (1) и (2) само по себе не требует
обращения к подстановочной квантификации. И поскольку возможны референциальные
интерпретации (3) - (5), делающие каждое из этих предложений истинным
[10]
, то не обязательно
интерпретировать (3) подстановочно. Однако отсюда еще не следует, что логическая форма
предложений непременно должна быть дана в терминах объектной квантификации.
Если мы назначаем логическую форму первого порядка всем предложениям в множестве S и
принимаем первопорядковое исчисление как адекватное для выражения логической импликации,
то мы можем точно сказать, какие именно члены S связаны отношениями импликации. Такое
обязательство может быть поддержано или оспорено обращением к нашим полаганиям о
логических импликациях S. Таким образом, аргумент
Рост Джона — 5 футов, и рост Питера — 5 футов.
Поэтому Джон и Питер одного роста.
и другие подобные, состоящие из предложений такого вида, имеют форму
H (J, 5) & H (P, 5)
(∃x) [H (J, x) & H (P, x)]
Если мы используем объектную квантификацию в назначении логической формы, то
истинность составляющих импликацию предложений зависит от существования чисел — иными
словами, если мы решаем назначить предложению "Джон и Питер одного роста" форму (∃x) [H (J,
x) & H (P, x)], и при этом полагаем, что это предложение истинно, то мы принимаем
онтологическое обязательство к числам, практически по-пифагорейски полагая их
существующими наравне с Джоном и Питером. Но если мы рассматриваем основания, на которых
мы можем обосновывать принятие решений и наличие полаганий, то мы видим, что подобное
обязательство не может послужить нам таким основанием. Основанием для назначения
логической формы выступают скорее наши полагания о логической импликации — основанные, в
свою очередь, на данных наблюдения, определенных умозаключениях или прецедентах, или на
чем бы то ни было, что является релевантным в нашей концептуальной схеме. Но было бы весьма
