Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.

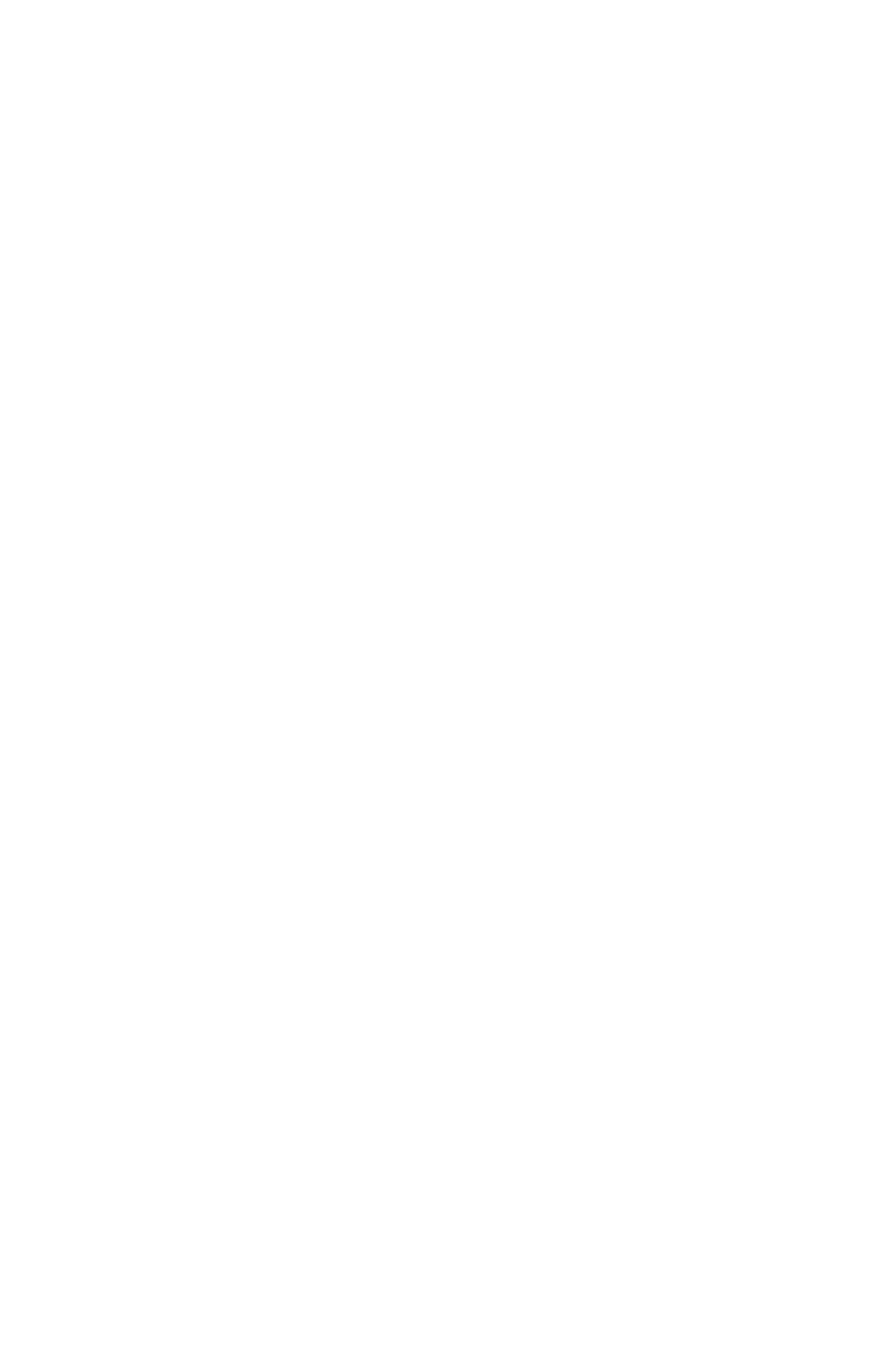
уметь справляться со сдвигами в восприятии, ценностях и языке, необходимо также уметь
учитывать те изменения, которые произошли после рассматриваемого периода. Между
нашими оценками второй мировой войны в 1985 и в 1950 гг. неизбежно будут различия, хотя
бы потому, что за это время обнаружилось много новых свидетельств, но также и потому, что
с годами проявились и более отдаленные последствия этих драматических событий —
холодная война, создание ООН, возрождение экономик Германии и Японии.
За счет того, что историки переформулируют проблемы в современных терминах и опираются
на знания, прежде бывшие недоступными, им удается обнаруживать то, что было ранее
забыто или некорректно сведено вместе, а также открывать то, что никому прежде не было из-
вестно.
3
О таких понятиях, как «Ренессанс» или «классическая античность» и «речи не могло
быть в начале процесса, и... в полной мере они были признаны и сформулированы лишь по
мере приближения к концу эпохи, — отмечает Р. С. Хамфри (Humphrey). — Люди и общества
уловлены в такой момент их развития, который можно уловить и описать лишь «задним
числом», документы вырваны из оригинального
1
Vansina. Oral Tradition. P. 44, 45.
2
Pollard. Historical criticism. 1920. P. 29. См. также: Baas. Continuity and Anachronism. P. 281.
3
Современные интерпретации событий прошлого одновременно и более вразумительны для современного человека, и
более психологически достоверны: становление династии куда лучше объясняет «харизма», чем обладание теми или
иными реликвиями, хотя люди того времени более доверяли реликвиям и сочли бы любые разговоры о харизме
малопонятными. Для того, чтобы понять, что именно произошло, нам приходится использовать наши современные
представления, которых, конечно же, не могло быть у обитателей той эпохи (Munz. Shapes of Time. P. 80, 93).
343
контекста, заключавшего в себе их цели и функции,... для того, чтобы проиллюстрировать схемы,
которые, вполне вероятно, мало что значили для любого из их авторов».
1
То обстоятельство, что историку заранее известен исход сил, действовавших в прошлом,
вынуждает его формировать отчет таким образом, чтобы тот соответствовал ходу событий. Темп,
угол зрения, временной масштаб его наррации (повествования), — все несет на себе отпечаток
подобного ретроспективного знания, потому что он «должен не только знать, чем закончились
интересующие его события, но должен использовать эти познания в своем повествовании».
Ссылаясь на чемпионскую гонку 1951 г. в Национальной бейсбольной лиге, когда «Гиганты»
сумели с последнего места в середине сезона в последний день перескочить на первое место,
Хекстер показывает, что «если бы писатель не знал итогового результата, он ни за что не смог бы
правильно соотнести пропорции своего повествования с реальными темпами событий».
2
Даже сам процесс коммуникации предполагает внесение некоторых изменений для того, чтобы
сделать прошлое более убедительным и вразумительным. Как и память, история объединяет,
сжимает, преувеличивает события, уникальные моменты прошлого выходят на первый план, а все
мимолетное и неинформативное — отступает в сторону. «Мы сжимаем время, отбираем
отдельные детали и выводим их на первый план, концентрируем действие, упрощаем отношения,
— но все это не для того, чтобы приукрасить или исказить действующие лица и события, а лишь
для того, чтобы оживить и придать им смысл... на фоне непостижимой множественности
прошлого».
3
Случайные и разрозненные факты прошлого становятся вразумительными только тогда, когда мы
соединяем их в истории. Даже самым эмпирически ориентированным хроникерам приходится
придумывать нарративные структуры для того, чтобы придать времени форму. «Res gestae с
успехом могут представлять собой одно событие, следующее за другим, — утверждает Мюнц, —
но они никогда не смогут проявить себя как таковые», поскольку в этом случае будут лишены
всякого смысла." И поскольку в любой вразумительной истории подчеркиваются объяснительные
связи и преуменьшается роль случайностей, история как результат познания оказывается гораздо
более предсказуемой, чем можно было бы ожидать от прошлого как такового.
5
1
Humphrey. The historian, his documents, and the elementary modes of historical thought. P. 12. Историк открывает не
только то, что было полностью забыто, но и «то, о чем, пока он не отыскал это, никто вообще не знал, что такое было»
(Коллингвуд. Идея истории. М., 1980. С. 238). См.: Danto. Analytical Philosophy of History. P. 115, 132; von Leyden.
Categories of historical understanding. P. 68—70.
2
Hexter. Rhetoric of history. P. 338. Такой подход обесценивает проводимое Спен-сом в его работе различение (Spence.
Narrative Truth and Historical Truth).
3
Arragon. History's changing image. P. 230.
4
Munz. Shapes of Time. P. 239.
5
Mink. Narrative form as a cognitive instrument. P. 147.
344
До тех пор, пока в истории не будут представлены убеждения, интересы и связи, она просто не
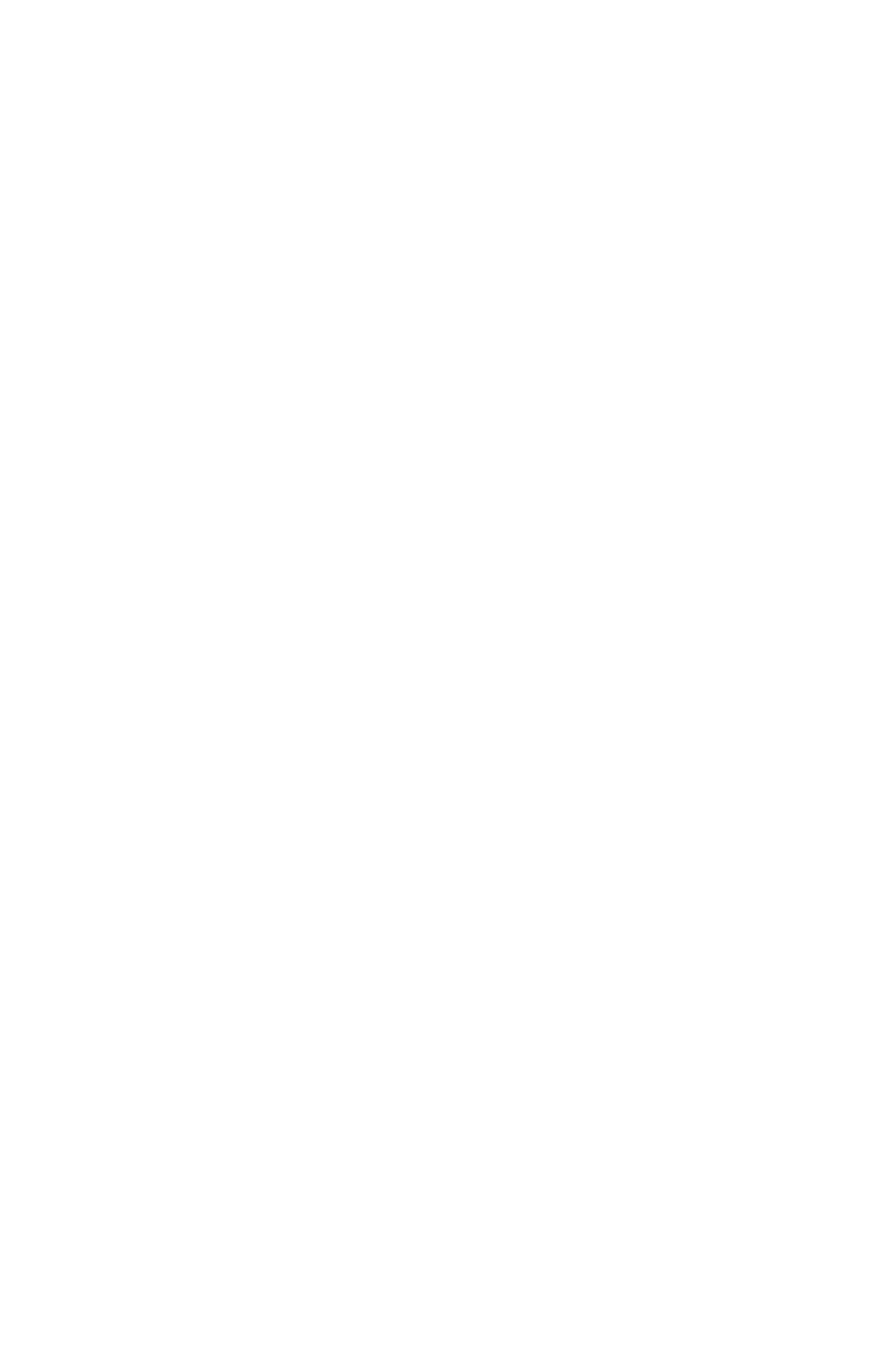
может быть понятной или интересной. Именно поэтому субъективные интерпретации, хотя они и
ограничивают знание, чрезвычайно важны для коммуникации. В самом деле, чем лучше
повествование представляет точку зрения историка, тем большего доверия заслуживает его
сообщение. История оказывается убедительной потому, что она организована и пропущена через
фильтр индивидуального сознания, а не потому что в ней имеются факты. Субъективная
интерпретация придает истории жизнь и смысл. «Обычно риторика подобна сахарной глазури на
пирожном истории», но в действительности «она замешана в само тесто. Она оказывает
воздействие не только на внешний облик истории,... но и на самый глубинный ее характер, ее
сущностные функции — ее способность передавать знание прошлого в том виде, как это было на
самом деле». Историческое познание зависит также и от эмоционального языка, поскольку если
историк оказывается не в состоянии передать другим то, в чем уверен сам, эти знания не станут
общественным достоянием и не будут восприняты другими историками, но останутся
разрозненным, случайным и невразумительным скоплением фактов.
1
Хекстер показывает, каким образом сноски, цитаты и списки имен служат таким риторическим
целям. Цитаты предстоят перед читателем как достоверные срезы прошлого. Цитаты — это нечто
такое, на что уже нельзя просто ответить «да», но исключительно «да, конечно!» Отсутствующие
атрибуции делают список имен убедительным и многозначительным:
В христианском возрождении, связанном с подъемом религиозного чувства и заботы,... есть место кардиналу Хименесу
и Джиромало Саванароле, Мартину Лютеру и Игнатию Лойоле, реформаторской церкви и иезуитам, Иоанну
Лейденскому и Павлу IV, Томасу Кранмеру, Эдмунду Кампиону и Мигелю Сервету.
Нам намеренно ничего не говорят, кем были эти люди, подразумевая при этом, что «мы должны
сами обратиться к собственным познаниям относительно тех времен, когда жили эти люди, для
того, чтобы придать смысл списку». То, что действительно имеет значение, так это не сами
приведенные имена, а их порядок, причем этот смысл можно усилить за счет перечисления ряда
идентифицирующих черт вместо имен:
Кардинал дореформационной эпохи, реформировавший церковь Испании, монах дореформационной эпохи, умерший на
костре во Флоренции за свою реформаторскую деятельность, первая великая фигура Реформации и первая великая
фигура Контрреформации,...
или же список может включать в себя имена и пояснения:
кардинал Хименес, кардинал дореформационной эпохи, реформировавший церковь Испании, Джироламо Саванарола,
умерший на костре во Флоренции за свою реформаторскую деятельность, Лютер, первая великая фигура Реформации, и
Лойола, первая...
Hexter. Rhetoric of history. P. 390, 380, 381.
345
Любой подход корректен и уместен. Но вместо того, чтобы предупредить читателя о том, что
он сам должен наделить их смыслом, наиболее информативные списки открыто
сигнализируют: «Хватит копаться в своей памяти. Я уже сказал тебе все, что, по моему
мнению, тебе следует думать по поводу этих людей», что, скорее, препятствует потоку
воображения, нежели отпускает его на волю. Историк, идя на риск, может и заблуждаться,
предполагая, что читатель в достаточной мере образован, чтобы наполнить смыслом такой
список самому, и считая, что коннотативный список лучше явного. Но дело в том, что любому
историку постоянно приходится судить, как много его аудитория знает, предпочитая
аллюзивный или же прямой стиль изложения, выбирая, чем пожертвовать: фактической ли
стороной дела, или широтой открывающихся ассоциаций.
1
Для этих целей он «воссоздает
прошлое в настоящем и предлагает нам не знакомые по воспоминаниям вещи, но
блистающую яркость возникающих в сознании галлюцинаций».
2
Хронология и нарратив
Так привычно думать об историческом прошлом в терминах нарра-тива, последовательностей,
дат и хронологий, что мы уже готовы признать, будто все эти атрибуты присущи и прошлому
самому по себе. Однако, это не так. Атрибуты приписываем событиям именно мы, о чем уже
шла речь в главе 2. Наша готовность располагать события в поддающиеся датировке
последовательности — это сравнительно недавнее культурное достижение.
Исторически факты лишены временной определенности и связности до тех пор, пока мы не
соединим их вместе в рамках единого повествования. Мы не способны воспринимать течение
времени иначе, чем в виде последовательности ситуаций и событий. Большая часть истори-
ческих представлений остается столь же смутными в темпоральном отношении, как и
воспоминания, лишенные связи не только с датами, но даже с последовательностью событий.
3
В устном повествовании привязка к календарю встречается редко, а потому, не имея

возможности сравнить или подумать, рассказчик и слушатели не придают особого значения
или же изменяют временные дистанции. Без датировки или постоянно ведущихся записей, к
которым можно обратиться, невозможно ни оценить продолжительность событий прошлого,
ни подтвердить определенный порядок их следования. Устное повествование, подобно
телескопу: приближает, расширяет и выстраивает сегменты прошлого в некую линию,
приписывая им определенное значение.
4
Наше восприятие перемен склонно группировать их
вместе в пределах от-
1
Ibid. P. 386—389.
2
Frye. Great Code. P. 227.
3
Mink. History and fiction as modes of comprehension. P. 545, 546; Goody. Domestication of the Savage Mind. P. 91, 92;
Kracauer. Time and history.
4
Henige. Chronology of Oral Tradition. P. 2—9.
346
дельных дискретных периодов, разделенных длительными периодами застоя, причем
важнейшие события относят либо к мифическому времени основания, либо к совсем
недавнему, а потому еще хранящемуся в памяти прошлому. А потому основателям династий
ставят в заслугу не только их собственные деяния, но и деяния потомков, чьи собственные
времена остаются без комментариев. Большая часть изустно передаваемого прошлого вполне
вписывается в убеждение, что между началом и недавним прошлым «ничего не было».
Напротив, большинство современных ученых историков концентрируют внимание на средин-
ных периодах, в ходе которых нарастающие перемены помогают пролить новый свет на ход
исторического процесса.'
Темпоральные черты устной коммуникации во многом сохраняются и после распространения
письменности, когда хроники по преимуществу читали вслух. Средневековая аудитория, как
колоду карт, перетасовала Цезаря, Карла Великого, Александра, Давида и прочих деятелей
античного мира. Потребовалось два века книгопечатания для того, чтобы приучить
европейцев смотреть назад в соответствии с упорядоченной последовательностью глав
истории.
2
Даже в современных книжных обществах прошлое для большинства людей
выступает как хаотическое и эпизодическое нагромождение имен и дат, мешанина
хронологически неупорядоченных или ошибочно связываемых фигур и событий. В этом
бурном и бесформенном море стоят несколько островков стратифицированных нарративов,
вокруг которых мы суетимся в поисках календарной достоверности.
Конечно, время имеет линейный и направленный характер. История всех событий
современности начинается в более или менее отдаленном прошлом и простирается в
неизменной последовательности до тех пор, пока они не прекратят своего существования или
не исчезнут из памяти. Упорядоченная последовательность потенциально дает каждому со-
бытию определенное темпоральное место, придает истории облик и форму, позволяет нам
соотнести наши собственную жизнь с контекстом внешних событий. Но даже в тех случаях,
когда наличие письменности облегчает датировку, разделенное на равные промежутки време-
ни прошлое служило по большей части целям сбора налогов, переписи подданных и отбора
кандидатов на чиновные должности.
3
К усвоению в качестве основы чувства времени хронологической последовательности привела
потребность в твердо установленном священном календаре, что в наиболее яркой форме
проявляется при расчетах наступлению Пасхи. Несмотря на то, что христианский календарь
еще в течение тысячи лет после его изобретения в VI в. не был принят всеми, его
использование позволило средневековым и более поздним
1
Miller J. С. Listening for African past. P. 16, 37. He знающие письменности общества воспринимают прошлое
существенно иным образом. См.: Block Maurice. The past and the present in the present; Peel. Making history.
2
Einstein. Clio and Cronos: an essay on the making and breaking of history-book time. P. 52; Gay Peter. Enlightenment, 1:344,
345; Hay. Annalists and Historians. P. 91.
3
Goody. Domestication of the Savage Mind. P. 91, 92.
347
хроникерам преодолеть недостатки устного нарратива. Хроники, в которых доминировали
события, уступили место аналитическим отчетам. Год за годом структура становилась более
важной, чем структурируемые события. Особые события — чума, коронация, изобретение, рож-
дение ребенка королевской крови — в таких ежегодниках вписывались в листы определенного
года, а если ни одно из событий не представлялось в достаточной мере значительным,
пронумерованные года просто оставляли пустыми. В этой ситуации самым важным было само

появление энумерации. Представляя собой года Господни, прошедшие от известного начала и
текущие по направлению к предопределенному концу, хронология теперь уже по праву обладала
богоданной полнотой и непрерывностью.
1
Подобного рода хронология доминировала в исторических текстах вплоть до XVII в. Когда
произошло то или иное событие, кто за кем следовал, как долго длились эпохи, — все эти вопросы
решались при помощи бесчисленных таблиц датировок, основанных на династиях и олимпиадах,
консулатах и трибунатах, линиях потомков Ромула и Рема, Адама и Авраама, Ноя и Энея. Однако
нарастающий конфликт христианской и научной истории делал календарь, в котором мифическое
и эмпирическое, космическое и священное смешиваются с секу-лярными событиями, все более
тщетным и абсурдным.
2
Мистика, связанная с началом и концом и тысячелетий, веков и декад все еще тревожит мысль. От
дурных предзнаменований накануне 1000 г. нам достался своего рода децимальный детерминизм,
приписывающий реальность эпохам, жестко привязанным к делению на века, причем рубежи 1800
и 1900 гг. отчетливо соотносились с болезнью fm-de-siecle.
3
А недавно уже и десятилетия стали
основой для отсчета календарной моды. Так, мы обозначаем девяностые словом «веселые,
беспечные», тридцатые связываем с депрессией и говорим о «свингующих» шестидесятых как об
определенных, отличных от других типах жизни, выделяем отдельные личности, которые
знаменуют собой окончание одного десятилетия и определяют лицо следующего как раз на их
календарном рубеже. То, что поначалу появляется всего лишь как удобное сокращение — Афины
V в. или Европа XVII в. — в дальнейшем становится ретроспективным определением их сути.
Подобно другим синтетическим конструктам, таким как «средние века» или «Ренес-
1
Hay. Annalists and Historians. P. 22—27, 38—42; Mink. Everyman his or her own annalist. P. 233, 234. Но даже после
средневековья деяния и грамоты чаще датировали годами правления отдельных властителей, нежели anno Domini,
потому что королевская коронация была ближе по времени и общество лучше помнило эту дату (Clanchy. From Memory
to Written record. P. 240).
2
Einstein. Clio and Cronos. P. 43; Johnson J. W. Chronological writing. P. 137, 145. По поводу недоразумений со временем
Писания, см.: Hazard. European Mind. P. 43—7.
3
Kermode. Sense of an Ending. P. 96—98. Fisher. Historians Fallacies. P. 145. Один из первых примеров установление
временного порядка на основе последовательности веков — размещение Александром Ленуа (Lenoir) пост-
революционных исторических сокровищ в Musee des Monuments (Bann. Clothing of Clio. P. 83). По поводу fin-de-siecle
см.: гл. 7, с. 573.
348
сане», календарная стереотипия закаляет и материализует мысль о прошлом, XIX в. или 1930-е
становятся «событием», сродни битве или месту рождения или причине причин.
1
Оставляя в стороне подобные перегибы, мы склонны забывать, чем обязаны хронологам: часы,
календарь, пронумерованные страницы настолько приучили нас к хронологической
последовательности, что теперь это воспринимается почти как нечто само собой разумеющееся.
Однако лишь печатный станок и распространение грамотности обеспечило принятие и устойчивое
распространение такого темпорального порядка. И потребовались целые века усердных
корреляций с первоисточниками для того, чтобы возникла последовательность событий, которой
все мы теперь можем пользоваться.
2
Хронология, или «время учебника истории», вплоть до недавнего времени ориентировало
образованного человека на то, чтобы рассматривать прошлое как всеохватное повествование
(нарратив). Каждый из нас с детства научается использовать ее для того, что «сортировать и
упорядочивать практически любые куски прошлого, с которыми ему доводится сталкиваться,
отыскивать предшественников или находить „себя самого"», — отмечает историк.
3
Последовательность не схожих один с другим монархов делает Британию, — по мнению Ричарда
Коб-ба (Cobb), — удачным обладателем собственной национальной шкалы времени, мгновенно
понятной любому английскому ребенку.
4
Еще один автор вспоминает, как ее университетский
курс истории в Оксфорде в 1950-х «начинался с начала истории Англии» и разворачивался в виде
«плавной прямой линии безо всяких пробелов», задавая «упорядоченный, хронологический
образ,... славной, линейной, не имеющей пропусков памяти».
5
Мои собственные представления о
западной цивилизации, как они сформировались еще в школе, выводят ее от египтян и вавилонян
и далее вплоть до XX в. Причем многие эпохи в этом континууме мне едва известны, однако
включенность в последовательность делает их вполне поддающимися восстановлению. Таблицы, с
помощью которых мы можем свести всех фараонов, королей и президентов в единую
хронологическую схему вместе с открытиями и изобретениями, поэтами и художниками — это
еще один аргумент в пользу той позиции, что вся история в целом потому и доступна познанию,
что поддается датировке.

Конечно, подобное доверие к хронологии зачастую приводит к недостаточной гибкости, а иногда
и к прямым упрощениям. Например, в некоторых учебниках по американской истории все
президенты расставлены в соответствии с датами их смерти, вне зависимости от того, как долго
они находились у власти и что за это время было сделано.
6
1
Butterfield. Man on His Past. P. 136.
2
Johnson. Chronological writing. P. 145; Grafton. Joseph Scaliger and historical chronology.
3
Einstein. Clio and Cronos. P. 59.
4
Cobb. Becoming a historian. P. 21, 22.
5
Lively. Children and the art of memory. P. 200.
6
Fitzgerald. America Revised. P. 50.
349
Однако в целом именно хронология оказывается тем краеугольным камнем, который
позволяет большинству ученых рассматривать историю как взаимосвязанный и непрерывный
процесс. Данные убеждения были резюмированы в так называемом курсе «Западной
цивилизации», который предстает перед студентами старших курсов как общая сумма евро-
американской истории — по выражению одного историка, «панорама,... соответствующая...
общей схеме событий, как мы их знаем».
1
Однако теперь даты и хронология вышли из моды. В особенности это проявилось после
второй мировой войны, когда человеческую историю стали рассматривать не как единую
линию развития, а как множество различных культур, которые невозможно и бессмысленно
пытаться свести к общей последовательности. Линия Западной цивилизации клонится к закату
вместе с этноцентризмом, для которого именно эта цивилизация была каноном,
превосходящим все остальные варианты развития. Историки открыли для себя не только
третий мир, но и в рамках самой Западной цивилизации обнаружили прежде не замечаемые
«меньшинства»: женщин, детей, евреев, крестьян и чернокожих.
2
Новый акцент на
экономической, социальной и интеллектуальной истории еще более подорвал доверие к
хронологии: культуры и идеологии куда хуже поддаются датировке, чем короли и
завоевательные походы. Растущая доступность и уместность, эти вновь открытые аспекты
прошлого «настолько решительно вторгались в современное сознание с разных сторон, —
заключает Эйнштейн, — что это сказалось на способности человеческого интеллекта
соответствующим образом их упорядочивать».
3
Одним из выходов из подобной дилеммы является полный отказ от нарративной истории, как
поучает учителя истории директор школы у П. Лайвли:
— Дети в возрасте до 15 лет еще не готовы к усвоению хронологического подхода к истории. А мы преподаем им
историю как повествование, одно событие за другим.
— Так и есть. Одни события происходят вслед за другими.
— Да, но это слишком уж сложно... — дети такого не поймут. Так что... вы давайте им материал такими кусками,
которые они смогут переварить, в виде тем или проектов. Рассказывайте им о революциях, гражданских войнах или еще
там о чем.
4
Датировка событий, которая еще совсем недавно была sine qua поп
5
исторического познания,
теперь до такой степени забыта, что боль-
1
Smith Preserved. The unity of knowledge and the curriculum. 1913. Цит. по: Allardyce. Rise and fall of the western
Civilization. P. 697, 698.
2
Allardyce. Rise and fall of the Western Civilization course. P. 719; Rossabi. Comment [on Allardyce]. Однако рынок
учебников по мировой истории все еще составляет лишь 25 % от рынка «Западной цивилизации» (Winkler Karen J.
Textbooks: the rise and decline of Western Civilization, American Historical Association Perspectives. 1983. 21:3. 11—13); по
мнению учителя истории в коммунальном колледже на Юге, «в провинции Западная цивилизация все еще продолжает
господствовать» (Edson Evelyn. Reflections on the history of Western Civilization. Ibid. 1984. 22:2. P. 16).
3
Clio and Cronos. P. 63.
4
Road to Lichfield. P. 87, 188. Я соединил здесь беседу учителя и директора школы с последующим рассказом о ней.
5
Sine qua поп (лат.) — без чего нет, непременное условие. — Примеч. пер.
350
шинство французских школьников не знает не только того, что Великая французская
революция началась в 1789 г., но даже в каком веке это было.
1
Более трети из опрошенных
респондентов в недавнем исследовании в Гилфорде (Англия) понятия не имели о датировке
прошлого и практически ничего не знали о времени, более раннем, чем рождение их дедушек
и бабушек. «Мой дедушка ходил в школу» с его прошлым владельцем, — сказал один из
респондентов по поводу здания XVII в., — так что этому зданию очень много лет, наверное,
его построили еще до 1880 г.». Другие связывали еще более древние здания со своими роди-
теля и дедушками и бабушками. «Меня не слишком удивило, что этому здания 400 лет, а не

100», — заявил один из респондентов по поводу своей ошибки, главное, что оно старое;
неважно, насколько старое».
2
Нарративная линейная структура сдерживает историческое понимание. Слушатель или
читатель принужден следовать одной единственной линии от начала и до конца. Но знание
прошлого предполагает более чем одну линию. На такой нарратив накладываются
социальные, культурные и множество других обстоятельств, вкупе с сообщениями других
людей, институтов и идей. Если историческое повествование имеет одно измерение, то
прошлое обладает множеством форм, большая часть из которых представляется гораздо более
сложными, чем любая линейная последовательность событий.
3
И все же сегодня исторические и другие повествования далеко ушли от прямолинейной,
однонаправленной историографической схемы, унаследованной от хронологов. Стандарты
исторического знания требуют не просто отнесения событий прошлого к определенному вре-
мени, но и связного повествования, в котором какие-то события будут опущены, другие
сцеплены воедино, а темпоральная последовательность часто подчиняется потребностям
объяснения и понимания/ Точно так же, как мы оглядываемся назад и просчитываем вперед
при припоминании прошлого, так поступают и историки, обращаясь к истокам для того,
чтобы прояснить каузальные связи событий. Подобная «поли-хрония», по выражению Дэйла
Портера, соответствует нашей интуиции о том, что последовательная структура не в
состоянии ухватить всей сложности исторической реальности.
5
Нарративная история, по
мнению Джеймса Хенретта (Henretta), обладает значительной привлекательностью, «потому
что ее способ постижения близок к реальности повседневной жизни; большинство читателей,
осмысливая свое суще-
1
Катт Thomas. French debate teaching of history // IHT. 11 Apr. 1980. P. 6. «Им по 16 лет, а они меня спрашивают, —
рассказывает учитель истории, — Столетняя война, это было в 1914—1918» (in: Brian Moynahan. Teaching: it's trendy to
be trad // Sunday Times. 10 Feb. 1985. P. 15).
2
Bishop Reid. Perception and Importance of time in Architecture. P. 149, 190.
3
Kermode Frank. Time and narrative, lectures at Architectural Association. London, 8 and 15 Mar. 1982.
4
Munz. Shapes of Time. P. 28—43; См. также: Strout. Veracious Image. P. 9—10.
5
Porter. Emergence of the Past: A Theory of Historical Explanation. P. 113—4. См. также: Goodman. Twisted tales; or, story,
study and symphony.
351
ствование, смотрят на прошлое таким же образом — и... как на ряд накладывающихся друг на
друга и переплетающихся жизненных историй».
1
Историки, измученные «клиометрикой», детерминистическими моделями и психоисторией,
недавно вновь открыли для себя достоинства нарратива. Однако они преимущественно
воздерживаются от использования некогда популярного широкого шаблона по отношению к
целым культурам и нациям. Подобный подход ныне осуждается как ведущий к очевидным
упрощениям и не пригодный для детального изучения отдельных институтов и мест действия,
ограниченных в пространстве и времени — классический пример — горстка пиринейских
крестьян на протяжении двух десятилетий в XVI в. в «Монталю» (Montailou).
2
Озабоченные
жизнью и любовными историями убогих и сирых, вооруженные новыми видами источников и
творческих озарений, появившимися на основе беллетристики, символизма и психоанализа, новые
нарративные историки стремятся пролить новый свет на жизнь обществ прошлого. Но фокус
иногда оказывается настолько узким, что исследования конкретных случаев (case study) кажутся в
большей степени эксцентричными, нежели характеристичными. Будучи не в состоянии установить
контакт с жизнями отдельных людей и конкретными событиями, полагаясь в большей степени на
крупные тенденции, подобный подход ведет к дальнейшей фрагментации знаний о прошлом.
3
И тем не менее, при отказе от датировки и нарратива мы многое теряем. События оказываются
перемешанными в «писаной торбе» (grab-bag,) эпох и империй, видных фигур и социальных
движений, они отрезаны от любого определенного периода.
4
Так называемая тематическая
история — например, история революций, где смешиваются воедино пуритане, французы,
американцы, русские, кубинцы, — позволяет выявить некоторые интересные параллели, но при
этом недооценивает то обстоятельство, что в каждую из этих эпох люди жили своей жизнью,
действовали в соответствии с собственными мотивами и формировались в средах, которые были
существенно отличались друг от друга. Понимание прошлого требует некоторой осведомленности
о темпоральной локализации народов и событий. Хронологическая структура проясняет,
помещает вещи в определенный контекст, подчеркивает уникальность событий прошлого. Теперь
преподают историю, украшенную «блестящими перлами Рима, пещерных людей, сражений пер-

вой мировой войны, средневековых монахов и Стоунхенджа, подве-
1
Henretta. Social history as lived and written. P. 1318, 1319.
2
Получивший международную известность роман французского писателя Ле Руа Ладури (Le Roy Ladurie). — Примеч.
пер.
3
Stone. Revival of narrative (1979). См. также: White Jerry. History Workshop 3: beyond autobiography, и гл. 7, с. 555.
4
«В умах современных грамотных людей,... которые умеют читать, писать и даже учить в школах и университетах,
история присутствует, но несколько замутненным, смазанным образом. Так, Мольер становится современником
Наполеона, а Вольтер — современником Ленина» (Milosz. Nobel Lecture, 1980. P. 12; см. также: гл. 6, с. 528).
352
шенную в темпоральной, некаузальной изоляции, что едва ли позволяет в полной мере
оценить достоинства этого ожерелья времени.
1
Перлы истории ценны не только своим
количеством и блеском, но прежде всего тем, что они включены в каузальную, нарративную
последовательность. Именно нарратив придает ожерелью времени смысл, равно как и
красоту.
История, литература и документальный роман
Наиболее светлые перлы исторической наррации часто можно отыскать посреди вымысла, в
художественной литературе, которая в течение длительного времени остается важным
компонентом исторического понимания. Значительная часть людей воспринимает прошлое,
скорее, сквозь призму исторических романов, от Вальтера Скотта до Жана Плейди (Plaidy),
чем через какую бы то ни было официальную историю.
2
В некоторых романах история
используется как фон для вымышленных персонажей, другие расцвечивают вымыслом жизнь
реальных исторических фигур, вплетая придуманные эпизоды в ткань действительных
событий, а третьи — искажают, добавляют и опускают. Как и в научной фантастике, одни
вымышленные события прошлого воплощают в себе парадигмы настоящего, а другие —
разительным образом отличаются от него, — но и те, и другие придумывают прошлое для
того, чтобы развлечь читателя. При том исторические романисты исповедуют примерно те же
намерения, что и историки — попытаться достичь максимального правдоподобия с тем, чтобы
помочь читателю ощутить и познать прошлое.
Многие историки считают аналогии с беллетристикой еще более возмутительными, чем
сравнение с памятью. Их негодование тем больше, чем в большей степени, как мы видим, они
не в состоянии избежать риторики «вымысла» в своих нарративах. Сравнивая романистов со
сказочниками, историки стремятся определить самих себя как ученых, всячески подчеркивая,
что история основана на тщательном изучении фактов прошлого и открыта проверке со
стороны внешних наблюдателей, тогда как беллетристика в одинаковой мере небрежна в
обоих этих отношениях.
3
Однако, и данное различение, и названное негодование — оба недавнего происхождения. В
прежние времена история и беллетристика часто выступали вместе и обменивались идеями.
Рапсоды в такой же степени способствовали распространению истории, как и хроникеры,
причем с одинаковой достоверностью.
4
Аристотель считал вымысел,
1
Fowler P. J. Archeology, the public and the sense of the past. P. 67.
2
«Скотт и Дюма всегда будут иметь большую аудиторию, чем любые два историка, которые придут на ум» (Ernest
Baker, Guide to Historical Fiction (1968). P. VIII). См.: Le-netnan Leah. History as fiction // History Today. 1980. 30:1. 52—5.
3
Hexter. Rhetoric of history. P. 381.
4
Vansina. Oral Tradition. P. 32—36.
12 Д. Лоуэнталь 353
показывающий то, что могло быть, и объясняющий, как это могло быть, более высоким по
сравнению с историей, удел которой прозаичнее — показывать то, что было. Приводя в пример
«Илиаду» Гомера, Эразм хвалил языческих историков за то, что они придумывали «подходящие»
диалоги, «потому что каждый согласится, что они были вправе вкладывать подобные речи в уста
своих персонажей» (христианским историкам Эразм оставлял куда меньше простора для фанта-
зии).
1
Стиль и язык значили куда больше, чем следование историческим фактам. Вплоть до XIX в.
историю читали в большей степени ради того, как нечто сказано, чем ради того, что сказано.
2
Различение исторического и беллетристического повествования было побочным продуктом
стремления позднего Ренессанса к достоверности и точности исторических источников. Прежде в
классическом и средневековом эпосе неразличимые, эта два жанра стали все более и более
разделяться на «историю» (действительные события, доступные исследованию со стороны других
источников) и «поэзию», или «роман» (не претендовавший на историческую точность). Во
Франции позднего средневековья аристократия писала свою идеологию в прозе, предпочитая

фактуальный язык.
3
Другим больше по нраву была литература, потому что «поэт, повествуя о
событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в
действительности, а такими, какими они долженствовали быть, — как отмечает Самсон в «Дон-
Кихоте», тогда как — историку же надлежит описывать их не такими, какими они долженствовали
быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не
присочиняя».
4
Связанные фактами, историки были лишены авторского всеведения, которым
располагали эпические барды. А поскольку историки ограничили себя сухими границами
эмпирической строгости, романистам достались более богатые и более привлекательные аспекты
прошлого.
5
«Сделать прошлое настоящим, сделать далекое близким,... облечь реальность
человеческой плотью и кровью,... призвать наших предков со всеми особенностями их языка,
манер, одеяний, показать нам их жилища, усадить нас за их стол, привести в порядок их
старомодные гардеробы, — как об этом говорит Маколей (Macaulay), — вот долг, который по
справедливости лежит на историках, но который был усвоен авторами исторических романов».
6
XIX в. шумно приветствовал проникновение рукотворного вымысла в царство истории.
Творческая эмпатия к прошлому Скотта сделала
1
Fornara. Nature of History in Ancient Greece and Rome. P. 94, 95, 163—165; Erasmus. Copia. Bk II, 24:649. См.: Gilmore.
Humanists and Jurists. P. 95, 96; Bolgar. Greek legacy. P. 460.
2
Cochrane. Historians and Historiography in the Italian Renaissance. P. 271, 277.
3
Spiegel. Forgiving the past: the language of historical truth in the Middle Ages. p. 488-^90.
4
Сервантес М. Дон-Кихот Ламанчский. Л., 1978. Кн. II, гл. 3. С. 27.
5
Scholes and Kellogg. Nature of Narrative. P. 265, 266; также р. 252.
6
Macaulay Т. В. Hallam (1828), 1:115. См.: Sanders. Victorian Historical Novel. P. 4—5.
354
исключительно популярной и саму историю. Скотт учил, что «ушедшие века... в
действительности были населены живыми людьми,... с румянцем на щеках и страстями в
животе, а не протоколами, государственными актами, разногласиями и абстракциями», — как
замечает по этому поводу Карлейл (Carlyle).
1
Исторические романы не только оживляли историю, они зачастую оказывались
заслуживающими большего доверия провожатыми в прошлое. «Из художественной
литературы я почерпнул выражение жизни времени — прежние времена вновь ожили, —
утверждал Теккерей, — сможет ли самый дотошный историк сделать для меня нечто подоб-
ное?»
2
Литература имеет дело и с повседневными вещами, и с важными эпизодами, к чему по
большей части и сводили историю. «Я скорее предпочту Историю знакомую, нежели
героическую», — вторит Тек-керею его же персонаж Генри Эсмонд.
3
Не удивительно, что
марксистский критик Дьердь Лукач хвалил Скотта. Поэтическое пробуждение обычного
человека, захваченного великими историческими событиями, гораздо важнее самих этих
событий. Обращаясь к скромным хроникам бедных, читатели могут сами испытать, что
заставляло людей прошлого думать, чувствовать и поступать так, как они это делали.
4
Для
того, чтобы показать «природу и мощь народного гения, академическая история должна
уступить дорогу историческому вымыслу».
5
Ученые подтолкнули писателей на то, чтобы те наилучшим образом донесли историю до
читателей. Ньюмен, Уайзмен и Кингзли (Newman, Wiseman and Kingsley) писали
историческую прозу для того, чтобы проповедовать широкой публике свои религиозные идеи
— святость средневековой церкви, необходимость восстановить ее в современном
вероисповедании — наиболее убедительным образом.
6
Преднамеренно или нет, у них
получалось, что оксфордские трактарианцы лицом к
1
Carlyle. Sir Walter Scott (1838). 3:214. См.: Honour. Romanticism. P. 192, 193; Pear-don. Transition in English Historical
Writing. P. 215.
2
Theckeray W. M. The English humorists of the eighteenth century (1853). P. 78.
3
Theckeray. Henry Esmond (1852), Bk I, Ch. 1. P. 46.
4
Lukacs. Historical Novel, в особенности. Р. 44.
5
Bentley's Miscellany. 1859. Цит. по: Sanders. Victorian Historical Novel. P. 15.
6
Sanders. Victorian Historical Novel. P. 120—147, referring to Kingsley's Hypatia (1852—1853). Wiseman's Fabiola (1854),
and Newman's Callista (1855).
Ньюмен Джон Генри см. примеч. пер. на с. 327.
Уайзмэн Николас Патрик Стивен (1802—1865), католический кардинал и первый архиепископ Вестминстера, один из
видных деятелей католического возрождения в Англии XIX в. Известен своими обширными познаниями и
гуманистическими убеждениями. Автор известного романа «Фабиола» (Fabiola) (1854).
Кингзли Чарльз (1819—1875), религиозный деятель англиканской церкви, педагог и писатель. Известен не только
своими назидательными социальными романами, но и популярными историческими романами «Hypatia» (1853),

«Westward Но!» (1855), «Here-ward the Wake» (1866). Обеспокоенный растущим влиянием католического по своим
ориентациям Оксфордского движения, вошел в конфликт с Джоном Генри Ньюменом. Произведение последнего
«Apologia pro Vita Sua» (1864) появилось как ответ на критику Кингзли. — Примеч. пер.
355
лицу встречались с Гегелем, который с похвалой отозвался об исторических романах за то,
что те делают прошлое более доступным тем, у кого не хватает образования.
1
То, что романист преднамеренно использовал фантазию, теперь выглядело как достоинство.
Его прошлое было более жизненным, нежели прошлое историка, потому что отчасти оно было
создано им самим. Потребность общества в таком вымышленном образе прошлого столь
глубоко пронизывала литературу XIX в., что многие отождествляли ее с прошлым как
таковым, а современный реалистический роман, по выражению Гонкуров, выглядел как всего-
навсего исторический роман о настоящем.
2
Однако, исторический роман обрел стойкого защитника в лице историков XX в. «Прошлое,
каким оно существует для каждого из нас, это история, воссозданная при помощи
воображения и сведенная в единую картину при помощи того, что сродни литературе», —
писал Бат-терфилд. Исторические романы удовлетворяют двум потребностям. Во-первых, они
позволяют читателям ощутить прошлое, чего официальная история сделать не может:
Жизнь, которая наполняет улицы суетой, превращает каждый перекресток в трущобах в нечто, вызывающее удивление
и интерес, жизнь, горькая и веселая, изнурительная и возбуждающая,... для истории — всего лишь тусклая, смутная
картинка. Поэтому история и не может так близко подступиться к человеческому сердцу, как это под силу роману.
Приверженность истории фактам уводит ее... слишком далеко от души вещей... Для того, чтобы заставить ушедший век
ожить вновь, мало просто дополнить его вымыслом,... надо сделать из него роман.
3
Во-вторых, беллетристика переносит читателя в прошлое как человека того времени,
которому не известны грядущие события. Обладающий ретроспективным знанием историк не
довольствуется простым изложением прошлого, но стремится установить его
«взаимоотношения с последующим развитием в целом». Таким образом, «читатель может не
потеряться в прошлом, он стоит в стороне и может сравнивать прошлое с настоящим»,
наблюдая завершенный и законченный мир с определенного расстояния, он всегда помнит,
что находится вне пределов прошлого.
4
Мало знать, что Наполеон выиграл ту или иную битву. Если мы собираемся воссоздать историю как человеческое
событие, мы должны увидеть полководца накануне сражения, напряженно разглядывающего вдаль, чтобы понять, как
обернется судьба... Победу, которую он одержит завтра, нельзя рассматривать как неизбежное событие сегодня... Для
человека 1807 года год 1808 был загадкой, неизведанным путем,... изучать
1
Цит. по: Lukacs. Historical Novel. P. 58.
Основные идеи Оксфордского движения были опубликованы под названием «90 Tracts for the Times» (1833—1841),
откуда и пошло название «трактарианцы». — Примеч. пер.
г
Peckham. Triumph of Romanticism. P. 141.
3
Historical Novel. 1924. P. 22, 18, 23.
4
Ibid. 22, 26.
356
1807 год, все время вспоминая при этом, что случилось в 1808 году... — значит упустить авантюрность, величайшую
неопределенность, элемент игры в их жизни. Там, где мы не можем удержаться от того, чтобы не видеть полной
определенности интересующего вопроса, для людей того времени все было неожиданностью... История не всегда
состоит из неповторимых личных событий, но мы знаем, что они были.
Именно в таких событиях и заключается «прикосновение к прошлому, необходимое для того,
чтобы превратить историю в роман». По убеждению Баттерфилда, в отличие от истории,
художественное повествование может забыть или каким-либо образом переступить через
ретроспективное знание.
1
Проведенное Баттерфилдом различие между историей и беллетристикой наделяет каждую из
них вполне определенной ролью: «Для историка прошлое — это весь процесс развития,
ведущий к современности; для писателя прошлое — это загадочный мир, о котором он соби-
рается нам рассказать».
2
Теперь подобное рассуждение уже более не аргумент. Каждый жанр
покушается на области, ранее исключительно принадлежавшие другому, история теперь
больше похожа на литературу, а литература — на историю.
В современной литературе существенному изменению подвергаются и структура, и
содержание прошлого. Линейное время литературы XIX в. ныне далеко в прошлом. Теперь
темпоральную ткань повествования формируют хронологические перебивки, взгляд в
прошлое, поток сознания, удвоение рассказчика и множественные варианты окончания.
3
Хотя
— или, возможно, потому что — роман «Женщина французского лейтенанта» перенасыщен
историей, Джон Фаулз считает, что читатель может сам выбрать подходящее окончание.
4

Бестселлеры явно спутывают подобную дихотомию. В 1982 г. Букеровская премия по
литературе досталась роману Томаса Кенилли (Keneally) «Список Шиндлера», который сам
автор представил как подлинную историю, но в итоге председатель жюри все свел к
компромиссу: «История — это всегда род литературы». И такой взгляд разделяют многие
писатели. «Нет уже больше ни вымысла, ни правды, есть только нарра-тив», — утверждает
Е.Р. Доктороу, который называет свой роман «Рэгтайм» «ложным документом». Говорят, что
писатели переступили че-
1
Ibid. P. 23, 24. Плутарх ставил перед собой цель передать в своем повествовании ошеломительные и огорчительные
эмоции реальных участников событий (Fornara. Nature of History in Ancient Greece and Rome. P. 129). Ту же цель ставил
перед собой и Мишле (Michelet) в своей «Истории Франции» (Bonn. Clothing of Clio. P. 49, 50).
2
Ibid. P. 113. «Научные» историки конца XIX в. призывали «литературных» историков больше придерживаться не
сюжета, а фактов. Поначалу фон Ранке вдохновили на изучение прошлого романы Вальтера Скотта, однако
впоследствии он отказался от такого пути, поскольку нарисованные Скоттом в «Квентине Дорварде» портреты Карла
Смелого и Людовика XI абсолютно не соответствовали его стандартам исторической достоверности (Wedgewood. Sense
of the past. P. 27; idem: Literature and the historians. P. 71). См.: Green Anne. Flaubert and the Historical Novel. P. 1.
3
White Hayden. Burden of history. P. 126; Strout. Veracious Imagination. P. 10.
4
Strout. Veracious Imagination. P. 18.
357
рез те «непоследовательные различия, которые мы постоянно проводим между фактом и
вымыслом».
1
Предполагаемое сближение истории и литературы подвигает некоторых писателей на то,
чтобы преувеличивать возможности художественного постижения прошлого. «Исторический
роман стоит ближе к правде, чем сама история», — утверждает один из авторов, отмечая при
этом, что история часто претендует на истину, но оказывается ложной, тогда как историческая
романистика претендует лишь на то, что большая часть ее содержания, «хотя и вымышлена,
все же соответствует правде жизни», предоставляя читателю самому решать, что есть что.
2
Некоторые писатели считают, что историки стоят «вне» прошлого, тогда как сами они
находятся «внутри» не подкрепленной документами правды. «Любой историк может
рассказать вам, что случилось под Бородино, но только Толстой, часто не опираясь ни на
какие факты, смог рассказать, что в действительности значило быть солдатом при Бородино»,
— пишет, продолжая позицию Баттерфилда, Уильям Стайрон (Styron). «Истина воображения
писателя... идет значительно дальше того,... что может нам дать историк». Стайрон третирует
историю как всего лишь хронику, тогда как романиста он объявляет супер-историком,
который рассказывает о том, как все было в действительности.
3
Другие современные писатели
представляют факты как вымысел, потому что они считают вымысел «выше реальности,
ограниченной и случайной исторической правды».
4
Как говорит рассказчик у Гора Видала,
«нет никакой истории, есть только вымысел разной степени достоверности. То, что мы
считаем историей — это не что иное, как вымысел».
5
Однако далеко не всегда такие смешения удачно передают дух прошлого. Современная
эмоциональность в плутовском романе Джона Барта (Barth) из жизни XVII в. размывает грань
между фактами и их художественной версией, свидетельствуя о том, что Барт «не верит в
такую вещь, как история, даже тогда, когда его повествование претендует на то, чтобы
пробуждать ее к жизни».
6
Подвергая «модернизации»
1
Doctorow. Цит. по: Foley. From U.S.A. to Ragtime. P. 102, 99; ZiffLazer. Цит. по: Edwin McDowell. Fiction: often more real
than fact // N. Y. Times, 16 July 1981. P. C21. См.: Walcott. Muse of history. P. 2.
2
McGarry and White. World Historical Fiction Guide. P. XX.
3
Styron and Woodward C. Vann. The use of history in fiction: a discussion (1969). Цит. no: Strout. Veracious Imagination. P.
167, 164. Историки — и чернокожие авторы — критиковали нарисованный Стироном портрет Ната Тернера как
вымысел, который игнорирует очевидные факты (John Henrik Clarke (ed.), William Styron's Nat Turner; Ten Black Writers
Respond (1968); John White. Novelist as historian: William Styron and American Negro slavery // Journal of American Studies.
1971. 4. 233—45); James M. Mellard. This unquiet dust: the problem of history in Styron's The Confessions of Nat Turner,
Bucknell Review. 1983. 36. 523—543.
4
ZiffLazer (см. прим. 248 вверху).
5
Vidal Gore. A Novel. 1876. P. 196, 197, 194.
6
Tanner. City of Words: American Fiction 1950—1970. P. 245, по поводу см.: Barth. Sot-Weed Factor.
358
известные исторические фигуры, изображение расовой проблемы в «Рэгтайме» разрушает
специфические реалии как 1960-х, так и эдвар-дианской эры.
Подвергая историю критике, литература, попросту уничтожает ее, тогда как история умаляет
претензии литературы, хотя в действительности сама использует ее идеи и методы. Новые
