Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.


материалы и средства записи дают современным историкам такие возможности, которые в
викторианское время считали доступным только для литературы, например, — составить
хронику повседневной жизни прошлого. Возрождение нарратива вернуло нам прошлое в
форме рассказа. Историки все чаще сознают потребность в литературной риторике, в защиту
которой выступал Хекстер.
1
Некоторые идут еще дальше, подобно протагонисту Дэвида Эли (Ely), открыто называющему
ошибки и пропуски неотъемлемой частью исторической достоверности. Именно таким
образом защищался Алекс Хэйли, когда выяснилось, что значительная часть его данных,
относящихся к XVIII в., была им вымышлена или изменена. Хэйли парировал эти обвинения
тем, что действительные факты нам никогда не будут известны, но в любом случае, это имеет
куда меньшее значение, чем его придуманное символическое прошлое, с которым
идентифицируют себя миллионы чернокожих американцев. Он признал, что описанный им
Джуффуре (Juffure) совсем не похож на настоящий, но оправдывал его существование как
собирательного образа гамбийской деревни того времени. Джуффуре Хэйли в
действительности есть нечто большее — в нем Авалон, Эдем и идеализированный маленький
американский городок слились в подобие платоновского среднеземноморского государства.
2
Действительно, только такой анахронизм позволил черным американцам идентифицировать
свое прошлое с тем далеким и непохожим на все здешнее местом. Если бы Хэйли описал
Джуффуре таким, каким тот был на самом деле, его образу не то, чтобы не поверили, но
просто бы проигнорировали. Короче говоря, фактическая достоверность приносится в жертву
символической значимости прошлого. И именно такое прошлое одержало победу, потому что
с тех пор туристическая популярность стала постепенно трансформировать Джуффуре в
точное подобие его идеализированной версии XVIII в., придуманной Хэйли.
3
Автор исторического романа возвеличивает иллюзию ценой точности изложения. Поскольку
перед ним стоит задача «сообщить читателям по возможности более полную иллюзию того,
что данный персо-
1
Однако большинство историков все еще используют нарративную (повествовательную) форму конца XIX в., что ведет
к «нарастающему устареванию самого „искусства" историографии» (White Hayden. Burden of the past. P. 127).
2
Ottaway Mark. Tangled roots // Sunday Times, 10 Apr. 1977. P. 17, 21; Shenker Israel. Few U.S. historians upset by charges //
IHT. 11 Apr. 1977. P. 5.
3
Другим Джуффуре все еще кажется обычной деревушкой в Западной Африке (Brian Whitaker. The shade of the mango //
Sunday Times. 2 Oct. 1983. P. 26; Laurance Robin. Back to the roots in the peanut republic // The Times. 10—16 Sept. 1983. P.
2).
359
наж действительно некогда обитал на свете, — по мнению Херви Алле-на (Hervey Allen), —
писатель обязан изменять факты, обстоятельства, людей и даже даты».
1
Наиболее сильным образом писатель воздействует на прошлое через его модернизацию. По
словам Гете, «во всякую ситуацию мы привносим современный дух, поскольку лишь таким
образом мы способны понять и, более того, вынести ее».
2
Как пояснял Скотт, «для возбуждения
любого рода интереса необходимо, чтобы рассматриваемая тема была изложена в манере и на
языке того времени, в котором живем мы».
3
Англо-саксонские и норманнские персонажи Скотта
не только говорят на более или менее современном английском языке, но и выражают
исторические взаимоотношения куда более четко, чем это могли сделать мужчины и женщины
того времени.
4
Короче говоря, литературный анахронизм не только желателен, но и играет
существенную роль. В противоположность мнению Баттерфилда, историческая литература
разделяет с историей бремя ретроспективного знания, но не с целью сделать прошлое более
вразумительным, а для того, чтобы обратить внимание на те процессы перемен, которые
изначально еще не были заметны.
Все сообщения о прошлом выстраивают некоторое повествование, а потому все они отчасти
вымышлены. Как мы видим, «построение повествований» также накладывает свой отпечаток на
историю. В то же время, любой вымысел содержит в себе частицу правды. Действительно,
абсолютно вымышленный рассказ даже нельзя себе представить, поскольку в этом случае его
просто никто не смог бы понять. Однако истина истории — это не единственная истина прошлого.
Любое повествование может быть истинно бесчисленным множеством способов — более
специфичных в том, что касается истории, или более общих — в литературе.
5
Таким образом, и историки, которые утверждают свою исключительную верность фактам
прошлого, и писатели, которые претендуют на полную свободу от таких фактов, вводят в

заблуждение и самих себя, и читателей. Различие между историей и литературой касается, скорее,
конечной цели, нежели содержания. Какие бы риторические приемы историк не использовал, узы
профессии запрещают ему сознательно придумывать или замалчивать события, способные
повлиять на выводы. Называя себя историком, а свое занятие — историей, он выбирает в качестве
критерия оценки своего труда точность, внутреннюю последовательность и соответствие
дошедшим до нас свидетельствам.
1
Цит. по: Werrell. History and fiction. P. 6.
2
Goethe. Teilnahme Goethes aus Manzoni. 1827. 14:838.
3
Scott. Dedicatory epistle to the Rev. Doctor Dryasdust, F.A.S. Ivanhoe. 1820. P. 15. Скотт В. Айвенго, см. его же:
Предисловие к «Уэверли»; (Brown David. Walter Scott and the Historical Imagination. P. 173—186).
4
Lukacs. Historical Novel. P. 69.
5
Munz. Shape of Time. P. 214, 338 n.10. См. также: Mink. Everyman his or her own annalist. P. 238, 239.
360
Он обязуется не создавать новых персонажей, не приписывать неизвестные черты или события
реальным фигурам, а также не игнорировать несогласующиеся с его позицией факты с целью
сделать изложение более внятным, поскольку не сможет ни скрыть такие изменения от других
исследователей, имеющих доступ к общественным источникам, ни оправдаться, если нечто
подобное вскроется.
1
Напротив, автор исторического романа обречен на то, чтобы придумывать новые персонажи и
события, или же приписывать вымышленные рассуждения и поступки реальным людям прошлого.
Те ограничения, которые добровольно принимает на себя историк, совершенно не приемлемы для
писателя, как это обнаружил для себя Джон Апдайк, собирая материал о жизни президента
Бьюканена (Buchanan). Задыхаясь под грудой исторических фактов, Апдайк никак не мог
преодолеть грань между литературой и фактами. «Полученные при помощи исследований детали
воздействуют совсем не так, как воспоминания, им не хватает осязаемости того, что вспоминается
с трудом и в чем можно двигаться. Мое воображение было сковано теоретической понятностью
всего, чего угодно. Реальный человек, Бьюканен, делал то-то и то-то, именно так-то, тогда-то, — и
никак иначе. Но там не было воздуха».
2
Однако, не соглашаться с дилеммой, согласно которой история и литература либо взаимно
исключают друг друга, либо полностью тождественны как способы проникновения в прошлое —
это вовсе не то же самое, что стремиться к нахождению компромиссного варианта, который
обладал бы достоинствами того и другого, но был бы лишен их недостатков. То, что называется
«документальным» романом больше похоже на новую литературу и новую историю тем, что
стирает различие между ними. Однако и подобный подход проявляет претенциозное всеведение и
с этих позиций насмехается над обоими прежними вариантами.
Наводя глянец на инаковость прошлого, документальный роман напоминает некоторые романы
викторианской эпохи, которые делали прошлое более доступным, оживляя его за счет
использования выражений современного языка. Очевидный для современного читателя, ана-
хронизм такой литературы по большей части оставался не замеченным современниками. Лишь
немногие понимали, что смягчая и облагораживая повседневную жизнь прошлого, такие авторы
одновременно приукрашивали его даже тогда, когда «по их представлениям, они делали нечто
прямо противоположное, — отмечает Дженкинс (Jenkyns). «Создавая ложное чувство близости к
Помпеям», льстя массам, будто те обладают каким-то «особым знанием, недоступным педантам и
профессорам», в максимальной степени приближая людей к прошлому, они в то же время
выхолащивали страсти, пропуская их сквозь сито дистанции.
3
Правдоподобие в деталях делало
поздний викторианский
1
Hexter. History Primer. P. 289, 2890.
2
Updike. Buchanan Dying: A Play. Afterword. P. 259.
3
Jenkyns. Victorians and Ancient Greece. P. 83—86.
361
роман по видимости исторически достоверным, но при этом создавало у публики совершенно
ложное представление о прошлом за счет того, что отрицало, укрощало или вовсе устраняло
своеобразие последнего. В таких произведениях, каким и была история вигов, прошлое
присутствовало, но всегда как осовремененное прошлое. Анахронизм становился декорацией,
а те остатки прошлого, которые было слишком сложно переварить, были запрятаны или
попросту отброшены в сторону («боудлеризированы»).
1
По поводу подобного отношения к
прошлому Генри Джеймс, критически отзываясь о романе Сары Орне Джуитт (Sarah Orne
Jewett) «Tory Lover», отмечал, что автор стремится к невозможному: представить сознание
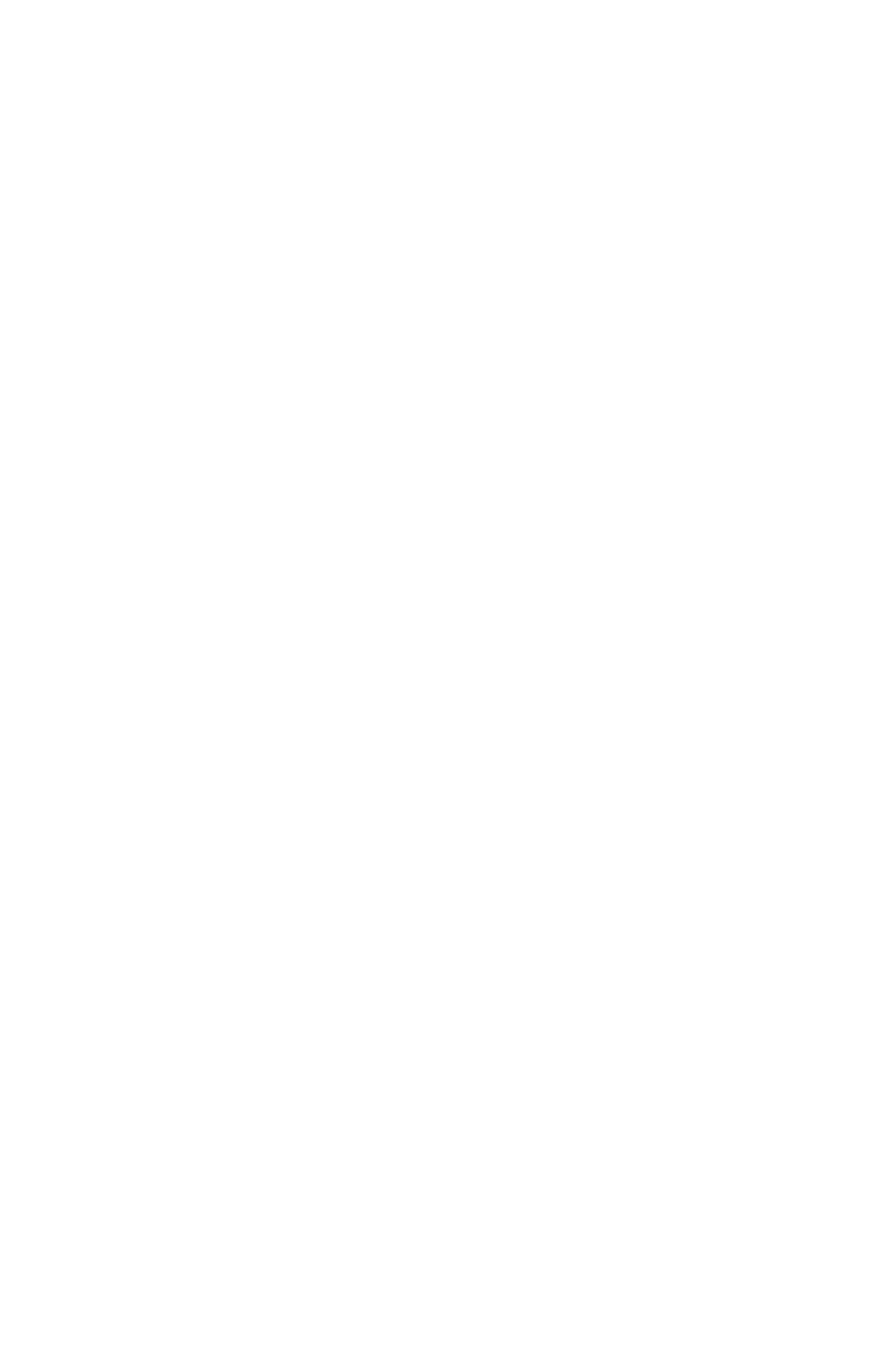
прежних эпох, душу, смысл, горизонт, видение индивидов, понятия не имевших... о половине
того, что составляет современный мир,... людей, чье мышление было устроено совершенно
иным образом».
2
Нежелание признавать подобные трудности делает портреты персонажей в документальных
романах неискренними и фальшивыми. «Строго следуя фактам», в телевизионной
документалистике, по выражению одного из продюсеров, как и в исторических романах,
приходится в итоге «пытаться самим воссоздавать персонажи»
3
— другими словами,
предпочитать вымысел фактам, отходить от твердого следования достоверным данным,
утверждая при этом, что все как раз наоборот. Адаптация истории к телевидению обостряет
нашу склонность принимать версии прошлого за истину в последней инстанции. Даже тогда,
когда продюсеры признаются, что соединили факты и вымысел, зрители ошибочно
воспринимают все это как достоверное повествование о том, что было на самом деле. Они
полагают, что то, на что было потрачено столько денег, и то, что видело столько народу,
непременно должно быть правдой.
Глашатаи документалистики утверждают «вот как все было» вместо того, чтобы скромнее
говорить о том, что «это могло быть примерно так». Тон всеведения, скрытый под
авторитетной анонимностью, налагает на подобные сказания печать откровения." В
письменной истории автор обычно предупреждает нас о том, что мы вступаем в сферу его
представлений об излагаемых событиях. В телевизионных же сагах авторская специфика и
ответственность устраняются самим характером презентации. В документалистике
«содержится так много правдивого, причем показанного с таким терпением и знанием дела,
что все остальное проглатывается... с исключительной доверчивостью». Зрительные
1
Bowdlerize — по имени проф. Т. Боудлера, выпустившего в 1818г. особое издание пьес Шекспира, в котором были
опущены все «слова и выражения, которые нельзя произносить при детях». — Примеч. пер.
2
То Jewett, 5 Oct. 1901 //James. Selected Letters. P. 234, 235: «Вы можете использовать сколько угодно мелких фактов,
какие только можно почерпнуть из картин и документов, реликтов и книг — но при этом практически невозможно
воссоздать саму реальность».
3
Railing. What is television doing to history? P. 43.
4
Ibid. P. 42.
362
же образы еще более убедительны, чем письменные сообщения. «В добрые старые времена люди
верили тому, что читают, — утверждает критик, — эта милая вера в неизменную правдивость книг
и газет» открывает путь вере, что «телевизионная камера никогда не лжет... Раз мы своими
глазами видим нечто, оно не может не быть правдой».
1
Даже сами создатели фильмов разделяют
подобные убеждения. Человек, создавший фильм «Рождение нации» (1914), как и «большинство
видевших его, считал, что именно такова была история». «Вы увидите то, что было на самом деле,
— убеждает кинорежиссер Д.У. Гриффите (Griffiths), — мы не будем навязывать своего мнения,
вы просто будете присутствовать при рождении истории... Фильм и не может быть ничем иным,
как правдой».
2
Давно ушли циничные дни мувиолы (Moviola),
3
когда подлинные факты были известны лишь
немногим и мало кого беспокоило, когда начинался явный вымысел, подобно Сесилю Б. де
Миллю (Cecil В. de Mille)
4
у Николаса Бентли (Nicholas Bentley), которого
Против его воли
Уговорили, чтобы он не впутывал Моисея
В Войны Роз.
На смену невежеству и филистерству пришло увлечение прошлым, так что нас влечет к себе лишь
«аутентичное» прошлое. В этом смысле «аутентичность» «как бы истории» — такой, как в
«Корнях» Хэйли, — означает приверженность тому чувству, которое растворяет факты в
анахронических фантазиях. Поиск корней потому так нас и захватывает, что в нем не так уж много
реального прошлого.
5
В этом смысле «как бы литература», страсть к достижению аутентичности, искажает
повествование, усердно уснащая его якобы доподлинными деталями. Конечно, зрители могут
заметить в костюмах в драмах Троллопа или Диккенса очевидную фальшь, но что они могут
сказать по поводу «Возвращения в Брайдсхед», где продюсеры позаботились даже о том, чтобы
сохранить подлинные комнаты Ивлина Во в Оксфорде, чтобы раскрасить в пятнышки куриные
яйца для большей достоверности сцены завтрака, где шла речь о яйцах ржанки, чтобы поставить
колонны из искусственного мрамора и фрески Феликса Келли (напоминающие фрески Ванбруха и
Хоксмура (Vanbrugh and Hawks-moor)) в замке Хауард (Howard)? Были ли все эти детали

воссозданы
1
Brogan Patrick. America's history being rewritten on TV by confusing fact-fiction serials // The Times. 11 Oct. 1977. См.:
Fledelius. History and Audio-Visual Media 1.
2
Sorlin. Film in History: Restaging the Past. P. viii-ix.
3
Мувиола — звукомонтажный аппарат, применявшийся в американском кинематографе (фирменное название). —
Примеч. пер.
4
Сесил де Милль (1881—1959), американский кинорежиссер и продюсер, чьи фильмы неизменно собирали широкую
аудиторию, одна из ведущих фигур в Голливуде на протяжении пяти десятилетий. — Примеч. пер.
5
Arragon. History's changing image. P. 231, 232; O'Connor John J. «Docu-ramas» — authencity is still the key // N. Y. Times.
10 Aug. 1980. P. D29.
363
для того, чтобы, как утверждалось, помочь актерам погрузиться в реальность
происходящего?
1
То, что зритель видит перед собой на экране Оксфорд, замок Хауард и
Венецию портит мир фантазии романа тем, что превращает все в некий срез реального
прошлого, делая упор, скорее, на реальных, чем на вымышленных событиях. Туристы в XIX в.
стремились в Кенильворт (Kenilworth)
2
«не для того, чтобы посмотреть на то, где давным-
давно происходили некие реальные исторические события, а затем, чтобы увидеть место, где
вымышленные события силой фантазии вернулись к нам навеки», — пишет Кристофер Малви
(Mul-vey).
3
И сегодня тот тип географии, который предлагает National Geographic, призван
найти исторически достоверные рамки, превратить былой вымысел в факт настоящего.
Прошлое и настоящее
Память изначально и явственно отличается от опыта настоящего. Различие же между
историческим прошлым и настоящим имеет не прирожденный, а благоприобретенный
характер. К тому же подобные различия зачастую либо весьма неопределенны, либо вовсе
отсутствуют. Например, там, где знание о прошлом передается изустно и где отсутствуют
письменные свидетельства, прошлое целиком воспринимается в терминах текущих событий.
Какие бы перемены ни происходили, непрерывно обновляющееся сказание постарается
представить традицию так, будто она дошла до нас из глубины веков в неизменном виде. Нет
никакой линии, отделяющей историческое прошлое от настоящего. В таких обществах
«воспоминаемая истина была весьма гибкой и отвечала современным требованиям, поскольку
ни одна самая древняя традиция не могла быть старше, чем память самого старого из здешних
мудрецов, а потому не было и конфликта между практиками прошлого и настоящего».
4
Некоторые из устных обществ рассматривают настоящее как всего лишь одно из проявлений
всеобъемлющего прошлого. Другие же, напротив, в такой степени ориентированы на на-
стоящее, что их вообще не интересует прошлое. При этом и те, и дру-
1
Granger Derek. Цит. по: Wansell Geoffrey. The battle of megaseries // The Times. Preview. 9—15 Oct. 1981. Владелец
замка Хауард, Джордж Хауард (председатель ВВС в то время, когда на ITV Granada шли серии «Возвращения в
Брайдсхед»), хвалил фрески Келли за их «душевную ностальгию и несбыточную мечту зова земли» (Kelly Felix. The
castle Howard Murals, Partridge Gallery. London, 1982, and Geraldine Norman review // The Times, 27 Oct. 1982). См.: Rattner
Steven. A visit to the real «Brideshead» // IHT. 9 Feb. 1982.
2
Кенильворт (Kenilworth), город в Уорвикшире, центральная Англия, возник вокруг замка в XII в. В 1562 г. Елизавета I
подарила замок своему фавориту Роберту Дад-ли, первому графу Лейцестер. Хотя замок был практически разрушен
Кромвелем в 1648 г., позже его воспел в своем «Кенильворте» Вальтер Скотт. — Примеч. пер.
3
Mulvey. Anglo-American Landscapes. P. 18.
4
Clanchy. From Memory to Written Record. P. 233. См.: Goody and Watt. Consequences of literacy. P. 32—34; Henige.
Disease of writing. P. 255, 256.
364
гие не видят четких различий между прошлым и настоящим.
1
В устных культурах прошлое,
по мнению Вальтера Онга (Ong), «воспринимается не как гладкая равнина, где, разложенные
по полочкам, дожидаются своего часа доступные проверке... „факты" или биты информации».
«Это царство предков, громогласный источник обновляющегося осознания нынешнего
существования, который также не похож на гладкую равнину».
2
Согласно взглядам Гуди и
Уатта, «прошедший характер (pastness) прошлого зависит от исторической чувствительности,
которая вряд ли могла бы появиться без непрерывной письменной традиции».
3
Только
сохранение и распространение исторических знаний при посредстве письменности, и в
особенности, при посредстве печати, твердо устанавливает прошлое как отличное от
настоящего.
Хотя наличие непрерывной письменной традиции открывает и в итоге усиливает подобное
различение, признание этого факта состоялось еще весьма нескоро. В средние века история

воспринималась как единая христианская драма, в которой различия между прошлым и на-
стоящим несущественны. «Люди того времени не имели прошлого, — приходит к выводу Е.
А. Фримен, — лишенные рефлексии, некритичные,... они, скорее, писали собственную
историю, чем истолковывали по сохранившимся реликвиям историю, доставшуюся им от
предков».
4
Как выразился по этому поводу в XIV в. Раймон де Ляре из Тиньяка (Raymond de
1'Aire of Tignac), «нет никакого другого века, кроме нашего».
5
И только после Петрарки
человек начал сознавать древность как иное время. Однако зачарованность Ренессанса
классическими источниками была обусловлена их значимостью для нужд настоящего. Про-
шлое может быть чужой страной, но оно не может быть чуждой страной просто так, без риска.
Связь с настоящим требует от истории, чтобы та превратилась в источник назидательных
примеров о вечных грехах и непреходящих добродетелях. Мы видели в главе 3, что боль-
шинство гуманистов отрицали или игнорировали утверждение Эразма о переменах в истории.
Но чем ясней становился образ античности, тем менее она напоминала современный мир.
Историческое сознание позволило некоторым философам эпохи Просвещения заново открыть
1
Block Maurice. The past and the present. P. 288.
2
Ong. Orality and Literacy. P. 98.
3
Goody and Watt. Consequences of literacy. P. 34. Некоторые фундаменталисты продолжают отрицать подобный
прошлый характер прошлого. Следуя «букве их подлинных основополагающих документов» и полагаясь
исключительно на слова своих пророков и сказаний, евреи-караимы, мусульманские и протестантские экстремисты
живут, «скорее, в религиозном настоящем, чем в религиозном прошлом». Но коль скоро «традиция перестает быть для
ее приверженцев исключительным руководством к действию», апологеты стремятся предоставить исторические
подтверждения ее подлинности, экстернализируют прошлое (Schwartzbach. Antidocumentalist apologetics. P. 374).
4
Presentation and Restoration of Ancient Monuments. 1952. P. 16, 17.
5
Le Roy Ladurie. Montaillou. P. 282. В отличие от редко встречающегося интереса к линии родства или генеалогии,
сельские жители не интересовались прошедшими десятилетиями и жили на своего рода «островке времени», даже в
большей степени отрезанном от прошлого, чем от будущего». Р. 281, 282.
365
классический мир лишь затем, чтобы понять, насколько он от нас далек, насколько недостижима
модель античной гармонии; понять, что прошлое обладает такими чертами, которые больше не
повторятся никогда.
1
Взгляд на прошлое как на область иного сам по себе не стал исторической революцией, как об
этом иногда говорят. Скорее, он был неспешно вздымающимся растением, семена которого были
посеяны се-куляризмом, углубляющимся исследованием доказательств и осознанием
анахронизмов.
2
Даже в конце XIX в. история для многих все еще оставалась единым целым, едва
ли отличным от настоящего. Человеческая природа считалась неизменной.
3
Историки-виги
подчеркивали понятность и непрерывность тех событий прошлого, которые посчитали в
достаточной мере типичными. Для Фримена достаточно ярким свидетельством сочетания
прошлого и настоящего являются идущие от незапамятных времен сходки под открытым небом в
демократических кантонах Швейцарии. Маколей говорит о том, что наблюдать за прохождением
парламентской реформы в его время — это все равно как «видеть Цезаря, пронзенного кинжалом
у здания Сената, или видеть Кромвеля, берущего со стола жезл, символ власти». Поздние
викторианские классицисты считали мир Гомера зеркальным отражением своего мира и
приписывали Аристотелю и Платону собственные мысли.
4
Эволюционная парадигма укрепила
такую перспективу: казалось, что зерна настоящего неотъемлемо присущи прошлому, а
последствия прошлого видны повсюду. Современный культ корней, предков, предвещающих по-
явление собственных потомков, семейных и этнических черт, проходящих сквозь века, отражает
сходные генетические предпосылки.
5
Наряду с сохранением прежних пристрастий, другие позиции подчеркивали разнообразие
исторического опыта. Гердер и его последователи учили, что каждый исторический период, как и
каждая культура, обладают собственным, уникальным и ни с чем не сравнимым характером.
Униформизм — это миф, а различия между настоящим и любым прошлым делают их
несоизмеримыми. Романтики конца XIX в. в своем воображении наслаждались неповторимым
духом былых времен.
1
Gilmore. Humanists and Jurists. P. 14, 95, 96, 101, 109; Starobinski. 1789: The Emblems of Reason. P. 272.
2
Preston. Was there an historical revolution? P. 362.
3
Lyons. Invention of Self. P. 5; Walsh W. H. Constancy of human nature; Gossman. Medievalism and the Ideologies of the
Enlightenment. P. 250. Гиббон считал себя менее легковерным, чем Ливии, но верил, что они говорили «на одном языке»
и считал, что «смог бы научить Ливия быть таким же скептиком, как и образованный англичанин XVIII в.», потому что
их ум по существу оставался одним и тем же (Munz. Shapes of Time. P. 188, 189).
4
Freeman (1864). Growth of the English Constitution. 1874. P. 1—7; Macaulay to Thomas Flower Ellis, 30 Mar. 1831 //Letters.
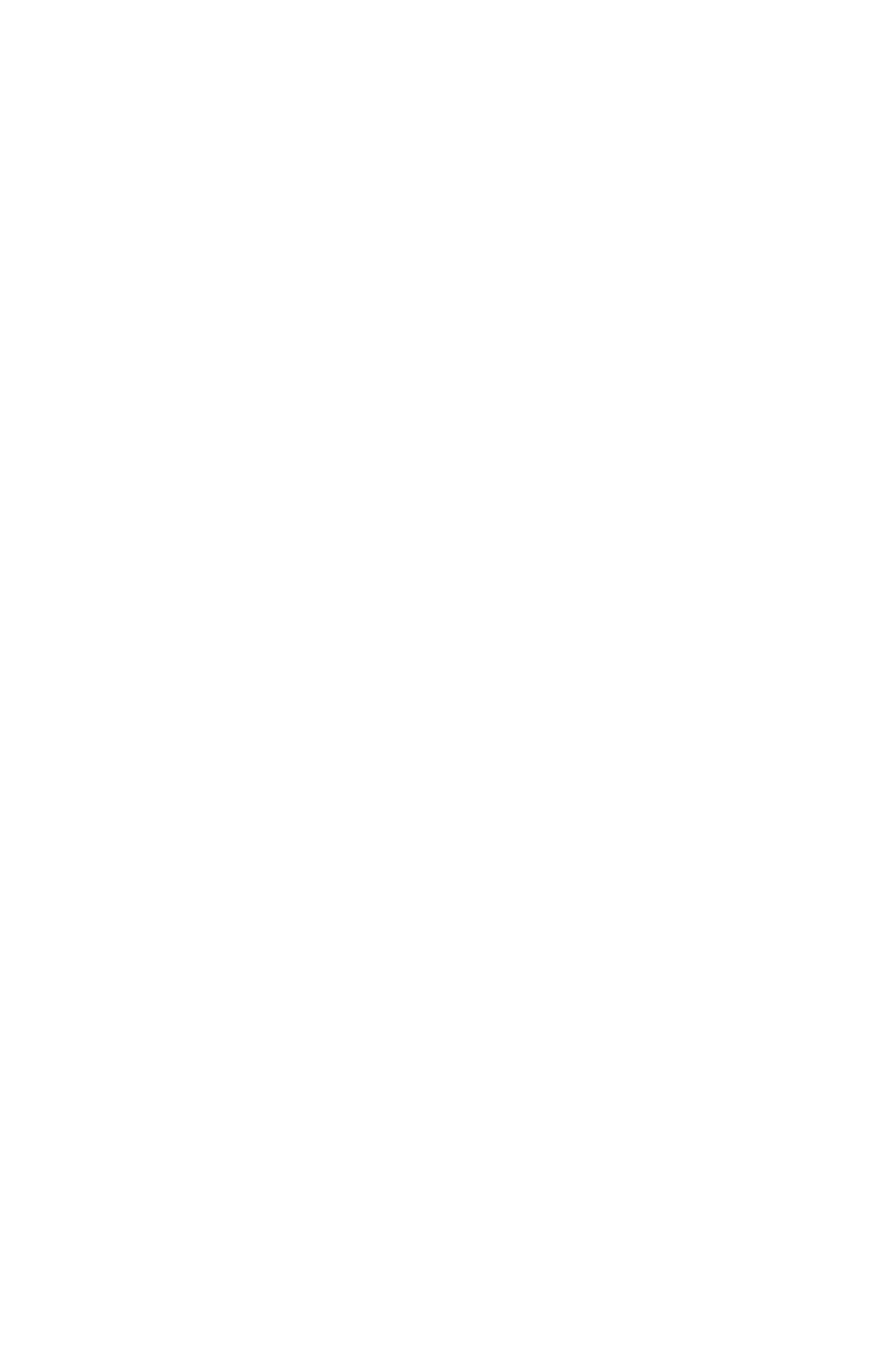
2:9; Turner Frank. Greek Heritage in Victorian Britain. P. 175—86, 418—27. См. также: Burrow. Liberal Descent. P. 70, 169,
170.
5
Ross Dorothy. Historical consciousness in nineteenth-century America. P. 923, 924; Buckley. Triumph of Time. P. 15, 16;
Hijia. Roots: family and ethnicity in the 1970s. P. 553, 554.
366
Прежние эпохи служили обитателям XIX в. ностальгическим убежищем от тягостного
настоящего.
1
Однако чужеродный характер прошлого получил всеобщее признание лишь
ближе к концу этого века, когда совершенно явственно «между настоящим и прошлым
определенно встала Китайская стена».
2
Один из предвестников данной позиции, Фруд
(Provide), объявил, что прошлое мертво, ведь мы испытывает к средним векам столь
трогательные чувства именно из-за его удаленности, а не близости к нам:
В результате произошедших с нами перемен, мы утратили ключ, позволявший понимать наших отцов. Даже на великих
деятелей английской истории до эпохи Реформации мы смотрим почти как на ископаемые останки живых существ,
принадлежащих к иному роду... Ныне все ушло,... между нами и древними англичанами лежит пролив тайны, через
который прозе историков никогда не удастся перекинуть сколько-нибудь надежный мост. Они не вернутся к нам
никогда, и лишь только воображение может пробиться к ним, да и то из последних сил.
3
Признание прошлого чужой страной дорого стоило историкам. Став далеким и непохожим на
настоящее, прошлое перестало быть источником назидательных уроков и превратилось в
скопище причудливых анахронизмов. Историки оказались в растерянности, они не могли
объяснить каузальные связи между прошлым и настоящим. «Жить в любом периоде
прошлого, — а по мнению В. Г. Гэлбрейта (V. Н. Galb-raith) каждый историк обязан
попытаться сделать это, — значит в такой степени ощутить давление различий, что неизбежно
придется признаться самому себе в полной невозможности понять, каким образом настоящее
стало таким, какое оно есть».
4
Однако из такой несопоставимости чуждого нам прошлого и настоящего проистекают и
некоторые выгоды. Утратив назидательную роль, прошлое перестало и оказывать
деформирующее воздействие на настоящее. Историческое исследование открыто
провозгласило «смерть прошлого» и за счет этого — освобождение настоящего от его
отягощающего бремени.
5
Мэйтлэнд видел «заслугу исторического исследования в том, чтобы
объяснить, а тем самым прояснить то давление, которое прошлое должно было оказывать на
настоящее... Сегодня мы изучает день позавчерашний, для того, чтобы вчерашний день
перестал оказывать парализующее воздействие на сегодня, а сегодня — на завтра».
6
А
согласно Кроче, «занятие историей освобождает нас от истории,... от рабства у событий и
прошлого».
7
1
Berlin. Vico and Herder. P. 145; Honour. Romanticism. P. 175—84, 197ff; Girouard. Return of Camelot; Harbison. Deliberate
Regression. P. 139, 140.
2
Для Рафаэля Сэмуэля эта стена «является одним из главных моментов революции, произведенной фон Ранке в
историографии» (Samuel Rafael. History Workshop I: truth is partisan. P. 250).
3
Froude. History of England. 1856. 1:3, 62.
4
Galbraith V. H. Historical research and the preservation of the past. 1938. P. 312. См.: Blaas. Continuity and Anachronism. P.
xiv.
5
Plumb. Death of the Past; см.: Chapter 7. P. 364, 365 below.
6
Maitland. A survey of the century. 1901. 3:439.
7
Croce. History as the Story of Liberty. P. 44.
367
Но признание чужеродности прошлого не только освобождает настоящее от его тирании, но и
расширяет преимущества ретроспективного знания. История представляет нам прошлое более
определенным и авторитетным, чем настоящее, поскольку ретроспективное знание позволяет
прояснить вчерашний день, что невозможно сделать в отношении сегодняшнего:
исторические последствия уже хотя бы отчасти проработаны и поняты, чего нельзя сказать в
отношении событий настоящего. В противоположность текущему опыту, «примеры, которые
нам доставляет история, касается это людей или событий, обычно носят завершенный харак-
тер: перед нами предстоит весь урок целиком, — отмечает Боллингброк. Мы видим [людей] в
истории в полный рост,... в обстановке, по крайней мере, менее предвзятой, чем нынешний
опыт».'
Конечно, прошлое никогда не бывает для нас закрыто полностью. Какими бы глубокими ни
были наши нынешние ретроспективные познания, постоянно проявляются все новые и новые
последствия событий прошлого. Однако, любое ретроспективное знание делает наши
представления о прошлом в большей степени завершенными, чем образ настоящего. По

ироничному замечанию Элизабет Гаскелл:
Оглядываясь на прошлый век, любопытно наблюдать, что мало кому из наших предков удавалось свести концы с
концами — они всегда видели вокруг либо разногласия, либо гармонию. Не потому ли мы обладаем более широким
кругозором, что находимся вдали от тех времен? Не будут ли и наши потомки с таким же любопытством смотреть на
нас, с каким мы взираем на непоследовательность наших предков, или будут удивляться нашей слепоте?... Подобные
несоответствия проистекают из самой жизни людей тех дней. Нам повезло, что мы живем в наше время, когда все так
логичны и последовательны.
2
Коротко говоря, историческое объяснение превосходит любой другой способ понимания,
относящийся к еще продолжающимся событиям. Реконструируемое нами прошлое
оказывается более связным, чем то было на самом деле. «То, что мы называем Римской
империей, для поколений, которые ее создавали, было лишь рядом разрозненных впе-
чатлений, — утверждает Гордон Лефф, — именно мы придаем им связный характер».
3
Еще в
большей степени, чем память, история проясняет, наводит порядок и проливает свет. Именно
в этом суть парадокса Намьера (Namier), утверждавшего, что историки «воображают прошлое
и помнят будущее»:
4
они объясняют то, что произошло, держа в уме все последующие
события.
1
Bolingbroke. Letters on the Study and Use of History. 1752. 1:37. «Опыт всегда повержен сомнению; мы родились
слишком поздно, чтобы видеть начало, и умираем слишком рано для того, чтобы увидеть конец многих событий.
История питает оба эти недостатка» (1:42). См. также: Lovejoy. Herder and the Enlightenment philosophy of history; Heller.
Theory of History. P. 17. Призрачные фигуры в поэмах Томаса Харди переступают через данное различие, взирая на
«настоящее как на нечто, что уже свершилось и из чего уже вытекают неизбежные последствия» (Miller J. H. History as
repetition in Thomas Hardy's poetry. P. 231).
2
Gaskell. Sylvia's Lovers. 1863. P. 58, 59.
3
Leff. History and Social Theory. P. 105.
4
Namier. Conflicts: Studies in Contemporary History. P. 70.
368
Острая потребность в нарративе только усиливает эти различия. Для того, чтобы сделать
историю более вразумительной, историку приходится ретроспективно вскрывать внутреннюю
структуру событий прошлого, создавая иллюзию, будто все случилось именно так, как
случилось потому, что так должно было случиться. Как мы отмечали, историку не только
известен исход событий прошлого, он еще использует это знание для того, чтобы придать
своему сообщению форму нарратива с присущим ему чувством полноты и завершенности. Но
настоящее никогда не удается описать подобным образом. Отсюда поразительно
определенный тон большинства исторических хроник: следуя путем испытанных
добродетелей, старые дневники и журналы повсюду видят порядок и ясность, в отличие от
хаоса реальной жизни автора, не говоря уже о том впечатлении, которое остается от наших
собственных незавершенных жизней.
1
Историческое понимание как соединяет прошлое с настоящим, так и разделяет их. Мы не
можем избежать смешения того, что происходит сейчас, и прежних событий. Для того, чтобы
понять, что произошло в действительности, в отличие от того, что люди прошлого думали об
этом (или хотели, чтобы другие так думали), нам придется обратиться к собственному
мышлению.
2
И точно так же, как наши нынешние мысли формируют познаваемое прошлое,
сознание прошлого окрашивает настоящее в свои цвета. Грамотный историк должен писать
«не просто ощущая свое поколение в костях», по выражению Т.С. Элиота, «но чувствуя, что
вся европейская литература в целом, начиная с Гомера... существует одновременно и
составляет единый одномоментный строй».
3
Для того, чтобы преодолеть ментальный разрыв между прошлым и настоящим, необходимо
установить надежную связь и придать историческим сообщениям интерпретативное единство,
необходимо постоянно придавать им новую форму. Нет никакой абсолютной исторической
правды, которая лежала бы где-то, поджидая нас. Каким бы прилежным и добросовестным бы
ни был историк, он не сможет уже больше относиться к прошлому как к тому, что «было на
самом деле», в отличие от наших воспоминаний о нем. Однако это вовсе не означает лишение
исторического знания достоверности. Мы можем утверждать, что история проливает не-
который свет на прошлое, и ей присущи элементы истины. Даже если открытия будущего
обнаружат наши нынешние ошибки или поставят под сомнение выводы, имеющиеся у нас
свидетельства все же позволяют говорить о том, что некоторые события практически
наверняка имели место, а других — не было вовсе. Завеса сомнения не является для историков
непроходимым препятствием на пути к прошлому, им удается разглядеть нечто сквозь ее

ткань, постоянно приближая свои знания к истине.
4
1
Vendler. All too real. P. 32.
2
Munz. Shapes of Time. P. 110.
3
Eliot T. S. Tradition and the individual talent. P. 14.
4
Murphey. Our Knowledge of the Historical Past. P. 15, 16. «Существует... познаваемое прошлое... Я глубоко
убежден, что мы в состоянии делать заявления по поводу про-
369
Абсолютная «истина» — это сравнительно недавний и не общепринятый критерий оценки знаний
о прошлом. В большинстве устных обществ статус того или иного исторического сообщения в
большей мере зависит от репутации говорящего, чем от достоверности известных фактов или их
объяснительной силы. Для Куба (Kuba), подлинное прошлое — это то, о чем большинство думает
или в чем уверено; для троб-риандцев — это то, что объявили истинным предки, даже если всем
известно, что ничего подобного не было. Устная аудитория редко когда задается вопросом о
логической возможности того, что слышит, вполне терпимо воспринимая даже противоречащие
друг другу сообщения о прошлом и даже если эти противоречия исходят из одного и того же
источника.
1
В нашей собственной культуре исторические сообщения традиционно выполняли ряд функций, не
связанных непосредственно с «истиной», а иногда и напрямую ей противоречащие — например,
охрана генеалогий нынешних правителей, или поддержка патриотического рвения, или
санкционирование религиозных или революционных деяний. Нарочито озабоченное тем, чтобы
хранить письменные свидетельства до тех пор, «пока время или забвение не уничтожат память о
нынешних событиях»,
2
хроникеры XII и XIII вв., тем не менее, были нацелены на то, чтобы, как
отмечает М.Т. Клэнчи, следовать «намеренно и тщательно отобранной версии событий».
«Историческая правда» монастырских анналов представляет то, «что должно было случиться,...
провиденциальную истину... Документы создавались и тщательно хранились для того, чтобы
потомки могли узнать нечто о прошлом, но это вовсе не означает, что подобным документам
позволяли накапливаться естественным образом по ходу времени, или же говорить самим за себя,
поскольку истина была слишком важным делом, чтобы оставлять ее на волю случая».
3
И лишь в
последний век или два главным занятием большинства историков стало описание прошлого, как
оно действительно было. Избавившись от предрассудков и предубеждений предшественников,
последующие поколения совершенно ошибочно считают самих себя полностью свободными от
подобных предубеждений. Монтескье считал себя человеком, лишенным предрассудков, но в то
же время, вскрывая его бессознательные предубеждения, непредвзятым человеком считал себя и
Марат.
4
Редкий ученый согласится признать погрешимость своего времени. «Наши предки,... по
моему глубокому убеждению, не считали самих себя людьми, подверженными предрассудкам или
наделенными от природы слабым воображением, что бы мы по этому поводу ни думали», —
отмечает проницательный
шлого, которые можно было бы считать истинными или ложными» (Steinberg. «Real authentic history» or what
philosophers of history can teach us. P. 471, 472).
1
Vansina. Oral Tradition. P. 102, 103; d'Azevedo. Tribal history in Liberia. P. 266, 267.
2
Paris Mattew. Chronica majora. 1250. Цит. по: Clancy. From Memory to Written Record. P. 118.
3
Clancy. From Memory to Written Record. P. 118—120, 147.
4
Grossman. Medievalism and Ideologies of the Enlightenment. P. 350, 351.
370
хроникер XVIII в.
1
Отыскивая соринки предубеждений в глазах других, историки XIX в.
также считали самих себя полностью рациональными и беспристрастными исследователями.
Те, кто уверен в собственной объективности, стремится также к тому, чтобы минимизировать
трудности, препятствующие ее реализации. Отсюда проистекают распространенные
недоразумения, будто история способна достичь абсолютно достоверного и окончательного
знания о прошлом. Многие историки, которые имплицитно принимают рассмотренные нами
выше познавательные ограничения, не готовы признаться себе в этом, поскольку, по
замечанию Хекстера, одобряют или полностью разделяют позицию, приписывающую
когнитивную ценность лишь точному и однозначному научному языку.
2
Но даже те, кто
признает наличие подобных ограничений эксплицитно, зачастую вынуждены, как это показал
недавний обмен мнениями, скрывать свои убеждения. С одной стороны, историкам говорят,
что факты прошлого зиждутся на тех структурах, которые они сами же и сформировали, что
«исторические объяснения — это рукотворные формы», и что
наиболее яркими и содержательными историческими работами оказываются те, в основе которых лежат сильные
и емкие литературные регулятивы, созданные при участии воображения. Стирание грани между историей и

литературой должно было бы смущать историков, напоминая им о том, насколько фрагментарными и косвенными
по неволе должны оставаться все их представления о прошлом. Это обстоятельство также должно предостеречь
их на будущее. Отказываясь от позитивистской эпистемологии, они, возможно,... откроют для себя более
широкий спектр понимания истины истории. Возможно, им даже придется признать наличие существенной связи
с истиной литературного вымысла.
Например, роман Маркеса «Сто лет одиночества», как считает Джексон Лирз (bears), «камня
на камне не оставляет от позитивистских представлений о линейном характере каузальности и
исторической истины, но при этом вскрывает также некоторые фундаментальные истори-
ческие истины по поводу „модернизации" колониального общества».
3
1
Berington Joseph. History of the Lives of Abelliard and Eloisa. 1793. l:li—liii. «Могут наступить времена, когда и
этот век назовут темным: но, кто знает, смогут ли они назвать нас легковерными"?» (l:li).
2
Hexter. Rhetoric of history. P. 381. Другие критики занимают еще более суровую позицию. «Историки — это
единственные ученые, которые все еще верят, будто единственной причиной, по которой истина ускользает от
них, является их чрезмерная предвзятость, или же предвзятость источников, или же нехватка некоторых
„фактов"» (Munz. Shapes of Time. P. 221). «С середины XIX в. историки подвержены своего рода добровольной
методологической наивности... Это подозрение... вызвало сопротивление со стороны всего профессионального
сообщества... по отношению практически к любым формам критического самоанализа» (White Hayden. Burden of
history. 1966. P. 111—113). Майкл Каммен считает, что революция методологического сознания, произошедшая в
1970-х гг., делает подобную критику безнадежно устаревшей (Кат-теп Michael. Introduction: the historian's
vocation and the state of the discipline in the United States. 1980), но в Великобритании никаких признаков подобной
революции не наблюдается. См.: Steinberg. Real authentic history. P. 455, 463.
3
bears. Writing history: an exchange. P. 58.
371
С другой стороны, только уверенность в том, что прошлое действительно существует, придает
историкам силы для того, чтобы собирать и систематизировать свидетельства, «подводя нас
все ближе к познанию истины о прошлом, «как оно было», даже если полная и завершенная
истина неизменно остается вне досягаемости». И, по мнению Гордона Вуда (Wood), какой бы
старомодной подобная эпистемология не казалась, только такая вера «делает возможным
занятие историей. Историки же, отказывающиеся от такой веры, подрывают самые основы
своей дисциплины».
1
Рассматривая историческое познание в максимально широком контексте, я все не мог
избавиться от сомнений по поводу уз, привязывающих историков к стандартам точности,
которые они не могут не преступать. При всем том историки совершенно нерасположенными
заниматься исследование того, что же общего есть между профессиональной историей и
«Всяким» Беккера. Майкл Оукшотт (Oakeshott) различает абсолютно незаинтересованного
историка, занимающимся только прошлым ради него самого, от «не-историка»,
«практического человека», использующего прошлое для того, чтобы понимать, подтверждать
или реформировать настоящее.
2
Однако такое различение нереалистично: прошлое
практического человека редко когда бывает исключительно операциональным. С другой
стороны, историк тоже неизбежно связан с настоящим. В итоге, оба выделенных Оукшоттом
типа оказываются «историками», причем в одном и том же смысле.
Призвание/профессия
3
историка, провозглашенное Майклом Кам-менем, состоит в том, чтобы
снабжать общество проницательной памятью.
4
В самом деле, для того, чтобы эффективно
общаться, он должен быть проницательным. Только за счет избирательного отношения к
доступным источникам может историк, будь то профессиональный академический ученый
или сочинитель романов, вразумительно выражать знание прошлого. Можно сказать, что
многие люди снабжают общество подобной проницательной памятью, но от этого мало толку:
разрыв между умудренными хроникерами и прочей публикой в целом, похоже, все время
углубляется. Чем больше становится известно о прошлом, тем менее это интересно широкой
публике. Например, «прогрессивный» синтез, характерный для работ по американской
истории на протяжении последних двадцати лет, позволил сформировать множество
фрагментов, ориентированных на различные этнические, возрастные и классовые аудитории.
5
Рост числа исторических романов и ностальгических культов резко контрастирует со
снижением числа собирающих-
1
Ibid. P. 59.
2
Oakeshott. Activity of being an historian; idem: On History. P. 35—39, 43.
3
В английском языке термин «vocation», как и в известном докладе М. Вебера «Wissenschaft als Beruf», имеет
двойственный смысл: призвание и профессия. — Примеч. пер.
4
Каттеп. Vanitas and the historian's vocation. P. 19, 20.

5
Gutman. Whatever happen to history? P. 554.
372
ся посвятить себя академической истории и падением знания истории среди студентов
университетов, «большинство из которых не знает, кто такой Сократ, путают Просвещение с
названием рок-группы и ставят прочерки там, где речь идет о Маккарти, Кеннеди или
Вьетнаме».
1
Почему профессиональной эрудиции не удается рассеять невежество публики? Некоторые
упрекают историков в том, что они все в большей степени становятся узкими специалистами,
их недолюбливают за запрет на технические параферналии и за то, что они слишком часто
поворачиваются спиной даже к образованному читателю для того, чтобы потрафить
академическому снобизму коллег по цеху. «Мы можем игнорировать все это, —
предупреждает один из историков, — но дьявольская правда состоит в том, что как
фрагментация, так и чрезмерная специализация выставляют эту профессию со всеми ее
интеллектуальными достижениями на посмешище».
2
Однако нет никаких свидетельств того,
что современные историки более узки в своих интересах и познаниях, или занимают более
научную позицию, чем это было ранее. Большинство предпочитает использовать не
профессиональный жаргон, а по большей части обыденный язык. Такие работы в большей
степени доступны для публики, чем исследования других ученых.
Я вижу причину подобного разрыва в широкой экспансии исторического знания.
Повсеместное распространение грамотности и «сохранная» сила печати позволяют
аккумулировать знание о прошлом, а официальная историческая наука расширила свои
границы, включив и неевропейские культуры наряду с множеством новых феноменов. А в
результате, ни один человек не может усвоить больше, чем малую толику этого богатства.
3
Все мы теперь — специалисты. Футбольные фанаты, которые помнят счет каждого матча в
прошлом, ничем особым не отличаются от экспертов по житиям святых или специалистов по
истории майолики. Профессиональные историки сами не знают большей части аспектов того
прошлого, изучением которого заняты их коллеги.
Накопление исторического знания также углубило разрыв между грамотными и
неграмотными, между тем, что мы узнаем о прошлом из
1
Burns. Teaching history: a changing and an affirmation of goals. P. 20, 21. См.: Lukas John. Obsolete historians.
2
Burns. Teaching history. P. 20. «Историки становятся все более и более узкими специалистами, сосредотачивая свои
усилия на одном десятилетии, или одной персоне, и при этом не могут справиться с обилием монографий. Теперь
большинство уже не претендует на то, чтобы писать для образованной публики. Они пишут лишь друг для друга,
соблюдая все научные параферналии,... но при этом могут пересчитать своих читателей по пальцам» (Wood Gordon. Star-
spangled history. P. 4). См. также: Yardley. Narrowing world of the historian.
3
«Уже самый размер знаний, которыми должен обладать грамотный человек, означает, что та доля целого, которой он
может обладать, бесконечно мала по сравнению с тем, чем обладал человек в устной культуре. Общество грамотности,
просто за счет того, что отсутствует система элиминации,... не позволяет индивиду принимать участие в целостной
культурной традиции в такой степени, какая вполне возможна для человека общества, лишенного грамотности» (Goody
and Watt. Consequences of literacy. P. 57).
373
книг, и тем, что воспринимаем со слуха. Чем больше мы насыщаем историю грамотой, тем
дальше она от всего остального мира. Подобный разрыв также разводит по разные стороны
знание взрослых о прошлом и знание детей-дошкольников. Действительно, он отчуждает
взрослых от их собственного детского прошлого, поскольку привычка к грамоте, как и обычаи
зрелости, препятствуют повзрослевшим мужчинам и женщинам видеть смысл в тех образах,
которые они разделяли до того, как научились читать.
1
Похоже, что согласованное знание прошлого находится в обратной пропорции по отношению
к тому, как много известно о нем in toto.
1
В устных обществах исторические хроники довольно
скудны и зачастую их скрывают как величайшую тайну, хотя в действительности большая
часть знаний о прошлом доступна всем. В письменных обществах печатные исторические
тексты широко распространены, но значительна часть исторического знания фрагментирована
на отдельные сегменты, доступные лишь небольшой группе специалистов, и, следовательно,
общедоступное прошлое сжимается до тонкого слоя доставляемой СМИ информации.
3
Реликты/реликвии
Большая часть тех следов, которые оставил на земле человек за два миллиона лет своего пребывания в качестве
нагромождающего горы мусора, назойливого, но временами артистичного животного, имеет одну общую черту: все это не
поступки, идеи или слова, а вещи.
Глинн Айзек. Куда археология?
4
