Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века
Подождите немного. Документ загружается.


3-1
РАЗДЕЛ
ВТОРОЙ. ИСКУССТВО
XI! —
СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
храм князя Рюрика Ростиславича, имевшего,
по словам летописца,
«любовь
несытну
о зда-
ниях».
Почти несомненно,
что ее
автором
был
любимый мастер князя Петр Милонег,
о
творчестве которого есть восторженное
упо-
минание
в
летописи, сравнивающей Милонега
с библейским зодчим Веселиилом.
Очень
ве-
роятно,
что тот же
Милонег строил
и
чернигов-
скую церковь Пятницы
и
вскрытую раскопками
церковь Апостолов
в
Белгороде,
отличавшуюся особой роскошью внутреннего
убранства.
Археологические раскопки необычайно расширили
наши знания
о
древнерусском зодчестве
и, е
частности,
показали,
что
разнообразие типов
и
стилистических
оттенков
в
архитектуре Южной Руси
в эту
пору
было
очень велико.
Так, в
Новгороде-Северском
открыта церковь, имевшая совершенно особую
«готическую»
профилировку пилястр,
не
встречаю-
щуюся
ни в
киевских,
ни в
смоленских храмах.
Цер-
ковь, раскопанная
в
Путивле, имела, подобно
византийским
и
балканским храмам, дополнительные
апсиды
с
северной
и
южной сторон здания.
Процесс дифференциации русского зодче-
ства продолжался
и на
рубеже
XII и XIII ве-
ков,
создавая новые
и
новые
локальные
вари-
анты. Вместе
с тем
ясно,
что это
разнообразие
творческой мысли
не
разрывает связей между
русскими
архитектурными школами.
В
течение
всего
XII
века зодчие
не
ограничивались рабо-
той внутри своего княжества: галицкие масте-
ра строили
во
Владимире, черниговские—в
Ря-
зани
и
Смоленске, смоленские
— в
Новгороде,
Рязани
и
Киеве. Взаимный обмен техническим
и художественным опытом способствовал
бы-
строму расцвету архитектуры, распростране-
нию нового направления
на
рубеже
XII и XIII
веков,
охватившего, по-видимому, почти
все
русские
архитектурные школы. Даже
во вла-
димиро-суздальском зодчестве поздние памят-
ники—
собор Рождества Богородицы
в
Сузда-
ле
и
особенно Георгиевский собор
в
Юрьеве-
Польском
— по
всем данным имели башнеоб-
разную композицию завершения
и,
вероятно,
ступенчато повышающуюся систему сводов.
Таким образом,
в
конце
XII
века
в
зодчестве
различных русских земель
все
более настойчи-
во проявляются общие, точнее—общерусские
тенденции развития. Почти повсюду пересмат-
риваются киевские традиции, проявляются
башнеобразность
и
динамика
композиции,
ин-
терьер подчиняется внешнему облику здания,
фасады
богато декорируются. Композицион-
ная идея храмов,
их
художественный образ
были
повсюду более
или
менее сходными,
хо-
тя
в
каждой архитектурной школе Руси
они ре-
шались
в
своих местных формах.
В
чем же
причина появления новых художе-
ственных форм
в
русском зодчестве конца
XII
века? По-видимому, решающим
было
влияние
городской
культуры, рост
и
усиление городов,
экономическое укрепление посадов.
Эти
усло-
вия вызвали особое внимание
к
архитектурно-
му облику городов,
в
котором яркий силуэт
храмов
и
декоративная насыщенность
их
фаса-
дов должны
были
играть важную, акцентирую-
щую роль. Общность тенденций развития
по-
казывает,
что в
русском зодчестве явно
про-
бивалось, пусть
еще
слабое,
но
крепнущее
и
побеждающее межобластное течение, содер-
жавшее черты общерусского архитектурного
стиля, которому принадлежало будущее.
С
полным основанием можно говорить
о
начав-
шейся кристаллизации общерусских националь-
ных особенностей строительного искусства.
На этом высоком уровне быстрое развитие
русской
архитектуры
было
прервано монголо-
татарским нашествием.
Глава
вторая
ЖИВОПИСЬ
С
началом
феодального дробления Руси
и
возникновением новых центров начинают скла-
дываться
местные школы живописи.
Во
Влади-
мире,
Новгороде киевская традиция постепен-
но перерабатывается, искусство приобретает
все более самобытные черты. Развитие идет
в
двух
направлениях.
С одной стороны,
все
сильнее сказывается
влияние церкви, роль которой
в
годы напря-
женной борьбы Киева
с
сепаратистскими
тенденциями местных княжеств сильно
воз-
растает. Церковь ведет упорную борьбу
с
пережитками язычества, светскими тенденция-
ми,
за
чистоту
и
строгость христианских обря-
дов.
Образы святых становятся более суровы-
ми,
аскетичными,
в них нет той
непосредствен-
ной связи
с
портретными изображениями,
которая характерна
для
киевского искусства
XI
века. Светские сюжеты фресок лестничных
башен Софийского собора казались
уже не-
уместными
в
храмах
XII—XIII
веков. Богатство
светотеневой лепки ранних киевских мозаик
и фресок сменяется подчеркнутой линейно-
стью, усиливающей плоскостный характер
изо-
бражения; светлые тона
лиц с
голубыми
и
зелеными тенями уступают место темно-охри-
стому цвету иконописных ликов.
С другой стороны,
в
противовес этому
про-
цессу,
в
искусство местных школ
все
интенсив-
нее проникают влияния народной, древнесла-
вянской культуры.
Многие
иконы
XII
века («Устюжское Благо-
вещение», «Богоматерь Оранта
—
Великая
Па-
нагия»
и др.)
монументальностью напоминают
киевские
мозаики.
Они
зачастую воспроизво-
дят
не
только торжественное великолепие
мо-
заики,
но и ее
красочную гамму. Однако сама
мозаика
более
не
применяется.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
ХИ—СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
XI и XII
века отмечены расцветом сложного
и тонкого искусства перегородчатой эмали,
и
эта техника также оказала влияние
на
живопись
XII
века.
На
некоторых иконах золотые линии,
по-видимому, имитируют перегородки эмалей,
Постепенно русские мастера научились
ис-
пользовать особые художественные возмож-
ности фресковой живописи
и
живописи яичной
темперой,
получившей исключительное
при-
менение
в
иконописи.
Черты
киевской художественной традиции
еще сохраняются
в
группе икон
XII—начала
XIII
века, по-видимому, происходящих
из Нов-
-орода. Таков
«Спас
Нерукотворный»
(лицо Христа, изображенное
на
плате)
из
Успенского собора Московского
Кремля {конец
XII
века,
ГТГ, ил, 31) с
боль-
шими резко обрисованными глазами
и
круто
изогнутыми дугами бровей. Очертания волос
сделаны правильно чередующимися золотыми
линиями;
на
лице темно-охристого тона
про-
зрачно, едва заметными плавями нанесен
ру-
мянец. Кому
бы ни
принадлежала
эта
икона
—
-оеческому
ли
мастеру
или его
русскому
уче-
нику,—
в
любом
случае
перед нами
—
одно
из
совершеннейших воплощений вековых тради-
ций византийской живописи.
К
«Спасу
Неруко-
-ворному» близки голова золотоволо-
сого
архангела
из «Д е и с у с а» (ГРМ) с
-епомерно большими, печальными глазами
и
«Устюжское Благовещение» (ГТГ,ил.
1)
из
Успенского собора
в
Москов-
ском
Кремле
—
монументальная икона
с
Фигурами
почти
в
человеческий рост.
Богоматерь
и
архангел представлены
в
этой
••коне стоящими,
как и на
аналогичной
no
cto~
чету
мозаике, украшающей столбы триум-
фальной
арки Софийского собора
в
Киеве.
3 колорите преобладают строго подобранные
синие
и
голубовато-зеленые тона
в
сочетании
с темным пурпуром
и
тускло-золотистым
то-
-ом
охры,
В
изображении одежды архангела,
• глубоких складках
его
плаща
еще
чувствуют-
ся навыки объемной трактовки
тела
в
киевских
«озаиках,
но
рисунок складок иногда сбивчив,
- расположение
их не
всегда соответствует
соомам тела.
К
этой группе примыкает
и
большая
икона
«Святой
Георгий»
в
Успенском
со-
боре Московского Кремля (вторая
-словина
XII
века,
ил, 30). В
иконе
дан
новый,
~е встречающийся
в
византийском искусстве
ыриант иконографии Георгия: святой изобра-
жен
с
мечом, который торжественно держит
-еоед собой
в
левой руке,
как
атрибут княже-
;<ой
власти. По-новому трактован
и
самый
об-
эаз
Георгия:
хотя
лицо
его еще
сохраняет
«.-ассическую правильность черт
и
тонкую
жи-
с-исную лепку,
в нем нет ни
аскетической
г.оовости,
ни
напряженной страстности,
ни
аристократической утонченности византийских
образов.
Спокойно смотрят большие широко
раскрытые глаза; красивые, высоко поднятые
дуги
бровей придают лицу открытое,
чуть
удивленное выражение. Темно-коричневые
ло-
коны,
трактованные почти орнаментально,
тре-
мя правильными полукругами обрамляют
ли-
цо.
Гамма иконы
—
коричневый панцирь
с про-
черченными золотыми пластинами, синяя
одежда, ярко-красный плащ
и
зеленые ножны
меча
—
производит сильное, мажорное
впе-
чатление. Почти лишенные оттенков
локальные
цветовые пятна составляют колористический
строй,
который становится затем характерным
для новгородской живописи
XI11—XV
веков.
Процесс изживания византийско-киевских
традиций
еще
отчетливее проявляется
в нов-
городских
росписях
XII
века. Художественный
язык, сложившийся
на
почве великокняжеско-
го
Киева,
не мог
прочно привиться
в
Новгоро-
де
с его
многочисленным посадским людом,
составлявшим основную массу населения,
с
его
гораздо более демократическими поряд-
ками.
Н а
фресках собора Рождества
Богородицы Антониева монастыря
в Новгороде (1125, ил,34)
уже
встречаются
лица грубоватые,
с
тяжелыми чертами, упор-
ным взглядом пристально смотрящих
на зри-
теля
глаз,
с
глубокими морщинами
на
щеках
и
на
лбу и
энергично сжатыми губами —такие
лики вряд
ли
могли
быть
повторением визан-
тийских
образцов.
Во
фресках церкви
Георгия
в
Старой Ладоге {60-е
—
80-е годы
XII
века) наряду
с
такими образами,
как
Георгий
на
коне,
в
котором
еще
сохрани-
лись черты киевского придворного искусства
с
его
своеобразной пластикой, многие изобра-
жения трактованы почти орнаментально
(ил.
33).
Еще
больше орнаментальной экспрессии
во фресках церкви Благовещения
близ деревни Аркажи
под
Новгородом
(около 1189), выполненных
в
манере, харак-
терной
для
новгородской живописи конца
XI!
столетия. Лица святых изображаются
не по-
средством светотеневых переходов,
как в ис-
кусстве Киева
или в
более ранних памятниках
новгородской
живописи,
а с
помощью резких
белых
бликов, образующих длинные изгибаю-
щиеся линии.
На
бороде
и
волосах
эти
линии
создают симметричный орнамент, которому
художник стремится подчинить
все
изображе-
ние,
В
1199
году
были
исполнены фрески
цер-
кви
Спаса-Нередицы (разрушена
в го-
ды Великой Отечественной войны).
Эти
фрески
представляли редчайший памятник новгород-
ской
стенописи. После войны церковь
была
вос-
становлена,
но из
всей росписи удалось спасти
только
отдельные
фрагменты нижнего яруса.
Фрески
покрывали стены сплошным ковром,
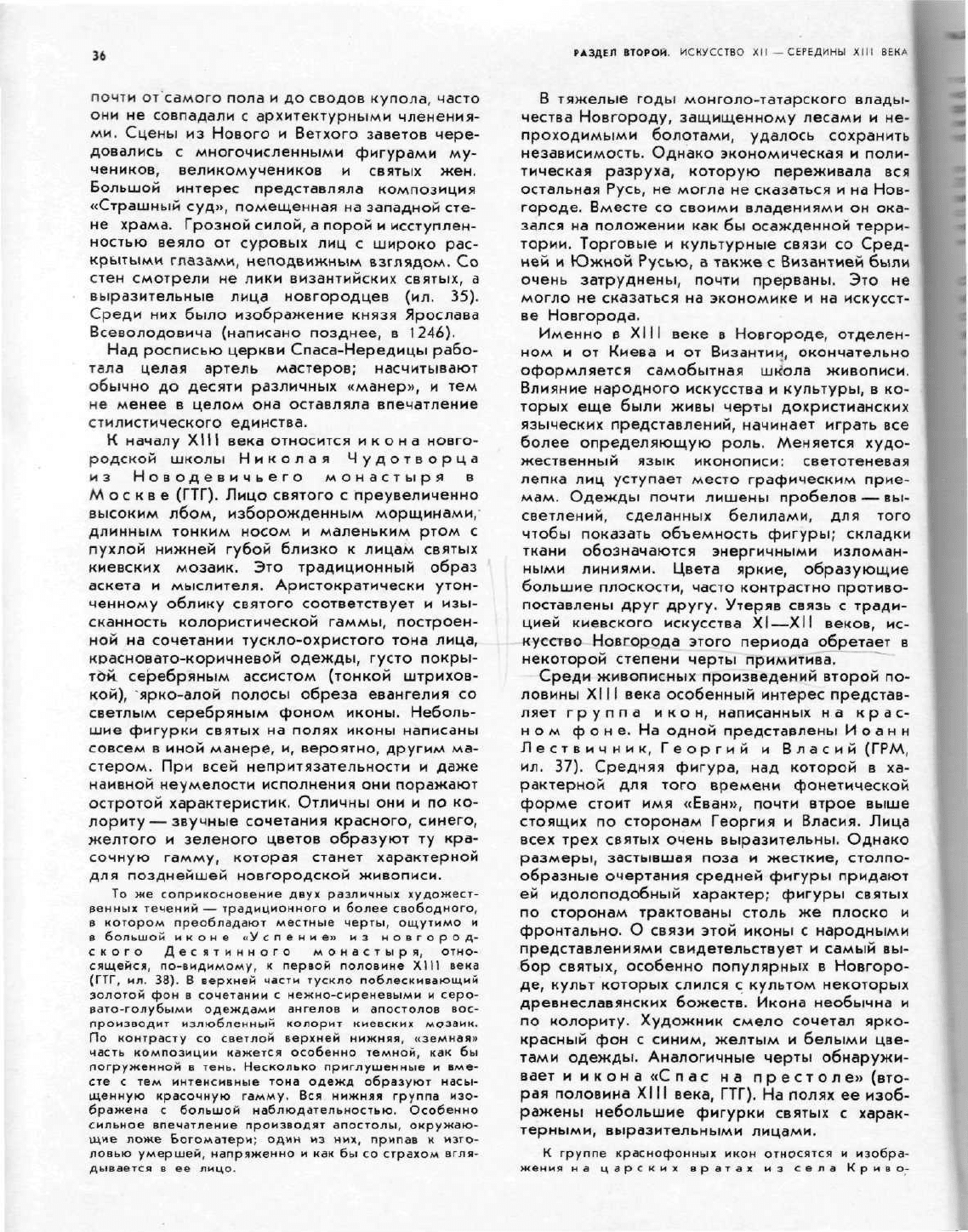
почти
от
самого пола
и до
сводов купола, часто
они
не
совпадали
с
архитектурными членения-
ми.
Сцены
из
Нового
и
Ветхого заветов чере-
довались
с
многочисленными фигурами
му-
чеников,
великомучеников
и
святых
жен.
Большой интерес представляла композиция
«Страшный
суд», помещенная
на
западной сте-
не храма. Грозной силой,
а
порой
и
исступлен-
ностью веяло
от
суровых
лиц с
широко
рас-
крытыми глазами, неподвижным взглядом.
Со
стен смотрели
не
лики византийских святых,
а
выразительные лица новгородцев
(ил. 35).
Среди
них
было изображение князя Ярослава
Всеволодовича (написано позднее,
в
1246).
Над росписью церкви Спаса-Нередицы рабо-
тала
целая
артель мастеров; насчитывают
обычно
до
десяти различных
«манер»,
и тем
не менее
в
целом
она
оставляла впечатление
стилистического
единства.
К
началу
XI11
века относится икона новго-
родской
школы Николая Чудотворца
из
Новодевичьего монастыря
в
Москве
(ГТГ). Лицо святого
с
преувеличенно
высоким
лбом, изборожденным морщинами,
длинным тонким носом
и
маленьким ртом
с
пухлой нижней губой близко
к
лицам святых
киевских
мозаик.
Это
традиционный образ
аскета
и
мыслителя. Аристократически утон-
ченному облику святого соответствует
и изы-
сканность
колористической гаммы, построен-
ной
на
сочетании тускло-охристого тона лица,
красновато-коричневой одежды, густо покры-
тий,
серебряным ассистом (тонкой штрихов-
кой),
ярко-алой полосы обреза евангелия
со
светлым серебряным фоном иконы. Неболь-
шие фигурки святых
на
полях иконы написаны
совсем
в
иной манере,
и,
вероятно, другим
ма-
стером.
При
всей непритязательности
и
даже
наивной неумелости исполнения
они
поражают
остротой
характеристик.
Отличны
они и по ко-
лориту— звучные сочетания красного, синего,
желтого
и
зеленого цветов образуют
ту кра-
сочную гамму, которая станет характерной
для позднейшей новгородской живописи.
То
же
соприкосновение двух различных художест-
венных течений
—
традиционного
и
более свободного,
в котором преобладают местные черты, ощутимо
и
в большой иконе
«Успение»
из
новгород-
ского
Десятинного монастыря, отно-
сящейся,
по-видимому,
к
первой половине
XIII
века
(ГТГ,
ил. 38). В
верхней части тускло поблескивающий
золотой
фон в
сочетании
с
нежно-сиреневыми
и
серо-
вато-голубыми одеждами ангелов
и
апостолов
вос-
производит
излюбленный колорит киевских мозаик.
По контрасту
со
светлой верхней нижняя,
«земная»
часть композиции кажется особенно темной,
как бы
погруженной
в
тень. Несколько приглушенные
и вме-
сте
с тем
интенсивные тона одежд образуют насы-
щенную красочную гамму.
Вся
нижняя группа
изо-
бражена
с
большой наблюдательностью. Особенно
сильное впечатление производят апостолы, окружаю-
щие ложе Богоматери; один
из них,
припав
к
изго-
ловью умершей, напряженно
и как бы со
страхом вгля-
дывается
в ее
лицо.
РАЗДЕЛ
ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
XI !—
СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
В тяжелые годы монголо-татарского влады-
чества Новгороду, защищенному лесами
и не-
проходимыми болотами, удалось сохранить
независимость.
Однако экономическая
и
поли-
тическая разруха, которую переживала
вся
остальная Русь,
не
могла
не
сказаться
и на Нов-
городе.
Вместе
со
своими владениями
он ока-
зался
на
положении
как бы
осажденной терри-
тории.
Торговые
и
культурные связи
со
Сред-
ней
и
Южной Русью,
а
также
с
Византией были
очень затруднены, почти прерваны.
Это не
могло
не
сказаться
на
экономике
и на
искусст-
ве Новгорода,
Именно
в XIII
веке
в
Новгороде, отделен-
ном
и от
Киева
и от
Византии, окончательно
оформляется самобытная школа живописи.
Влияние народного искусства
и
культуры,
в ко-
торых
еще
были живы черты дохристианских
языческих представлений, начинает играть
все
более определяющую роль. Меняется худо-
жественный язык иконописи: светотеневая
лепка
лиц
уступает место графическим прие-
мам.
Одежды почти лишены пробелов
— вы-
светлений, сделанных белилами,
для
того
чтобы показать объемность фигуры; складки
ткани обозначаются энергичными изломан-
ными линиями. Цвета яркие, образующие
большие плоскости, часто контрастно противо-
поставлены друг другу. Утеряв связь
с
тради-
цией
киевского искусства
XI—XII
веков,
ис-
кусство
Новгорода этого периода обретает
в
некоторой
степени черты примитива.
Среди живописных произведений второй
по-
ловины
XIII
века особенный интерес представ-
ляет
группа
икон,
написанных
на
крас-
ном
ф о н е. На
одной представлены Иоанн
Лествични
к,
Георгий
и
Власий
(ГРМ,
ил.
37).
Средняя фигура,
над
которой
в ха-
рактерной
для
того времени фонетической
форме стоит
имя
«Еван»,
почти втрое выше
стоящих
по
сторонам Георгия
и
Власия. Лица
всех трех святых очень выразительны. Однако
размеры,
застывшая поза
и
жесткие, столпо-
образные очертания средней фигуры придают
ей идолоподобный характер; фигуры святых
по
сторонам трактованы столь
же
плоско
и
фронтально.
О
связи этой иконы
с
народными
представлениями свидетельствует
и
самый
вы-
бор
святых, особенно популярных
в
Новгоро-
де,
культ которых слился
с
культом некоторых
древнеславянских божеств. Икона необычна
и
по
колориту. Художник смело сочетал ярко-
красный
фон с
синим, желтым
и
белыми
цве-
тами одежды. Аналогичные черты обнаружи-
вает
и
икона
«Спас
на
престоле»
(вто-
рая половина
XIII
века,
ГТГ). На
полях
ее
изоб-
ражены небольшие фигурки святых
с
харак-
терными,
выразительными лицами.
К
группе краснофонных икон относятся
и
изобра-
жения
на
царских вратах
из
села Криво-
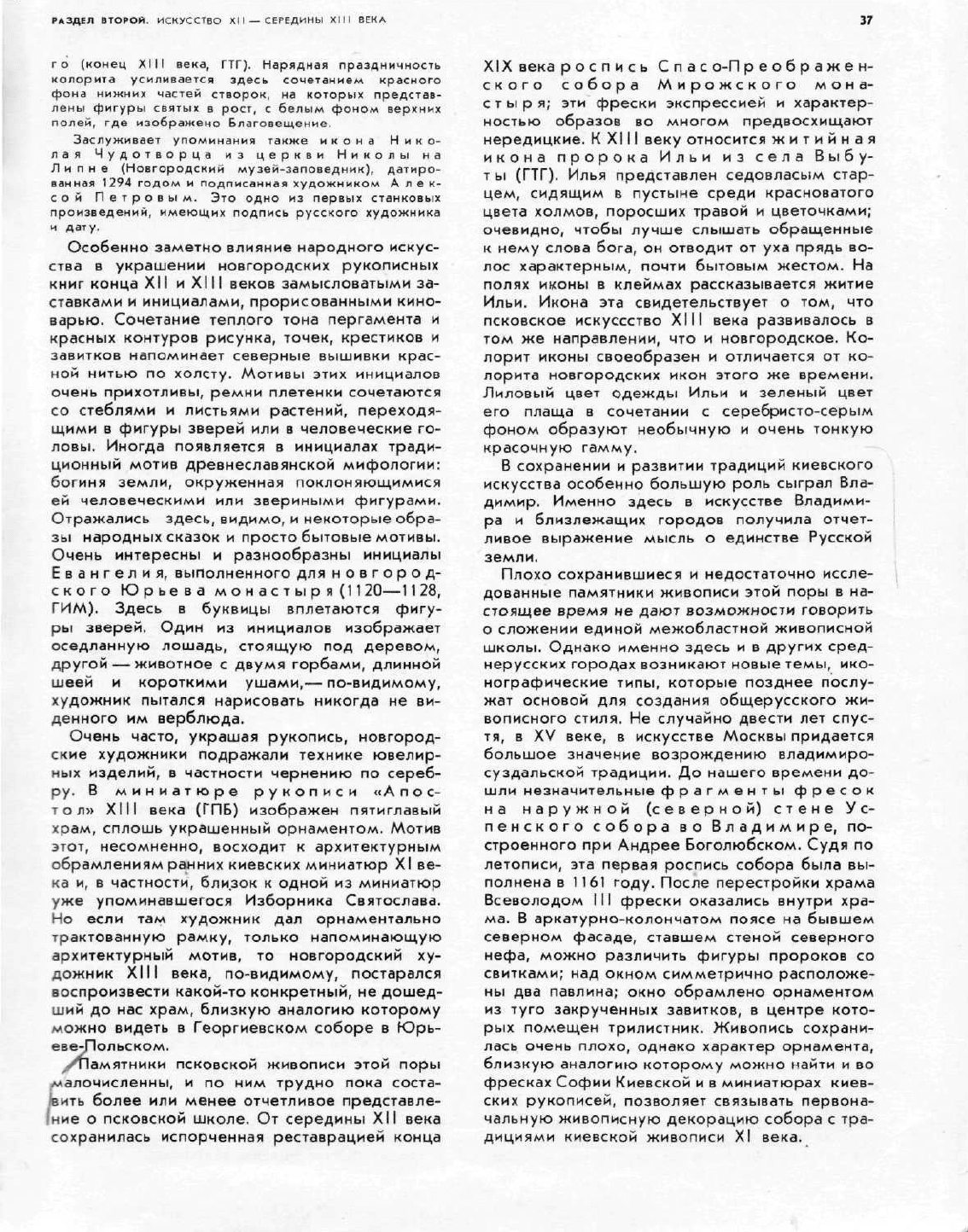
РАЗДЕЛ
ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
XII
—СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
37
г
о
(конец
XIII
века,
ГТГ).
Нарядная
праздничность
колорита усиливается здесь сочетанием красного
фона
нижних частей створок,
на
которых представ-
лены
фигуры святых
в
рост,
с
белым
фоном верхних
полей,
где
изображено Благовещение.
Заслуживает упоминания также икона Нико-
лая Чудотворца
из
церкви Николы
на
Л
и п н е
(Новгородский музей-заповедник), датиро-
ванная
1294
годом
и
подписанная художником
Алек-
сой
Петровым.
Это
одно
из
первых станковых
произведений,
имеющих подпись русского художника
и дату.
Особенно заметно влияние народного искус-
ства
в
украшении новгородских рукописных
книг
конца
XII и XIII
веков замысловатыми
за-
ставками
и
инициалами, прорисованными кино-
варью. Сочетание теплого тона пергамента
и
красных контуров рисунка, точек, крестиков
и
завитков напоминает северные вышивки крас-
ной нитью
по
холсту. Мотивы этих инициалов
очень прихотливы, ремни плетенки сочетаются
со
стеблями
и
листьями растений, переходя-
щими
в
фигуры зверей
или в
человеческие
го-
ловы. Иногда появляется
в
инициалах тради-
ционный мотив древнеславянской мифологии:
богиня земли, окруженная поклоняющимися
ей человеческими
или
звериными фигурами.
Отражались здесь, видимо,
и
некоторые обра-
зы народных сказок
и
просто бытовые мотивы.
Очень
интересны
и
разнообразны инициалы
Евангелия, выполненного
для
новгород-
ского
Юрьева
м о н а с т ы р я
(11 20—1128,
ГИМ). Здесь
в
буквицы вплетаются фигу-
ры зверей, Один
из
инициалов изображает
оседланную лошадь, стоящую
под
деревом,
другой
—
животное
с
двумя горбами, длинной
шеей
и
короткими ушами,— по-видимому,
художник
пытался
нарисовать никогда
не ви-
денного
им
верблюда.
Очень
часто, украшая рукопись, новгород-
ские
художники подражали технике ювелир-
ных изделий,
в
частности чернению
по
сереб-
ру.
В
миниатюре рукописи
«А пос-
тол»
XIII
века
(ГПБ)
изображен пятиглавый
храм,
сплошь украшенный орнаментом. Мотив
этот, несомненно, восходит
к
архитектурным
обрамлениям ранних киевских миниатюр
XI ве-
ка
и, в
частности, близок
к
одной
из
миниатюр
уже упоминавшегося Изборника Святослава.
Но если
там
художник
дал
орнаментально
трактованную рамку, только напоминающую
архитектурный мотив,
то
новгородский
ху-
дожник
XI11
века, по-видимому, постарался
воспроизвести какой-то конкретный,
не
дошед-
ший
до нас
храм, близкую аналогию которому
можно видеть
в
Георгиевском соборе
в Юрь-
еве-Польском.
псковской
живописи этой поры
малочисленны,
и по ним
трудно пока соста-
вить более
или
менее отчетливое представле-
ние
о
псковской школе.
От
середины
XII
века
сохранилась испорченная реставрацией конца
XIX
века роспись
С п а с о-П р е о б р а ж е н-
ского
собора Мирожского мона-
стыря;
эти
фрески экспрессией
и
характер-
ностью образов
во
многом предвосхищают
нередицкие.
К XI11
веку относится житийная
икона пророка
Ильи
из
села
Вы бу-
ты (ГТГ).
Илья
представлен седовласым стар-
цем,
сидящим
в
пустыне среди красноватого
цвета холмов, поросших травой
и
цветочками;
очевидно,
чтобы
лучше
слышать
обращенные
к
нему слова бога,
он
отводит
от уха
прядь
во-
лос характерным, почти бытовым жестом.
На
полях
иконы
в
клеймах рассказывается житие
Ильи. Икона
эта
свидетельствует
о том, что
псковское
искуссство
XIII
века развивалось
в
том
же
направлении,
что и
новгородское.
Ко-
лорит иконы своеобразен
и
отличается
от ко-
лорита новгородских икон этого
же
времени.
Лиловый цвет одежды
Ильи
и
зеленый цвет
его
плаща
в
сочетании
с
серебристо-серым
фоном образуют необычную
и
очень тонкую
красочную гамму.
В сохранении
и
развитии традиций киевского
искусства особенно большую роль сыграл
Вла-
димир.
Именно здесь
в
искусстве Владими-
ра
и
близлежащих городов
получила
отчет-
ливое выражение мысль
о
единстве Русской
земли.
Плохо
сохранившиеся
и
недостаточно иссле-
дованные памятники живописи этой поры
в на-
стоящее время
не
дают возможности говорить
о сложении единой межобластной живописной
школы. Однако именно здесь
и в
других сред-
нерусских городах возникают новые темы,
ико-
нографические типы, которые позднее послу-
жат основой
для
создания общерусского
жи-
вописного
стиля.
Не
случайно двести
лет
спус-
тя,
в XV
веке,
в
искусстве Москвы придается
большое значение возрождению владимиро-
суздальской традиции.
До
нашего времени
до-
шли незначительные фрагменты фресок
на наружной (северной) стене
Ус-
пенского
собора
во
Владимире,
по-
строенного
при
Андрее Боголюбском.
Судя
по
летописи,
эта
первая роспись собора
была
вы-
полнена
в
1161 году. После перестройки храма
Всеволодом
III
фрески оказались внутри
хра-
ма.
В
аркатурно-колончатом поясе
на
бывшем
северном фасаде, ставшем стеной северного
нефа, можно различить фигуры пророков
со
свитками;
над
окном симметрично расположе-
ны
два
павлина; окно обрамлено орнаментом
из
туго закрученных завитков,
в
центре кото-
рых помещен трилистник. Живопись сохрани-
лась
очень плохо, однако характер орнамента,
близкую аналогию которому можно найти
и во
фресках Софии Киевской
и в
миниатюрах киев-
ских
рукописей, позволяет связывать первона-
чальную
живописную декорацию собора
с тра-
дициями киевской живописи
X!
века.
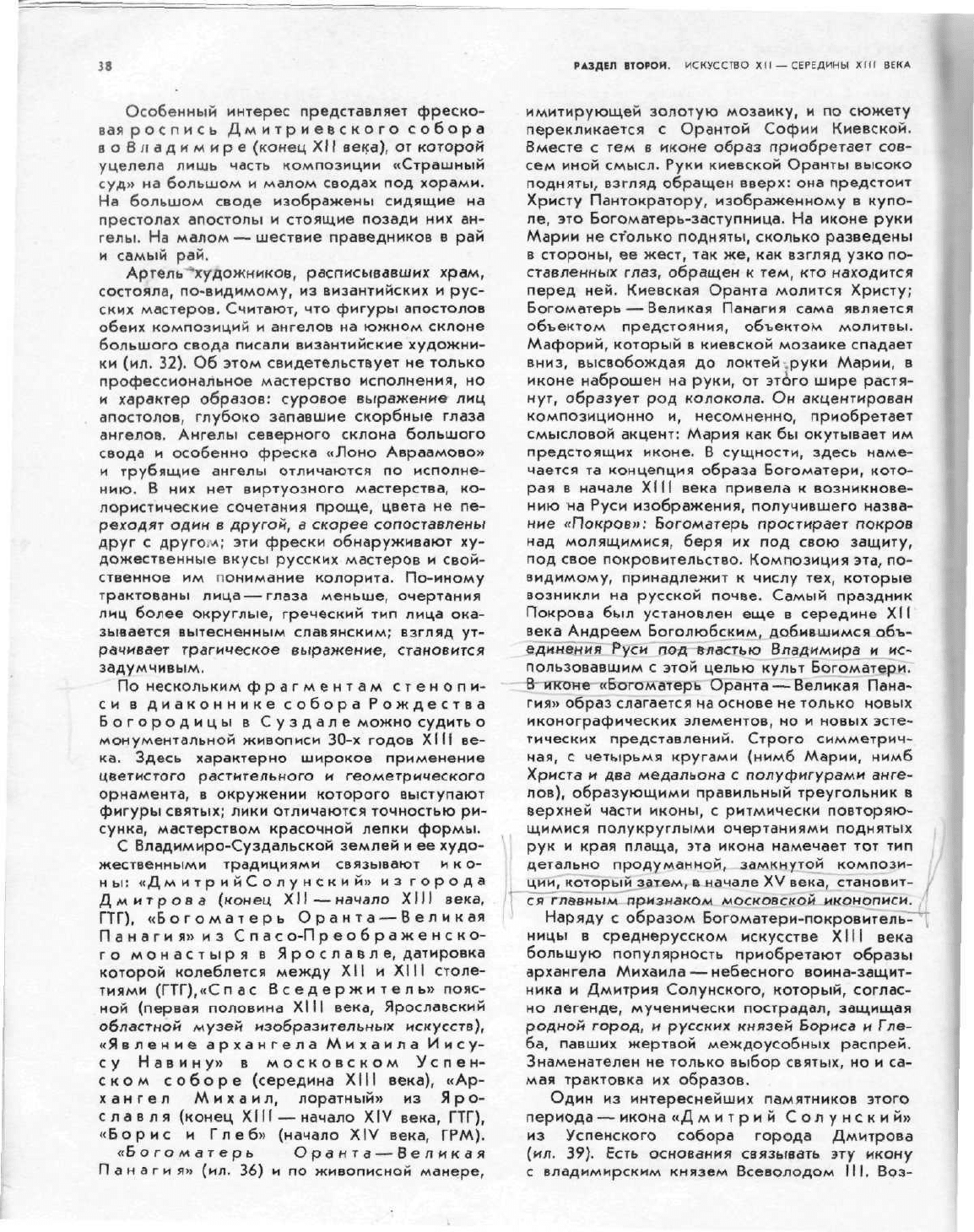
38
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
XII
—СЕРЕДИНЫ
XIII
8ЕКА
Особенный интерес представляет фреско-
вая роспись Дмитриевского собора
воВладимире (конец
XII
века),
от
которой
уцелела
лишь часть композиции
«Страшный
суд»
на
большом
и
малом сводах
под
хорами.
На большом своде изображены сидящие
на
престолах апостолы
и
стоящие позади
них ан-
гелы.
На
малом
—
шествие праведников
в рай
и самый
рай.
Артель
^художников, расписывавших храм,
состояла, по-видимому,
из
византийских
и рус-
ских
мастеров- Считают,
что
фигуры апостолов
обеих композиций
и
ангелов
на
южном склоне
большого свода писали византийские художни-
ки
(ил. 32). Об
этом свидетельствует
не
только
профессиональное мастерство исполнения,
но
и характер образов: суровое выражение
лиц
апостолов, глубоко запавшие скорбные глаза
ангелов.
Ангелы
северного склона большого
свода
и
особенно фреска
«Лоно
Авраамово»
и трубящие ангелы отличаются
по
исполне-
нию.
В них нет
виртуозного мастерства,
ко-
лористические сочетания проще, цвета
не пе-
реходят один
в
другой,
а
скорее сопоставлены
друг
с
другом;
эти
фрески обнаруживают
ху-
дожественные вкусы русских мастеров
и
свой-
ственное
им
понимание колорита. По-иному
трактованы лица
—
глаза меньше, очертания
лиц более округлые, греческий
тип
лица
ока-
зывается вытесненным славянским; взгляд
ут-
рачивает трагическое выражение, становится
задумчивым.
По нескольким фрагментам стенопи-
си
в
диаконнике собора Рождества
Богородицы
в
Суздале
можно судить
о
монументальной живописи
30-х
годов
XIII ве-
ка.
Здесь характерно широкое применение
цветистого растительного
и
геометрического
орнамента,
в
окружении которого выступают
фигуры святых; лики отличаются точностью
ри-
сунка,
мастерством красочной лепки формы.
С Владимиро-Суздальской землей
и ее
худо-
жественными традициями связывают
и к о-
н
ы: «Д
митрийСолунский»
из
города
Дмитрова (конец
XII—начало
XIII
века,
ГТГ), «Богоматерь Оранта
—
Великая
Панагия»
из
Спас
о-П
реображенско-
го
монастыря
в Я р о с л а в л е,
датировка
которой
колеблется между
XII и XIII
столе-
тиями
(ГТГ),«Спас
Вседержитель» пояс-
ной (первая половина
XIII
века, Ярославский
областной музей изобразительных искусств),
«Явление
архангела Михаила Иису-
су
Навину»
в
московском Успен-
ском
соборе (середина
XIII
века),
«Ар-
хангел Михаил,
лоратный»
из Яро-
славля
(конец
XIII —
начало
XIV
века,
ГТГ),
«Борис
и
Глеб»
(начало
XIV
века,
ГРМ).
«Богоматерь Оранта
—
Великая
Панагия»
(ил. 36) и по
живописной манере,
имитирующей золотую мозаику,
и по
сюжету
перекликается
с
Орантой Софии Киевской.
Вместе
с тем в
иконе образ приобретает
сов-
сем
иной смысл. Руки киевской
Оранты
высоко
подняты, взгляд обращен вверх:
она
предстоит
Христу Пантократору, изображенному
в
купо-
ле,
это
Богоматерь-заступница.
На
иконе руки
Марии
не
столько подняты, сколько разведены
в стороны,
ее
жест,
так же, как
взгляд узко
по-
ставленных
глаз, обращен
к
тем,
кто
находится
перед
ней.
Киевская Оранта молится Христу;
Богоматерь
—
Великая Панагия сама
является
объектом предстояния, объектом молитвы.
Мафорий, который
в
киевской мозаике спадает
вниз,
высвобождая
до
локтей .руки Марии,
в
иконе наброшен
на
руки,
от
этого шире растя-
нут, образует
род
колокола.
Он
акцентирован
композиционно
и,
несомненно, приобретает
смысловой акцент: Мария
как бы
окутывает
им
предстоящих иконе.
В
сущности, здесь наме-
чается
та
концепция образа Богоматери, кото-
рая
в
начале
XIII
века привела
к
возникнове-
нию
на
Руси изображения, получившего назва-
ние
«Покров»:
Богоматерь простирает покров
над молящимися, беря
их под
свою защиту,
под
свое покровительство. Композиция эта,
по-
видимому, принадлежит
к
числу
тех,
которые
возникли
на
русской почве. Самый праздник
Покрова
был
установлен
еще в
середине
XII
века Андреем Боголюбским, добившимся
объ-
единения Руси
под
властью
Владимира
и ис-
пользовавшим
с
этой
целью
культ
Богоматери.
В-ттконе «Богоматерь Оранта
—
Великая Пана-
гия»
образ слагается
на
основе
не
только новых
иконографических элементов,
но и
новых эсте-
тических представлений. Строго симметрич-
ная,
с
четырьмя кругами (нимб Марии, нимб
Христа
и два
медальона
с
полуфигурами анге-
лов), образующими правильный треугольник
в
верхней части иконы,
с
ритмически повторяю-
щимися полукруглыми очертаниями поднятых
рук
и
края плаща,
эта
икона намечает
тот тип
детально
продуманной, замкнутой
компози-
ции,
который затем,
в
начале
XV
века, становит-
ся главным признаком московской иконописи.
Наряду
с
образом Богоматери-покровитель-
ницы
в
среднерусском искусстве
XIII
века
большую популярность приобретают образы
архангела Михаила
—
небесного воина-защит-
ника
и
Дмитрия Солунского, который, соглас-
но легенде, мученически пострадал, защищая
родной город,
и
русских князей Бориса
и Гле-
ба, павших жертвой междоусобных распрей.
Знаменателен
не
только выбор святых,
но и са-
мая трактовка
их
образов.
Один
из
интереснейших памятников этого
периода
—
икона
«Д
митрий Солунский»
из
Успенского собора города Дмитрова
{ил.
39).
Есть
основания связывать
эту
икону
с владимирским князем Всеволодом
III. Воз-
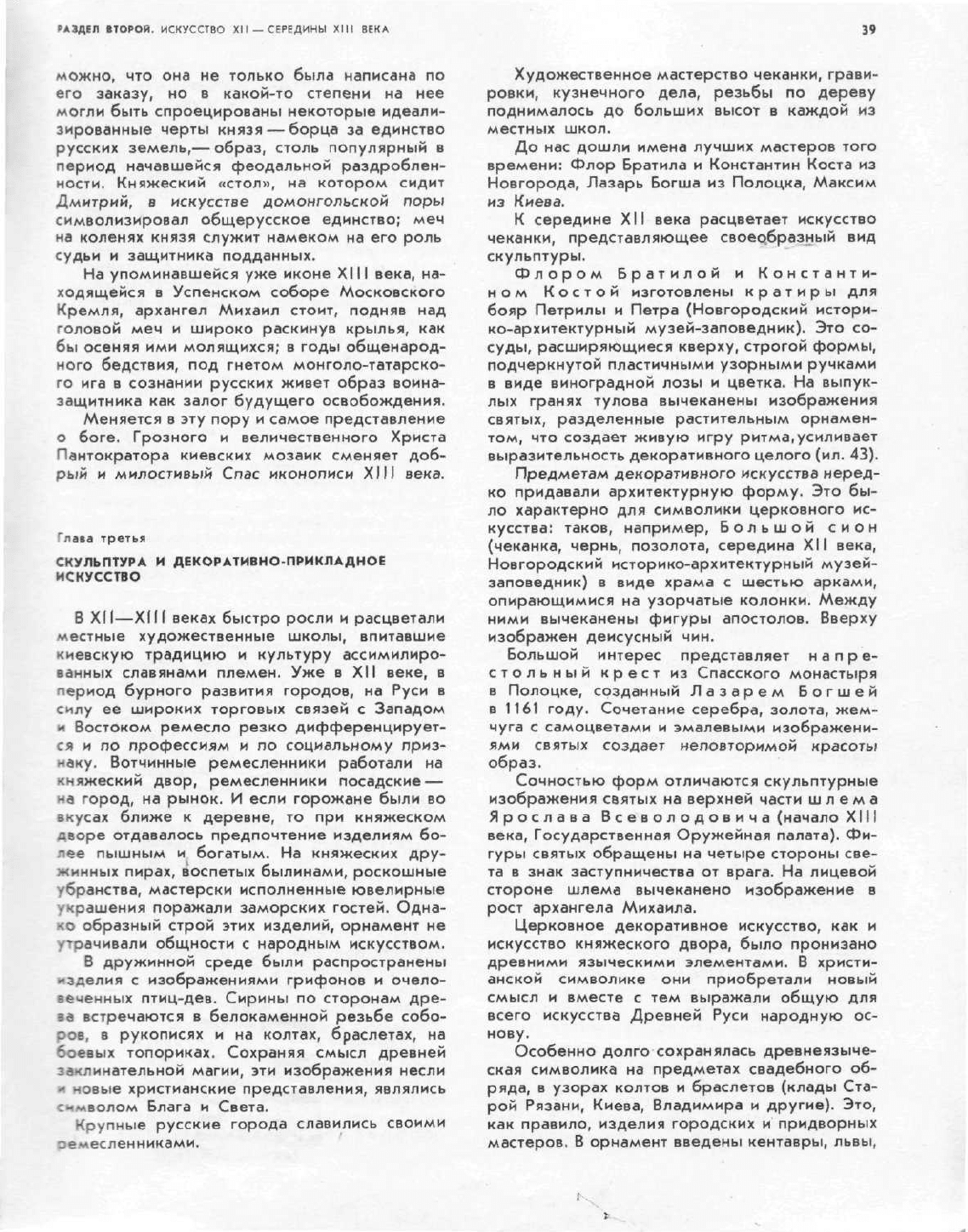
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИСКУССТВО XII—СЕРЕДИНЫ
ХН!
ВЕКА
можно,
что она не
только
была
написана
по
его
заказу,
но в
какой-то степени
на нее
могли
быть
спроецированы некоторые идеали-
зированные черты князя
—
борца
за
единство
русских
земель,— образ, столь популярный
в
период
начавшейся
феодальной
раздроблен-
ности.
Княжеский
«стол»,
на
котором сидит
Дмитрий,
в
искусстве домонгольской поры
символизировал общерусское единство;
меч
на коленях князя служит намеком
на его
роль
судьи
и
защитника подданных.
На упоминавшейся
уже
иконе
XIII
века,
на-
ходящейся
в
Успенском соборе Московского
Кремля, архангел Михаил стоит, подняв
над
головой
меч и
широко раскинув крылья,
как
бы осеняя
ими
молящихся;
в
годы общенарод-
ного
бедствия,
под
гнетом монголо-татарско-
го
ига в
сознании русских живет образ воина-
защитника
как
залог будущего освобождения.
Меняется
в эту
пору
и
самое представление
о боге. Грозного
и
величественного Христа
Пантократора киевских мозаик сменяет
доб-
рый
и
милостивый Спас иконописи
XIII
века.
Глава третья
СКУЛЬПТУРА
И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
В
XII—XIII
веках быстро росли
и
расцветали
местные художественные школы, впитавшие
киевскую традицию
и
культуру ассимилиро-
ванных
славянами племен.
Уже в XII
веке,
в
период
бурного развития городов,
на
Руси
в
силу
ее
широких торговых связей
с
Западом
и Востоком ремесло резко дифференцирует-
ся
и по
профессиям
и по
социальному
приз-
наку. Вотчинные ремесленники работали
на
княжеский
двор, ремесленники посадские
—
на город,
на
рынок.
И
если горожане
были
во
вкусах ближе
к
деревне,
то при
княжеском
дворе отдавалось предпочтение изделиям
бо-
лее пышным
и
богатым.
На
княжеских
дру-
жинных пирах, воспетых былинами, роскошные
убранства, мастерски исполненные ювелирные
украшения поражали заморских гостей. Одна-
ко
образный строй этих изделий, орнамент
не
утрачивали
общности
с
народным искусством.
В дружинной среде
были
распространены
изделия
с
изображениями грифонов
и
очело-
веченных
птиц-дев. Сирины
по
сторонам
дре-
ва встречаются
в
белокаменной резьбе собо-
ров,
в
рукописях
и на
колтах, браслетах,
на
боевых топориках.
Сохраняя
смысл древней
заклинательной магии,
эти
изображения несли
«
новые христианские представления,
являлись
символом Блага
и
Света.
Крупные русские города славились своими
оемесленниками.
Художественное мастерство чеканки, грави-
ровки,
кузнечного дела, резьбы
по
дереву
поднималось
до
больших высот
в
каждой
из
местных школ.
До
нас
дошли имена
лучших
мастеров того
времени:
Флор Братила
и
Константин Коста
из
Новгорода, Лазарь Богша
из
Полоцка, Максим
из
Киева.
К
середине
XII
века расцветает искусство
чеканки,
представляющее своеобразный
вид
скульптуры.
Флором
Братилой
и
Константи-
ном Костой изготовлены
к р а т и р ы для
бояр
Петрилы
и
Петра (Новгородский истори-
ко-архитектурный музей-заповедник).
Это со-
суды,
расширяющиеся кверху, строгой формы,
подчеркнутой пластичными узорными ручками
в виде виноградной лозы
и
цветка.
На
выпук-
лых гранях ту
лова
вычеканены изображения
святых, разделенные растительным орнамен-
том,
что
создает живую игру ритма,усиливает
выразительность декоративного целого (ил.
43).
Предметам декоративного искусства неред-
ко
придавали архитектурную форму.
Это бы-
ло характерно
для
символики церковного
ис-
кусства: таков, например, Большой сион
(чеканка, чернь, позолота, середина
XII
века,
Новгородский
историко-архитектурный музей-
заповедник)
в
виде храма
с
шестью арками,
опирающимися
на
узорчатые колонки. Между
ними вычеканены фигуры апостолов. Вверху
изображен деисусный
чин.
Большой интерес представляет напре-
стольный крест
из
Спасского монастыря
в Полоцке, созданный Лазарем Богшей
в
1161
году. Сочетание серебра, золота,
жем-
чуга
с
самоцветами
и
эмалевыми изображени-
ями святых создает неповторимой красоты
образ.
Сочностью форм отличаются скульптурные
изображения святых
на
верхней части шлема
Ярослава
Всеволодовича
(начало
XIII
века, Государственная Оружейная палата). Фи-
гуры святых обращены
на
четыре стороны
све-
та
в
знак заступничества
от
врага.
На
лицевой
стороне шлема вычеканено изображение
в
рост
архангела Михаила.
Церковное декоративное искусство,
как и
искусство
княжеского двора,
было
пронизано
древними языческими элементами.
В
христи-
анской символике
они
приобретали новый
смысл
и
вместе
с тем
выражали общую
для
всего
искусства Древней Руси народную
ос-
нову.
Особенно долго сохранялась древнеязыче-
ская символика
на
предметах свадебного
об-
ряда,
в
узорах колтов
и
браслетов (клады
Ста-
рой
Рязани, Киева, Владимира
и
другие).
Это,
как
правило, изделия городских
и
придворных
мастеров.
В
орнамент введены кентавры, львы,
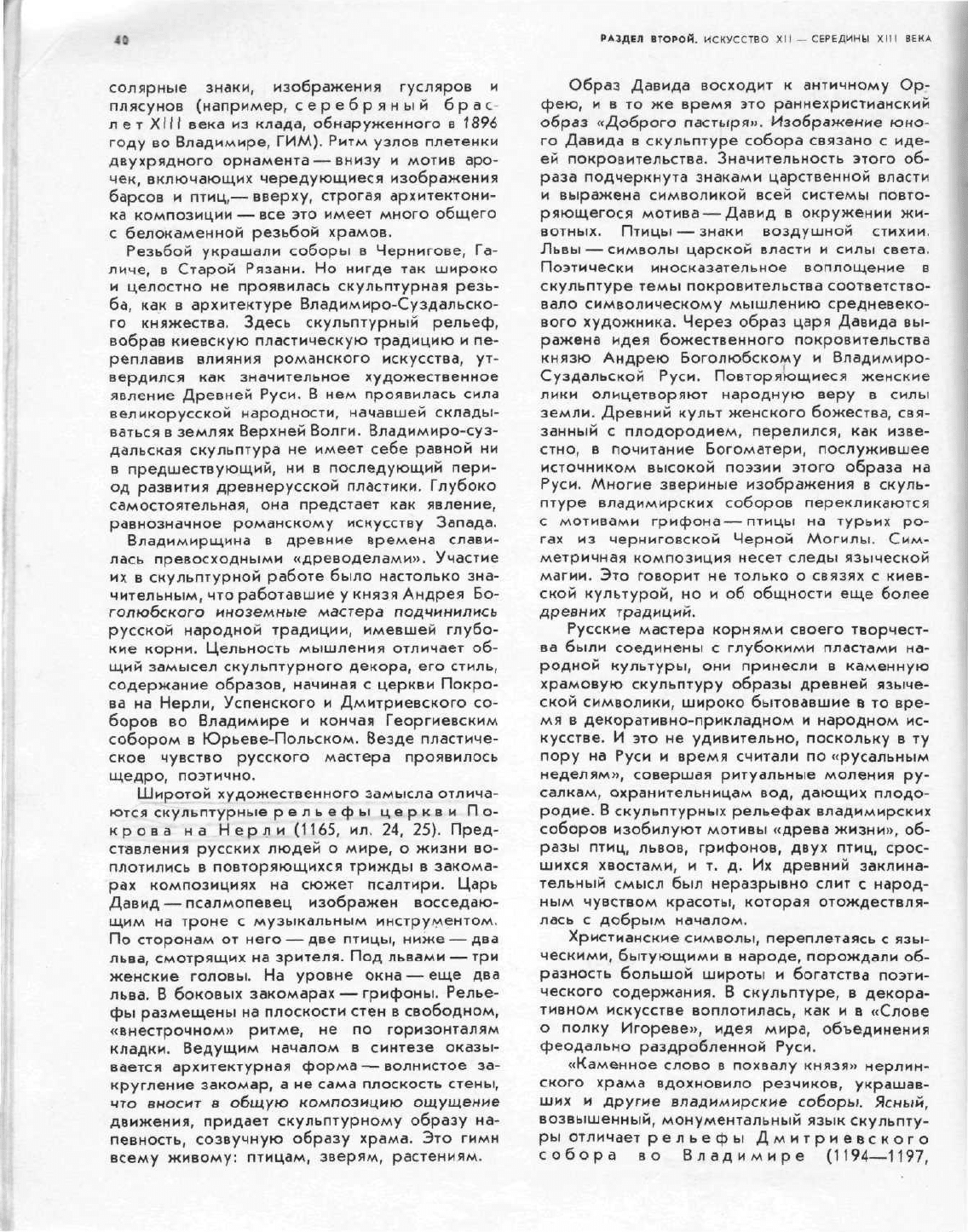
40
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
XII
—СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
солярные знаки, изображения гусляров и
плясунов (например, серебряный брас
лет
XIII
века из клада, обнаруженного в 1896
году
во Владимире, ГИМ), Ритм узлов плетенки
двухрядного орнамента — внизу и мотив аро-
чек, включающих чередующиеся изображения
барсов и птиц,— вверху, строгая архитектони-
ка
композиции — все это имеет много общего
с белокаменной резьбой храмов.
Резьбой украшали соборы в Чернигове, Га-
личе, в Старой Рязани. Но нигде так широко
и
целостно не проявилась скульптурная резь-
ба,
как в архитектуре Владимиро-Суздальско-
го
княжества. Здесь скульптурный
рельеф,
вобрав киевскую пластическую традицию и пе-
реплавив влияния романского искусства, ут-
вердился как значительное художественное
явление Древней Руси. В нем проявилась сила
великорусской
народности, начавшей склады-
ваться в землях Верхней Волги. Владимиро-суз-
дальская скульптура не имеет себе равной ни
в предшествующий, ни в последующий пери-
од
развития древнерусской пластики. Глубоко
самостоятельная, она предстает как явление,
равнозначное романскому искусству Запада.
Владимирщина в древние времена слави-
лась
превосходными
«древоделами».
Участие
их в скульптурной работе
было
настолько зна-
чительным, что работавшие у князя
Андрея
Бо-
голюбского
иноземные мастера подчинились
русской
народной традиции, имевшей глубо-
кие
корни.
Цельность мышления
отличает
об-
щий
замысел скульптурного декора, его стиль,
содержание образов,
начиная
с церкви Покро-
ва на Нерли, Успенского и Дмитриевского со-
боров во Владимире и кончая Георгиевским
собором
в Юрьеве-Польском. Везде пластиче-
ское
чувство русского мастера проявилось
щедро,
поэтично.
Широтой
художественного замысла отлича-
ются скульптурные
рельефы
церкви По-
крова
на Нерли (1165, ил. 24, 25). Пред-
ставления русских людей о мире, о жизни во-
плотились в повторяющихся трижды в закома-
рах композициях на сюжет псалтири. Царь
Давид
— псалмопевец изображен восседаю-
щим
на троне с музыкальным инструментом.
По сторонам от него — две птицы, ниже — два
льва,
смотрящих на зрителя. Под
львами
— три
женские
головы. На уровне окна — еще два
льва.
В боковых закомарах — грифоны.
Релье-
фы размещены на плоскости стен в свободном,
«внестрочном»
ритме, не по горизонталям
кладки.
Ведущим
началом
в синтезе оказы-
вается архитектурная форма—волнистое за-
кругление закомар, а не сама плоскость стены,
что вносит в общую композицию ощущение
движения,
придает скульптурному образу на-
певность, созвучную образу храма. Это гимн
всему живому: птицам, зверям, растениям.
Образ Давида восходит к античному Ор-
фею, и в то же время это раннехристианский
образ
«Доброго пастыря». Изображение юно-
го
Давида в скульптуре собора связано с иде-
ей покровительства. Значительность этого об-
раза
подчеркнута знаками царственной власти
и
выражена символикой всей системы повто-
ряющегося
мотива — Давид в окружении жи-
вотных. Птицы — знаки воздушной стихии.
Львы—символы царской власти и силы света.
Поэтически иносказательное воплощение в
скульптуре темы покровительства соответство-
вало
символическому мышлению средневеко-
вого
художника. Через образ царя Давида вы-
ражена идея божественного покровительства
князю
Андрею Боголюбскому и Владимиро-
Суздальской Руси. Повторяющиеся женские
лики олицетворяют народную веру в силы
земли.
Древний
культ
женского божества, свя-
занный с плодородием, перелился, как изве-
стно,
в почитание Богоматери, послужившее
источником
высокой поэзии этого образа на
Руси.
Многие звериные изображения в скуль-
птуре владимирских соборов перекликаются
с мотивами грифона—птицы на турьих ро-
гах из черниговской Черной Могилы. Сим-
метричная композиция несет следы языческой
магии.
Это говорит не только о связях с киев-
ской
культурой, но и об общности еще более
древних традиций.
Русские мастера корнями своего творчест-
ва
были
соединены с глубокими пластами на-
родной
культуры, они принесли в каменную
храмовую скульптуру образы древней языче-
ской
символики, широко бытовавшие в то вре-
мя в декоративно-прикладном и народном ис-
кусстве.
И это не удивительно, поскольку в ту
пору
на Руси и время считали по
«русальным
неделям»,
совершая
ритуальные
моления ру-
салкам,
охранительницам вод, дающих плодо-
родие.
В скульптурных
рельефах
владимирских
соборов
изобилуют мотивы
«древа
жизни», об-
разы птиц, львов, грифонов,
двух
птиц, срос-
шихся хвостами, и т. д. Их древний заклина-
тельный
смысл был неразрывно слит с народ-
ным чувством красоты, которая отождествля-
лась
с добрым началом.
Христианские символы, переплетаясь с язы-
ческими,
бытующими в народе, порождали об-
разность
большой широты и богатства поэти-
ческого
содержания. В скульптуре, в декора-
тивном искусстве воплотилась, как и в
«Слове
о полку Игореве», идея мира, объединения
феодально
раздробленной Руси.
«Каменное слово в
похвалу
князя»
нерлин-
ского
храма вдохновило резчиков, украшав-
ших и другие владимирские соборы, Ясный,
возвышенный, монументальный язык скульпту-
ры
отличает
рельефы
Дмитриевского
собора
во Владимире (1194—1197,

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
X'' —
СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
41
ил.
26, 40).
Аркатурно-колончатый
с
фигурами
святых между колонками фриз
и
изображение
древа
с
парными животными, резные нарядные
порталы, львы-стражи
по
бокам оконных прое-
мов,
скульптура закомар
—
все.
это
образует
единый выразительный ансамбль архитектур-
ного
целого. Скульптурный декор, распреде-
ленный ярусами,
не
слит здесь столь тесно
с
массой
стены,
как в
храме
на
Нерли,
он,
словно
кружево, ровно затягивает поверхность стен.
Главные
образы
—
Александр Македонский,
мудрец Соломон, могучий Всеволод
III —
окружены символическими изображениями
зверей
и
растительным орнаментом. Большую
группу
составляют
рельефы
скачущих всадни-
ков-святых.
Они
заставляют вспомнить киев-
ские
рельефы
конных воинов. Жизненная осно-
ва этих образов выражена
еще
сильнее.
Глав-
ные сюжеты сосредоточены
в
верхних
частях
стен,
распределяясь
по
плоскости
с
характер-
ной
для
народного искусства центричностью
и
симметричностью.
Очеловеченные
львы,
де-
ревья
с
пышной листвой, изогнутыми ветвями,
фантастические существа
—
весь этот
мир ска-
зочной фантазии насыщен чертами, отражаю-
щими
реальную
действительность
в ее жиз-
ненной противоречивости,
в
борьбе добра
и
зла.
Но
прославление прекрасного остается
лейтмотивом скульптурного замысла.
В трактовке форм художественное обобще-
ние сочетается
с
реалистичностью изображе-
ния.
Пространственная градация планов
и
округленность краев
рельефа
придают
фор-
мам сочность,
она
сочетается
с
графично-
стью внутренней разделки изображения,
его
плоскостным характером
в
целом. Невысокий
рельеф
резьбы, сплошная орнаментация зако-
мар образуют мягкую игру светотени, живую
трепетность стенной поверхности. Плавность
перехода объемов, легкая текучесть масс
рож-
дают ощущение устремленности архитектур-
ного
сооружения ввысь. Несмотря
на
церков-
ные каноны,
в
образе храма, воплотившем син-
тез архитектуры
и
скульптуры, владимирские
мастера выразили свое отношение
к
миру
ши-
ооко
и
поэтично.
Большим завоеванием древнерусской
скульптуры явилось изображение человека.
Если
в
пластике Дмитриевского собора
и
церк-
ви Покрова
на
Нерли тема человека
и
челове-
-еского
в
мире занимает немалое место,
то в
скульптуре Георг
и а вс к о го
собора
в
Юрьеве-Пол
ьском (1230—1234,
ил. 28)
ома становится центром внимания древнерус-
ских
мастеров.
Место царя Давида, символизирующего
-эежде Христа, теперь занял
сам
Христос.
"лавнь;е
сюжеты
в
скульптуре Успенского
со-
zooa
во
Владимире, такие,
как
«Три
отрока
в
-ещи вавилонской», оказались
в
Георгиевском
соборе
в
боковой закомаре. Звериные моти-
вы заметно сократились.
Во
фризе помещены
«Деисус», святые воины
и
мученики. Самостоя-
тельный
пояс образовали фигуры пророков.
Растительный
орнамент здесь спускается
до
цоколя храма. Ничего подобного
не
было
ни
в византийской,
ни е
западноевропейской архи-
тектуре. Исследователи отмечают соприкосно-
вения скульптурной системы Георгиевского
со-
бора
с
системой росписи Софии Киевской
и
росписями
церкви Cnaca-Нередицы, воплотив-
шими мысль
о
том,
что
«церковь есть небо
на
земле». Скульптурный
рельеф,
покрывающий
стены собора
от
барабана
до
цоколя, содер-
жит разные циклы евангельских
и
библейских
сюжетов. Верхний регистр символизирует
не-
бо,
нижний
—
землю. Оранта
с
предстоящими
воинами,
символизирующая «церковь
зем-
ную»,
находится
в
среднем регистре.
В
арка-
турном поясе горельефом выделяются
деи-
сусный
чин и
внушительные фигуры святых:
изображение «просветителя
Руси»
апостола
Андрея, святых патронов владимиро-суздаль-
ских
князей
во
главе
с
Юрием Долгоруким.
В нижнем регистре
над
порталом изображен
святой Георгий
со
щитом, несущий эмблему
владимиро-суздальских князей
—
барса.
«Не-
бесная церковь» через «земную церковь»
свя-
зана
с
княжеским домом. Идея заступничест-
ва выражена
в
повторяющемся
на
всех фаса-
дах изображении «Деисуса». Геральдические
птицы
и
звери
у
древа символизируют силы
земли.
Грифоны, сирины, всевозможные
чу-
довища изображены среди фантастических
растений.
Их
плавные
контуры сплетаются
в
сложную ковровую композицию. Резьба здесь
сплошь покрывает стены, переходит
на пи-
лястры
и
арки.
Скульптура Георгиевского
со-
бора представляет ценный исторический
ис-
точник,
его
можно сравнить
с
летописью.
Белокаменную резьбу
и
произведения
де-
коративно-прикладного искусства объединяет
общность мотивов
и
художественных прие-
мов.
Так,
например, характерный
для
камен-
ной резьбы двойной контур, выделяющий
си-
луэт
фигуры, встречается
и в
гравированных
изображениях
на
браслетах
X11
века
(ГРМ,
ГИМ).
Мотив архитектурных арок
и
плетенки
в
скульптурном орнаменте владимирских собо-
ров наблюдается
и в
чеканке. Близок белока-
менной резьбе этих сооружений характер
растительного орнамента серебряного
ковчег
а-м
ощевика
XIII
века {Государст-
венная Оружейная
палата)
с
изображением
Христа
и
предстоящих Флора
и
Лавра, близки
по стилю
и
некоторые резные
по
камню
икон-
ки
XIII
века.
Объемно-пространственный стиль скульпту-
ры
с его
пафосом человеческого, -красоты
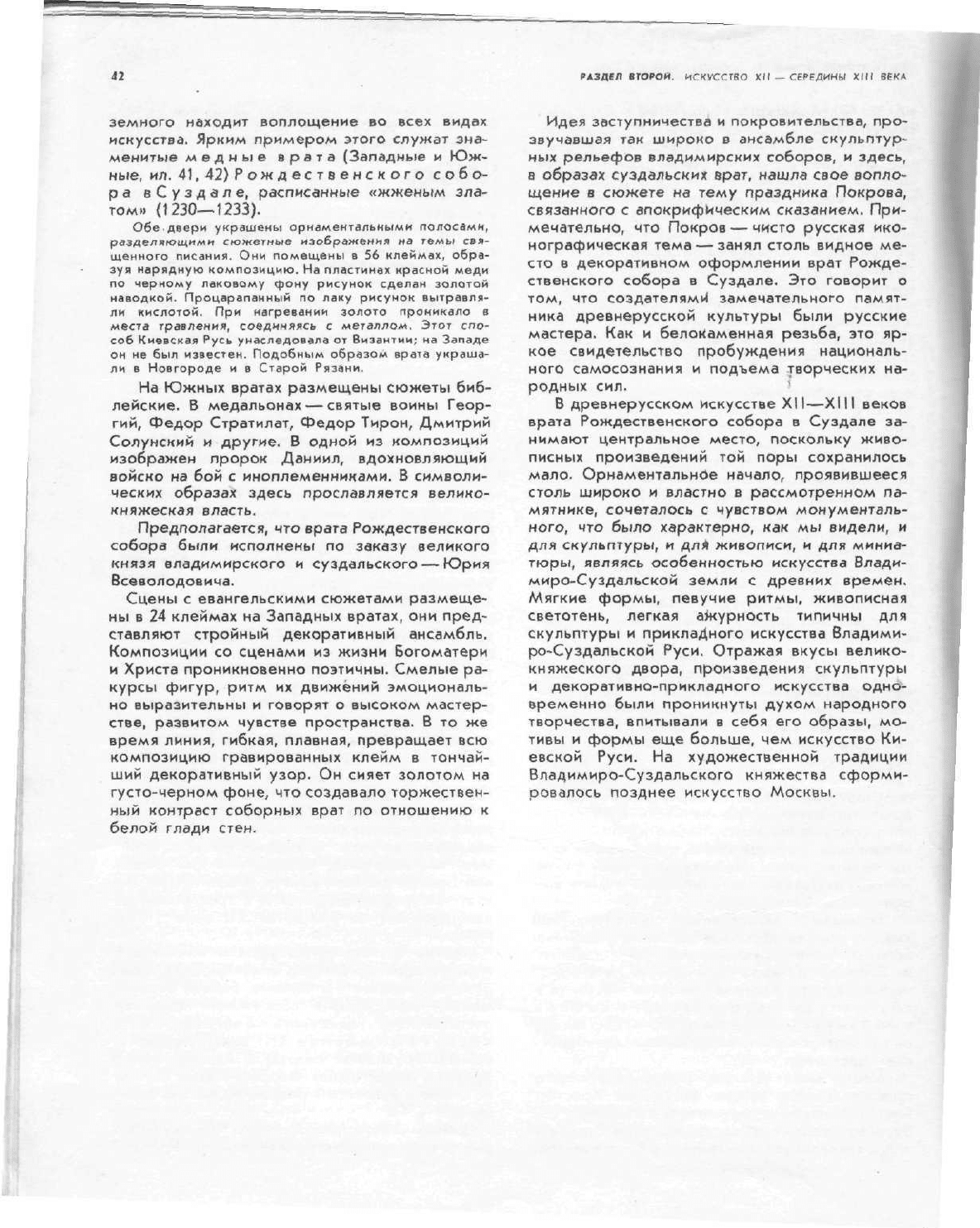
42 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ИСКУССТВО
XII—СЕРЕДИНЫ
XIII
ВЕКА
земного
находит
воплощение
во
всех
видах
искусства.
Ярким
примером
этого
служат
зна-
менитые
медные
врата
(Западные
и Юж-
ные, ил. 41, 42)
Рождественского
собо-
ра
вСуздале,
расписанные
«жженым
зла-
том»
(1230—1233).
Обе двери украшены орнаментальными полосами,
разделяющими сюжетные изображения на темы свя-
щенного писания. Они помещены в 56 клеймах, обра-
зуя нарядную композицию. На пластинах красной меди
по черному лаковому фону рисунок сделан золотой
наводкой.
Процарапанный по лаку рисунок вытравля-
ли кислотой. При нагревании золото проникало в
места травления, соединяясь с металлом. Этот спо-
соб
Киевская Русь унаследовала от Византии; на Западе
он не был известен. Подобным образом враге украша-
ли в Новгороде и в Старой Рязани.
На Южных вратах размещены сюжеты биб-
лейские.
В медальонах — святые воины Геор-
гий,
Федор Стратилат, Федор Тирон, Дмитрий
Солунский и другие. В одной из композиций
изображен пророк Даниил, вдохновляющий
войско
на бой с иноплеменниками. В символи-
ческих образах здесь прославляется велико-
княжеская власть.
Предполагается, что врата Рождественского
собора были исполнены по заказу великого
князя владимирского и суздальского — Юрия
Всеволодовича.
Сцены с евангельскими сюжетами размеще-
ны в 24 клеймах на Западных вратах, они пред-
ставляют стройный декоративный ансамбль.
Композиции
со сценами из жизни Богоматери
и Христа проникновенно поэтичны. Смелые ра-
курсы фигур, ритм их движений эмоциональ-
но выразительны и говорят о высоком мастер-
стве,
развитом чувстве пространства. В то же
время линия, гибкая, плавная, превращает всю
композицию
гравированных клейм в тончай-
ший декоративный узор. Он сияет золотом на
густо-черном фоне, что создавало торжествен-
ный контраст соборных врат по отношению к
белой глади стен.
Идея заступничества и покровительства, про-
звучавшая так широко в ансамбле скульптур-
ных рельефов владимирских соборов, и здесь,
в образах суздальских врат, нашла свое вопло-
щение в сюжете на тему праздника Покрова,
связанного с апокрифическим сказанием. При-
мечательно, что Покров — чисто русская ико-
нографическая тема—занял столь видное ме-
сто в декоративном оформлении врат Рожде-
ственского
собора в Суздале. Это говорит о
том,
что создателями замечательного памят-
ника древнерусской культуры были русские
мастера. Как и белокаменная резьба, это яр-
кое
свидетельство пробуждения националь-
ного
самосознания и подъема творческих на-
родных сил.
В древнерусском искусстве
XII—XIII
веков
врата Рождественского собора в Суздале за-
нимают центральное место, поскольку живо-
писных произведений той поры сохранилось
мало. Орнаментальное начало, проявившееся
столь широко и властно в рассмотренном па-
мятнике, сочеталось с чувством монументаль-
ного,
что было характерно, как мы видели, и
для скульптуры, и для живописи, и для миниа-
тюры,
являясь особенностью искусства Влади-
миро-Суз дальской земли с древних времен,
Мягкие
формы, певучие ритмы, живописная
светотень, легкая ажурность типичны для
скульптуры и прикладного искусства Владими-
ро-Суздальской Руси, Отражая вкусы велико-
княжеского
двора, произведения скульптуры
и декоративно-прикладного искусства одно-
временно были проникнуты духом народного
творчества, впитывали в себя его образы, мо-
тивы и формы еще больше, чем искусство Ки-
евской
Руси. На художественной традиции
Владимиро-Суздальского княжества сформи-
ровалось позднее искусство Москвы,
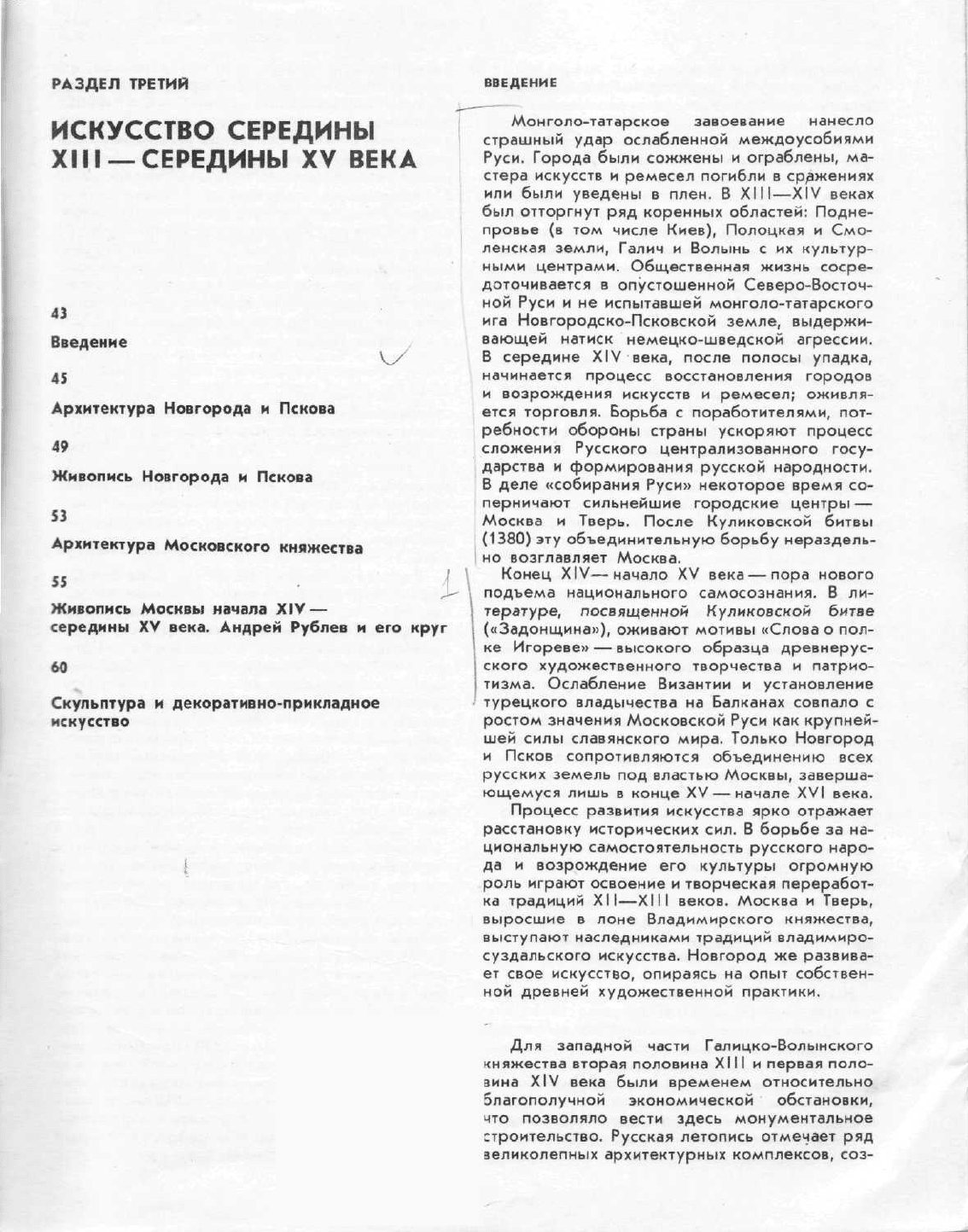
РАЗДЕЛ
ТРЕТИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ
XIII
—СЕРЕДИНЫ
XV
ВЕКА
43
Введение
W
45
Архитектура Новгорода
и
Пскова
49
Живопись Новгорода
и
Пскова
53
Архитектура Московского княжества
55
. I
Живопись
МОСКВЫ
начала XIV —
середины
XV
века. Андрей Рублев
и его
круг
60
Скульптура
и
декоративно-прикладное
искусство
Монголо-татарское завоевание нанесло
страшный удар ослабленной междоусобиями
Руси. Города были сожжены
и
ограблены,
ма-
стера искусств
и
ремесел погибли
в
сражениях
или были уведены
в
плен.
В XIII—XIV
веках
был отторгнут
ряд
коренных областей: Подне-
провье
(в том
числе Киев), Полоцкая
и Смо-
ленская земли,
Галич
и
Волынь
с их
культур-
ными центрами. Общественная жизнь сосре-
доточивается
в
опустошенной Северо-Восточ-
ной Руси
и не
испытавшей монголо-татарского
ига
Новгородско-Псковской земле, выдержи-
вающей натиск немецко-шведской агрессии.
В середине
XIV
века, после полосы упадка,
начинается процесс восстановления городов
и возрождения искусств
и
ремесел; оживля-
ется торговля. Борьба
с
поработителями,
пот-
ребности обороны страны ускоряют процесс
сложения Русского централизованного госу-
дарства
и
формирования русской народности.
В деле «собирания
Руси»
некоторое время
со-
перничают сильнейшие городские центры
—
Москва
и
Тверь. После Куликовской битвы
(1380)
эту
объединительную борьбу нераздель-
но возглавляет Москва.
Конец
XIV—начало
XV
века—пора нового
подъема национального самосознания.
В ли-
тературе, посвященной Куликовской битве
(«Задонщина»), оживают мотивы
«Слова
о пол-
ке
Игореве»
—
высокого образца древнерус-
ского
художественного творчества
и
патрио-
тизма.
Ослабление Византии
и
установление
турецкого владычества
на
Балканах совпало
с
ростом
значения Московской Руси
как
крупней-
шей силы славянского мира. Только Новгород
и Псков сопротивляются объединению всех
русских
земель
под
властью Москвы, заверша-
ющемуся лишь
в
конце
XV —
начале
XVI
века.
Процесс развития искусства ярко отражает
расстановку исторических сил.
В
борьбе
за на-
циональную самостоятельность русского наро-
да
и
возрождение
его
культуры огромную
роль играют освоение
и
творческая переработ-
ка
традиций
XII—XIII
веков. Москва
и
Тверь,
выросшие
в
лоне Владимирского княжества,
выступают наследниками традиций владимиро-
суздальского искусства. Новгород
же
развива-
ет свое искусство, опираясь
на
опыт собствен-
ной древней художественной практики.
Для западной части Галицко-Волынского
княжества вторая половина
XI11 и
первая поло-
вина
XIV
века были временем относительно
благополучной экономической обстановки,
что позволяло вести здесь монументальное
строительство. Русская летопись отмечает
ряд
великолепных архитектурных комплексов,
соз-
