Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты
Подождите немного. Документ загружается.

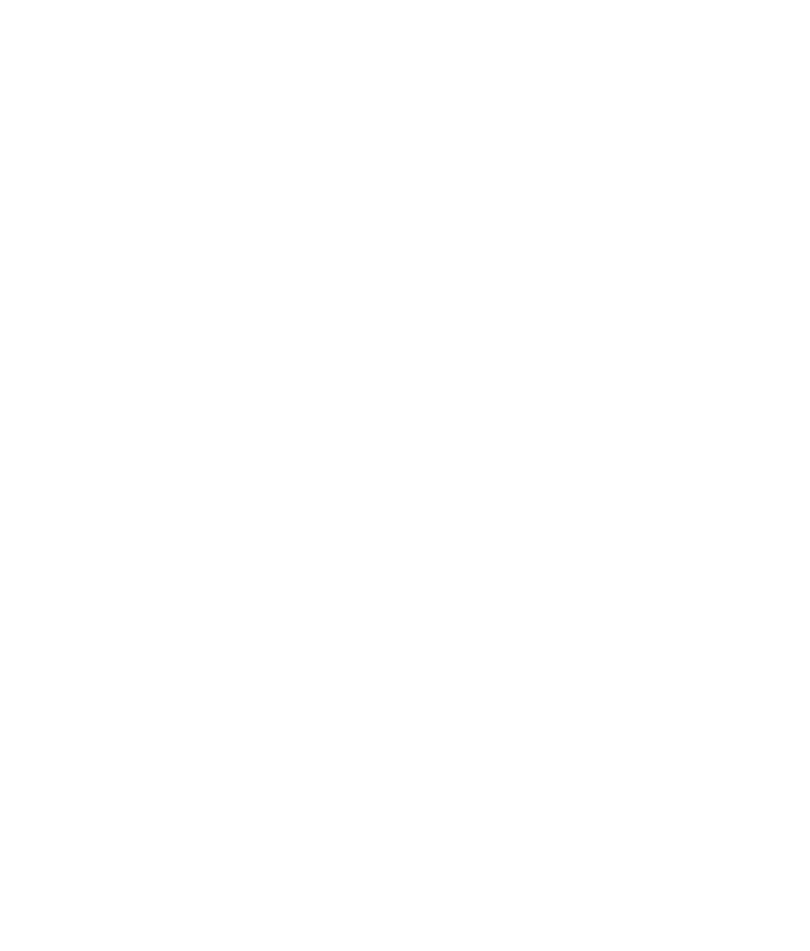
АКАДЕМИЯ НАУК СССР институт языкознания
А.Д.Швейцер
ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
статус
проблемы
аспекты
Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР В.Н. ЯРЦЕВА
МОСКВА "НАУКА" 1988

ОТ АВТОРА
В написанной в начале 70-х годов книге "Перевод и лингвистика" автор попытался наметить
некоторые пути разработки лингвистической теории перевода, ориентированной на перевод как
коммуникативный процесс, как процесс поиска решения, и показать перспективы, которые
открывали перед теорией перевода лингвистические течения, выдвинувшие на первый план изучение
языка в действии.
С тех пор у нас в стране и за рубежом наблюдалась значительная активизация научного
поиска в области изучения перевода. Появилось немало серьезных фундаментальных
исследований, в том числе и лингвистических, проливающих новый свет на сущность процесса
перевода и его закономерности. Теории перевода был посвящен ряд международных и национальных
конференций и симпозиумов, среди которых следует отметить Всесоюзную конференцию по теории
перевода, состоявшуюся в Москве в 1975 г., Международный симпозиум по контрастивной лингвистике
и теории перевода в Трире и Саарбрюкене в 1978 г., Международные конференции по теории перевода
в Лейпциге в 1981 и 1986 гг. Проблемы теории перевода обсуждались на XIV Международном
конгрессе лингвистов в Берлине (1987).
Мощным стимулом для активизации научных исследований в этой чрезвычайно важной,
интересной и еще до конца не познанной области послужили, с одной стороны, потребности
современного общества, в котором перевод играет все более значительную роль, а с другой —
новые достижения языкознания в таких областях, как лингвистика текста, синтаксическая
семантика, коммуникативная лингвистика, социо- и психолингвистика. Особое значение в создании
благоприятных условий для развития теории перевода имел поворот современного языкознания от
ориентации на имманентные свойства языка и на статические описания внутрисистемных отношений
к установке на раскрытие связей между языком и человеком, между языком и обществом, на выявление
динамики функционирования языка в реальных ситуациях общения.
В то же время и теория перевода, расширив свои горизонты под влиянием названных
направлений, в свою очередь обогатила языкознание новыми данными, расширившими наши
представления о природе и функционировании языка. В самом деле, будучи уникальной сферой
речевой деятельности, где соприкасаются друг с другом не только разные языки, но и разные культуры,
а порой и разные цивилизации, перевод
является естественной экспериментальной лабораторией, в которой многие
лингвистические теории подвергаются "проверке на прочность".
Вместе с тем надо признать, что богатейшая практика перевода еще ждет своего
теоретического осмысления. Нами сделаны лишь первые, хотя и многообещающие, шаги в познании
процесса перевода. По-прежнему идут споры вокруг таких фундаментальных проблем, как статус
теории перевода, сущность перевода, определение его границ, или, иными словами, четкое
разграничение перевода и различных видов квазипереводческой деятельности, переводимость,
адекватность и др. Эти проблемы, которые волновали пионеров теории перевода еще в 40 — 50-е
годы, за последнее время как бы отошли на задний план в силу повышенного интереса к
процессуальным и семиотическим аспектам перевода, но из этого не следует, что они утратили свою
актуальность.
Сейчас в центре внимания теоретиков перевода оказались такие важные вопросы, как
эквивалентность и ее типы, процедуры и стратегия перевода, перевод как коммуникативный акт,
прагматика перевода. При этом далеко не всегда удается выявить взаимосвязь между этими
аспектами перевода и их отношение к названной выше традиционной проблематике. Именно эту

цель преследует настоящая книга, которая, разумеется, не может претендовать на полное и
исчерпывающее освещение поставленных в ней вопросов, а может лишь — в лучшем случае —
предложить ряд ориентировочных решений и стимулировать научный поиск в намеченных
направлениях.
В книге развивается ряд положений, впервые выдвинутых в "Переводе и лингвистике" (М.,
1973), в частности положения о функциональном инварианте перевода, о "методе проб и ошибок"
как способе реализации переводческого решения, о функциональных доминантах текста как
определяющем факторе стратегии перевода, о динамической модели перевода, о иерархии
"фильтров", определяющих выбор варианта, о вероятностном характере переводческих
закономерностей.
Вместе с тем в книге рассматривается и ряд проблем, либо вовсе не получивших освещения,
либо затронутых лишь вскользь в "Переводе и лингвистике". К ним относятся уровни
эквивалентности, переводимость, социальная обусловленность перевода, нормы перевода, перевод в
свете теории текста и др.
Книга посвящена общетеоретическим проблемам перевода, которые иллюстрируются в
основном переводами с английского языка на русский и с русского на английский. Но при этом книга
не ориентирована на частную переводческую проблематику, обусловленную спецификой русского и
английского языков. Точно так же она не ограничена каким-либо конкретным жанром
перевода. Многочисленные примеры из художественного перевода приводятся в ней лишь с
целью выявить на их материале общие закономерности перевода, поскольку художественный перевод
с широтой его функционального диапазона и с разнообразием используемых в нем языковых средств
как нельзя лучше соответствует этой цели.
Книга состоит из шести глав, в которых рассматриваются различные аспекты и проблемы
переводческой деятельности. Первая глава "Статус теории перевода" посвящена таким вопросам, как
предмет теории перевода, ее отношение к другим дисциплинам — социолингвистике,
психолингвистике, лингвистике текста и семиотике. Во второй главе "Сущность перевода" перевод
рассматривается как особый случай межъязыковой коммуникации, выявляются дифференциальные
признаки, отличающие его от других видов межъязыкоюи коммуникации, описываются его языковые и
внеязыковые аспекты в их взаимодействии, раскрывается механизм детерминации перевода
языковыми и социокультурными факторами и, наконец, дается определение перевода Третья глава
"Эквивалентность, адекватность, переводимость" посвящена раскрытию сущности взаимосвязанных
основополагающих категорий теории перевода. В ней устанавливаются различные уровни (типы)
эквивалентности в их иерархии, выясняется соотношение понятий "эквивалентность" и
"адекватность", различие между адекватным, буквальным и вольным переводом, выдвигается тезис о
релятивном характере переводимости. В четвертой главе "Семантические аспекты перевода"
выясняется отношение между понятиями "значение" и "смысл" и определяется роль смысла в
процессе перевода. Особое внимание уделяется в ней описанию мотивов и типов переводческих
трансформаций на компонентном и референциальном подуровнях семантической
эквивалентности. В пятой главе "Прагматические аспекты перевода" рассматривается роль
различных прагматических отношений в процессе межъязыковой коммуникации, влияние на этот
процесс таких прагматических факторов, как коммуникативная установка отправителя,
установка на получателя конечного текста, коммуникативная интенция переводчика. В шестой главе
"Текст и перевод" конкретизируются те теоретические положения, которые рассматриваются в главе
первой в связи с вопросом об отношении теории перевода к лингвистике текста Основное внимание
уделено кругу вопросов, относящихся к проблеме связности текста, а также к стилистике текста. В
качестве материала использованы переводы газетно-публицистических текстов. Основные итоги
исследования подводятся в "Заключении".
Книга задумана как обобщающая, дискуссионная и поисковая. Именно под этим углом зрения
рассматриваются в ней нынешний статус, проблемы и различные аспекты теории перевода
Оценивая современное состояние теории перевода, автор в то же время стремился предложить и
обосновать собственную трактовку стоящих перед ней проблем на конкретном языковом
материале, наметить пути их решения. Автор надеется, что книга будет способствовать
дальнейшему продвижению научной дискуссии, которая ведется по фундаментальным
проблемам теории перевода

ЛИТЕРАТУРА
Арутюнова Н.Д.. Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. М.:
Прогресс, 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика.
Ахманова О. С. Словарьлингвистическихтерминов. М., 1966.
БархударовЛ.С. Язык и перевод. М.: Междунар. отношения, 1975.
EapxvdapoeJI.C. Что нужно знать переводчику V Тетради переводчика. М.: Междунар. отношения, 1978. Вып. 15.
Бархударов Л. С. Контекстуальное значение и перевод // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. Тореза М., 1984. Вып. 238.
Белинский В. Г. Из статьи "Сочинения Александра Пушкина: статья вторая" // Зарубежная поэзия в переводах
В.А.Жуковского. М.: Радуга, 1985. Т. 2.
Бенвенист Э. Общая лингвистика: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1974.
Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Л.: Наука, 1978.
Бондарко А.В. Семантика предела'/ ВЯ. 1986. № 1.
Ванников Ю.В. Типы научно-технических текстов и их лингвистические особенности. М., 1985.
Вежбицка А. Речевые акты, / Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. 15: Лингвистическая
проблематика.
Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.: Учпедгиз, 1947.
Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Изд-во МГУ, 1978.
Влахов С, Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Междунар. отношения, 1980.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956.
Гак ВТ. "Коверкание" или "подделка"? (Об одном опыте перевода варваризмов) // Тетради переводчика. М.: Междунар.
отношения. 1966. Вып. 3.
Гак В.Г. Сопоставительная лексикология: На материале французского и русского языков. М.: Междунар. отношения, 1977.
Гак В.Г., Льет Ю.И. Курс перевода: Французский язык. М.: Междунар. отношения, 1970.
Галь Н. Слово живое и мертвое. М.: Книга, 1975.
Гальперин И.Р. Перевод и стилистика / / Теория и методика учебного перевода. М., 1950.
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
Демурова Н. Голос и скрипка (к переводу эксцентричных сказок Льюиса Кэрролла) // Мастерство перевода. М.: Сов.
писатель, 1970. № 7.
Долинин К.А. Стилистика французского языка. Л.: Просвещение, 1978.
Жирмунский В. М. Из книги "Гете в русской литературе" // Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. М.: Радуга, 1985.
Т. 2.
Жуковский В.А. Разбор трагедии Кребильона "Радамаст и Зенобия", переведенной СВысоковатовым
//Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. М.: Радуга, 1985. Т. 2.
Кашкин И. Для читателя-современника: Статьи и исследования. М.: Сов. писатель, 1977.
Климзо Б.Н. Перевод патентов: Особенности структуры, языка и перевода описаний
изобретений, прилагаемых к патентам США и Великобритании / МГПИИЯ им. Тореза. М.,
1976
Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Междунар. отношения, 1980.
Копанев П. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск, 1972.
Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М.: Изд-во МГУ, 1971.
Кречмар А. О понятийном аппарате социологической теории личности // Социальные исследования: Теория и методы.
М.: Наука, 1970.
Кунин А.В. Предисловие / /Англо-русский фразеологический словарь.М.: Рус. яз., 1984.
Латышев Л.К. Проблема эквивалентности в переводе: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1983,
Левин Л.К. Берне на русском языке // Берне. Стихотворения. М.: Радуга, 1982.
Левицкий Р. О принципе функциональной адекватности перевода // Сопоставително езикознание. София, 1984. IX, 3.
Левый И. Искусство перевода. М.: Сов. писатель, 1974.
Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969.
Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М.: Наука, 1985.
Николаева Т. М. Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы / / Новое в зарубежной лингвистике. М.:
Прогресс, 1978. Вып. 8: Лингвистика текста.
Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высш. ппс, 1980.
РевзинНН,РозенцвейгВ.Ю. Основы общего и машинного переводам.: Высш. ппс, 1963.
Реформатский АЛ. Лингвистические вопросы перевода // Иностр. языки в ппс 1952. № 6.
Рецкер Я. И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык / / Теория и методика учебного перевода. М., 1950.
РецкерЯМ. Теория перевода и переводческая практика. М.: Междунар. отношения, 1974.
Романовская Н.В. Экспрессивно окрашенные глаголы в газетном стиле современного английского языка: Автореф.
дис... канд. филол. наук. М., 1974.
Россельс В.Л. Заботы переводчика классики // Тетради переводчика. М.: Междунар. отношения, 1967. Вып. 4.
Сеидова 'Г. Г. Семантически неполные атрибутивные словосочетания в английском языке и трансформации при переводе их
на русский язык Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1976.
Селиверстова ОН. Экзистенциальность и посессивность в языке и речи: Автореф. дис ... докт. филол. наук. М., 1982.
Смиртщкий AM. Морфология английского языка. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1959.
СоболевЛ. Н Омере точности в переводе//Теория и методика учебного перевода. М., 1950.
Супрун А.Е. Экзотическая лексика // НДВШ. Филол. науки. 1958. № 2..
Сыроваткин С.Н. Теория перевода в аспекте функциональной лингвистики. Калинин: Изд-во Калининского ун-та, 1978.
Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высш. ппс, 1983.
Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. Л.: Сов. писатель, 1983а.
Хзллидей М.А.К. Место "функциональной перспективы предложения" в системе лингвистического описания //
Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. 8: Лингвистика текста.
Чернов Г. В. К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистики на английский
язык // Учен. зап. IМГПИИЯ. М., 1958. XVI.
Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода. М.: Междунар. отношения, 1978.
Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. М.: Междунар. отношения, 1976.
Чесноков П. В. Неогумбольдтианство // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977.
Чуковский КМ. Искусство перевода. М.; Л.: Academia, 1936.
Шаткое Г. В. Перевод русской безэквивалентной лексики на норвежский язык: Автореф. дис ... канд. филол. наук. М., 1952.
Швейцер АД. Перевод и лингвистика. М.: Воениздат, 1973.

Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. М.: Наука, 1976.
Швейцер АД. Социальная дифференциация английского языка в США. М.: Наука, 1983.
Швейцер АД. Социолингвистические основы теории перевода // ВЯ. 1985. Мв 5.
Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. М.: Междунар. отношения, 1979.
Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.
Ярцева В. Н. Проблема связи языка и общества в современном зарубежном языкознании. М.: Наука, 1968.
Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика // Язык и общество. М.: Наука, 1981.
Ярцева В.Н. История английского литературного языка IX—XV вв. М.: Наука, 1985.
Austin J. How to do things with words. Cambridge, 1962.
BadeyR. W., Robinson J.L. Varieties of present-day Enghsh. New York, 1973.
Butrkdmm W. Aufgeklarte Emsprachigkeit. Heidelberg, 1973.
CaifonlJA. linguistic theory of translation. Oxford, 1965.
Cosenu b. Kontrastive Linguistik und Ubersetzungstheorie ihr Verhaltnis zueinander // Kontrastive Linguistik und
Ubersetzungswissenschaft. Munchen, 1981.
Friedrich P. Social context and semantic feature // Directions m sociolmguistics the ethnograph of communication.
New York, 1972.
Gorle'e D.L.Translation theory and the semiotics of games and decisions // Translation studies m Scandmavia. Lund,
1986.
Guchman M.M. [Гухман M M ] Die Ebenen der Satzanalyse und die Kategorie des Genus verbi // Satzstruktur
und genus verbi. Berlin, 1976.
Halliday M.A.K. Language as social semiotic The social Interpretation of language and meanmg. London, 1979.
Hansen KTrends and problems m contrastive linguistics // Zeitschrift f u r Anglistik und Amerikanistik. 1985. Vol. 33,
N 2.
Hartmann R.R.K. Contrastive textology and translation // Kontrastive Linguistik und Ubersetzungswissenschaft.
Munchen, 1981.
Haskovec S., First J. Introduction to news agency journalism. Prague, 1972.
Heyn H.C., Brier MJ. Writing for newspapers and news Services. New York, 1969.
Hocken Ch. The state of the art. The Hague, 1970.
Hymes D. On communicative competence // Sociolmguistics. Harmondsworth, 1972.
Ivir V.Contrastmg via translation // The Yugoslav Serbo-Croatian-English Contrastive Project Studies. 1969. 1.
Mr V. The communicative model of translation m relation to contrastive analysis // Kontrastive Linguistik und
Ubersetzungswissenschaft. Munchen, 1981.
Jdger G. Translation und Translationslmguistik. Halle (Saale), 1975.
Jdger G. Die sprachlichen Bedeutungen - das zentrale Problem der Translation und ihrer wissenschaftlichen
Beschreibung // Ubersetzungswissenschaftliche Beitrage 9. Leipzig, 1986.
Jakobson R. Linguistics and poetics // Style m language. Cambridge (Mass.), 1966.
Kade O.Kommunikationswissenschafthche Probleme der Ubersetzung// Grundfragen der
Ubersetzungswissenschaft .Beihefte zur Zeitschrift Fremdsprachen. Leipzig, 1968.
Kade O.Das Problem der Ubersetzbarkeit aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Erkentnistheone //Linguistische
Arbeitsberichte. Leipzig, 1971. [N] 4.
Kade O. Zu einigen Grundpositionen bei der theoretischen Erklarung der Sprachmittlung als menschlicher
Tatigkeit // Ubersetzungswissenschaftliche Beitrage. Leipzig, 1977. [Nl 1.
Roller W. Einfuhrung m die Ubersetzungswissenschaft. Heidelberg, 1979,2. Aus. 1983.
Levy I. Translation as a decision process // To honour Roman Jakobson. The Hague, 1967. Vol. 2.
Longman Dictionary of Contemporary Enghsh. Harlow, London, 1978.
Morris С Wntmg m the general theory of signs. The Hague, 1971.
Neubert A. Ubersetzungswissenschaft in soziolmguistischer Sicht // Ubersetzungswissenschaftliche Beitrage 1.
Leipzig, 1977.
Neubert A.Text and translation // Ubersetzungswissenschaftliche Beitrage 8. Leipzig, 1985.
Nida E.A. Linguistics and ethnology in translation problems // Language m culture and society. New York, 1964.
Nida E.A. Language structure and translation. Stanford, 1975.
Nida E. A., Taber С The theory and practice of translation. Leiden, 1969.
OettwgerA.G. Automatic language translation. Cambridge (Mass.), 1960.
Reiss K. Moglichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik Kategonen und Kriterien fur eine sachgerechte Beurteilung
von Ubersetzungen. Munchen, 1971.
Ren,s К Zeichen oder Anzeichen
9
Probleme der AS-Textanalyse in Blick auf die Uber Setzung // Semiotik und
Ubersetzen. Tubingen, 1980.
Ren,:, K., VermeerHJ. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheone. Tubingen, 1984.
Savory Г. The art of translation. Boston, 1968
Searle J. Speech acts An essay in the philosophy of language. New York, 1969.
Seleskovitch D. L'Interprfete dans les Conferences intemationales // Proble'mes de language et de communication.
Paris, 1968.
Sellers L. Domg it m style A manual for journalists, P.R. men and copywriters. Oxford, 1968.
Stoke R. Grundlagen der Textiibersetzung. Heidelberg, 1982.
Swan M. Practical English usage. M., 1984.
Tommola J. Translation as a psycholmguistic process // Translation studies in Scandmavia. Lund, 1986.
Toury G. Communication m translated texts A semiotic approach // Semiotik und Ubersetzen. Tubingen, 1980.
Toury G. Contrastive linguistics and translation studies towards a tripartite model / / Kontrastive Linguistik und
Ubersetzungswissenschaft. Munchen. 1981.
VinayJ.P., DarbeinetJ. Stihstique compare'e de fran
A
ais et de l'anglais. Paris, 1958.
WeisgerberL. Grundzuge der inhaltsbezogenen Grammatik. Dusseldorf, 1971.
Wills W. Ubersetzungswissenschaft Probleme und Methoden. Stuttgart, 1977.
Wills W. Semiotik und Ubersetzungswissenschaft // Semiotik und Ubersetzen. Tubingen, 1980.
Winter W. Impossibihtes of translation // The craft and context of translation. Austm, 1961.

ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора...........................................................................................................................................................................................3
Глава I. Статус теории перевода 6
Предмет теории перевода 6
Теория перевода и контрастивная лингвистика 10
Теория перевода и социолингвистика 15
Теория перевода и психолингвистика 21
Теория перевода и лингвистика текста 28
Теория перевода и семиотика 36
Глава П. Сущность перевода 42
Перевод как акт межъязыковой коммуникации 42
Языковые и внеязыковые аспекты перевода 48
Определение перевода 67
Глава 111. Эквивалентность,адекватность,переводимость_ 76
Уровни и виды эквивалентности 76
Эквивалентность и адекватность 92
Переводимость 99
Глава IV. Семантические аспекты перевода 111
Значение и смысл 111
Мотивы и типы переводческих трансформаций на компонентном подуровне семантической
эквивалентности 118
Мотивы и типы переводческих трансформаций на референциальном подуровне
семантической эквивалентности 123
Г л ав а V. Прагматические аспекты перевода 145
Прагматические отношения в переводе 145
Коммуникативная интенция отправителя 147
Установка на получателя 152
Коммуникативная установка переводчика 172
Глава VI. Текстиперевод 178
Связность текста и перевод 178
Стилистика текста и перевод 183
Заключение 205
Литература 208
Summary 212
Научное издание
Швейцер Александр Давидович
ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА: статус, проблемы, аспекты
Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР
Редактор издательства В. С. Матюхшш Художник А.В. Денисова
Художественный редактор И.Д. Богачев Технический редактор М.Н. Серегина
Корректор ЭЛ,. Алексеева
Набор выполнен в издательстве
на электронной фотонаборной системе
ИБ№ 38349
Подписано к печати 30.06.88. Формат 60 х 90 1/16 Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Тайме. Печать офсетная. Усл.печл. 13,5. Усл.кр.-отт.13,9 Уч.-изд.л. 15,6.
Тираж 4100 экз. Тип. зак. 311 Цена 1р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука" 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., д, 90 Ордена Трудового Красного Знамени 1-я
типография издательства "Наука" 1999034, Ленинград В-34,9-я линия, 12

Глава I
СТАТУС ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА.
ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
Играя важную роль в жизни общества, перевод издавна привлекал к себе внимание
литературоведов, психологов, этнографов и лингвистов. Различные, порой взаимоисключающие,
взгляды на сущность перевода и его принципы, переводимость прослеживаются на разных
этапах развития человеческой мысли [Федоров, 1983; Копанев, 1972]. Вместе с тем попытки создать
научную дисциплину, нацеленную на описание и анализ этого сложного и противоречивого
феномена, имеют сравнительно непродолжительную историю.
В свое время видный советский лингвист А.А.Реформатский дал отрицательный ответ на
вопрос о возможности создания "науки о переводе", аргументируя это тем, что поскольку практика
перевода пользуется данными различных отраслей науки о языке, она не может иметь
собственной теории [Реформатский, 1952].
С тех пор прошло более 30 лет. Теория перевода прочно утвердилась как научная дисциплина
Этому способствовали осознанная общественная потребность в научном обобщении переводческой
деятельности, развитие языкознания, теории коммуникации и других отраслей знания, обеспечивших
научную базу для изучения перевода, и, наконец, появление серьезных переводческих исследований,
убедительно доказавших возможность и перспективность создания научного направления для
выявления сущности перевода как процесса межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Вместе с тем, как отмечалось выше, ряд принципиальных вопросов, ответ на которые во
многом определяет статус теории перевода, до сих пор является предметом споров. К их числу
относится вопрос о предмете теории перевода. Так, И.И.Ревзин и В.Ю.Розенцвейг считают, что таковым
является "сам процесс перевода (das Ubersetzen, translating), при котором совершается переход
от одной системы знаков к другой и который может быть описан в семиотических терминах"
[Ревзин, Розенцвейг, 1963,20— 21]. При этом проводится принципиальное разграничение процесса
перевода и его результата (die Ubersetzung, translation). Нецелесообразность включения
последнего в предмет перевода аргументируется тем, что ориентированная на результат процесса
перевода традиционная теория перевода строилась как дисциплина нормативная, главной целью
которой было установление результата процесса перевода и выработка критериев оценки его
качества. В то же время "наука,
стремящаяся описать перевод как процесс, должна быть не нормативной, а
теоретической" [там же-, 21].
Думается, что столь резкое противопоставление теоретического и нормативного подхода
едва ли оправданно. По-видимому, оно в какой-то мере отражает свойственное некоторым
направлениям структурного языкознания негативное отношение к учету аксиологических
аспектов языка. Исключение из рассмотрения результатов процесса перевода неправомерно
сужает предмет теории перевода и едва ли способствует выявлению его сущности. Не следует
забывать, что перевод представляет собой целенаправленную деятельность, отвечающую
определенным требованиям и нормам и ориентированную на достижение определенного
результата. Эти нормы отражают ценностную ориентацию переводчика, без учета которой
нельзя удовлетворительно объяснить логику переводческих решений. Поэтому можно в целом
согласиться с В.Н. Комиссаровым, который, отмечая известную нечеткость этих норм,
лежащую в основе таких используемых в переводческой практике оценочных понятий, как
"адекватный перевод", "буквальный перевод" и "вольный перевод", в то же время приходит к
выводу о том, что "противоречивость и недостаточная конкретность правил и принципов,
формулируемых в некоторых работах по теории перевода, не означает принципиальной
ошибочности нормативного подхода к переводческой деятельности" [Комиссаров, 1980,150].
По-видимому, едва ли возможно построить теоретическую модель перевода, не
располагая его идеальной схемой с установкой на определенные результаты. Вопрос о
переводческой норме будет подробно рассмотрен ниже. Сейчас же отметим, что
исчерпывающий, всесторонний анализ перевода возможен лишь на основе учета как его
процессуальной стороны, так и его результатов, или, иными словами, на основе сочетания
динамического и статического подходов. Отсюда следует, что традиционный переводческий
анализ, основанный на сопоставлении исходного и переводного текстов, имеет такое же право на

существование, как и анализ, прослеживающий процесс перевода в его динамике.
В то же время сведение задач теории перевода к сопоставлению текстов также едва ли
оправданно. Поэтому вряд ли можно согласиться с Л.С. Бархударовым, определяющим
сущность лингвистической теории перевода как "сопоставительное изучение семантически
тождественных разноязычных текстов" [Бархударов, 1975,28].
Выделяя предмет теории перевода и отграничивая его от предметной области смежных
дисциплин, И.И.Ревзин и В.Ю.Розенцвейг приходят к выводу о том, что теория перевода как
наука с собственной проблематикой, с собственными категориями и методами, должна
строиться преимущественно дедуктивно [Ревзин, Розенцвейг, 1963, 341. Разумеется, дедуктивный
подход к анализу перевода, т.е. подход, при котором частные положения выводятся из общих
оснований (из общих суждений, правил, законов), вполне возможен и закономерен, хотя
возможность теоретического осмысления перевода путем чистой дедукции представляется
крайне сомнительной. В этом отношении прав О.Каде, исходящий из того, что чистой дедукции в
математическом смысле не может
быть в эмпирических науках, к которым относится теория перевода [Kade, 1968].
В цитированной выше работе Л.С. Бархударов, определяя перевод как процесс
преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом
языке, приходит к выводу о том, что перевод "имеет дело не с системами языков, а с
конкретными речевыми произведениями, т.е. с текстами" [Бархударов, 1975, 27]. С этим
положением высказывает свое несогласие В.Н.Комиссаров, усматривая в нем подразумеваемую
"независимость" или, во всяком случае, "периферийность" перевода по отношению к языку.
В.Н.Комиссаров не отрицает того, что переводчик действительно имеет дело с речевыми
произведениями. "Но если языковед будет рассматривать перевод лишь с позиций переводчика, —
пишет он, — он рискует пройти мимо существенных черт этого явления, которые включают его в
предмет языкознания, задача которого состоит в том, чтобы в наблюдаемых фактах речи обнаружить
проявление системы языка" [Комиссаров, 1980,27]. Отсюда делается вывод о том, что для
лингвистического анализа перевода тексты и речевой процесс являются лишь исходным
объектом исследования [там же, 30].
В цитированном выше утверждении прослеживается эхо тех теоретических постулатов,
которые в прошлом определяли направление лингвистической мысли. Согласно этим постулатам
в соссюровской дихотомии "langue—parole" лишь первый элемент, обладающий чертами
системной и структурной организации, является объектом лингвистического анализа.
С тех пор в методологической ориентации языкознания произошли существенные
изменения. Направление "от речевого материала к языковой системе" перестало быть
единственно возможным направлением лингвистического исследования. Более того, наметился
заметный сдвиг в сторону изучения речи как таковой, ставшей предметом исследования в
ряде направлений современного языкознания. Именно эти направления открыли новые
перспективы перед теорией перевода. Поэтому Л.С. Бархударов был, на наш взгляд, совершенно
прав, увидев тесную связь между теорией перевода и такими лингвистическими
дисциплинами и течениями, перешедшими от изучения языка как абстрактной системы
к изучению функционирования языка в речи, как психолингвистика, коммуникативный
синтаксис, лингвистика текста [Бархударов, 1975,28].
Исследуя перевод как особый вид речевой коммуникации, теория перевода не
ограничивается анализом его языкового механизма. Ведь перевод — это не только
взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. В переводе находят свое отражение
ситуация порождения исходного текста и ситуация перевода. Едва ли удастся адекватно
описать процесс перевода, не учитывая того, что он осуществляется не идеализированным
конструктом, а человеком, ценностная и психологическая ориентация которого неизбежно
сказывается на конечном результате. Именно поэтому в предмет развиваемой в данной книге
теории перевода входит процесс перевода в широком социокультурном контексте с учетом
влияющих на него внеязыковых факторов — его социальных, культурных и психологических
детерминантов. Без учета послед
них едва ли возможно адекватное теоретическое описание перевода и раскрытие его сущности.
В число компонентов переводческой деятельности, моделируемой в теории перевода, входят
"соприкасающиеся" друг с другом тексты.
Односторонняя ориентация лишь на один из компонентов, подчинение ему всех остальных
смещает перспективу анализа и неизбежно ведет к недооценке некоторых факторов, влияющих на перевод.
Так, Г.Тури, справедливо критикуя некоторые традиционные варианты теории перевода за одностороннюю
ориентацию на исходный текст (соответствие этому тексту рассматривается как главная и определяющая
черта процесса перевода), предлагает в то же время иной подход, ориентированный на тексты перевода, на
лежащие в их основе традиции и нормы [Гошу, 1980; 1981]. Думается, что этот подход не менее уязвим,
чем подход, ориентированный на исходный текст.
В заключение остановимся на структуре теории перевода. Она подразделяется на общую теорию,
рассматривающую общие закономерности перевода независимо от его жанровой специфики, условий его
осуществления и особенностей, определяемых соотношением тех или иных конкретных языков, и частные
теории. Последние существуют в трех измерениях. Прежде всего, среди них выделяются дисциплины,
ориентированные на тот или иной жанр или тип текстов (художественный, научно-технический,

публицистический перевод и др.). Следующую группу составляют дисциплины, ориентированные на
условия и способ осуществления перевода (устный последовательный, синхронный, двусторонний перевод
и др.). Наконец, еще одной разновидностью частных теорий является та, которая ограничена той или иной
парой языков (перевод с русского языка на английский, с немецкого на французский и тд.).
Между общей и частными теориями существует тесное взаимодействие. Общая теория создает
понятийный аппарат для описания перевода, раскрывает его общие закономерности и инвариантные черты,
тем самым создавая концептуальную базу для построения частных теорий перевода. Что касается
последних, то они, выявляя конкретные жанровые, языковые, культурные и психологические
детерминанты процесса перевода, вносят существенные уточнения в данные общей теории и дают ей
материал для обобщения.
Как отмечалось выше, в настоящей книге предлагается вариант общей теории перевода.
Рассматриваемые в ней проблемы (сущность перевода, эквивалентность, переводимость, нормы перевода и
др.) и составляют предметную область этой теории. Решая эти и другие вопросы, теория перевода
поддерживает тесную связь с другими языковыми и неязыковыми дисциплинами. Характеристике этих
связей посвящены следующие разделы главы.
каждая из этих дисциплин утверждает свою автономию, а с другой взаимодействие между
ними становится все более тесным. Опираясь на данные контрастивной лингвистики, теория
перевода прослеживает влияние соотношения языков (на уровне структурного типа, системы и
нормы) на процесс перевода. В свою очередь, перевод оказывает неоценимую услугу контрастивной
лингвистике, будучи единственным источником, из которого извлекается tertium comparationis —
основа формальных соответствий [там же, 216]. Более того, широкое привлечение данных теории
перевода открывает новые перспективы перед контрастивным анализом. Так, например, по
мнению КХансена, если в будущем контрастивная лингвистика будет ориентироваться не
только на абстрактный уровень языковой системы, но и на конкретный уровень языкового узуса,
ей придется дополнить используемое ею понятие функциональной эквивалентности (т.е.
эквивалентности на уровне системы) выработанным в теории перевода понятием
коммуникативной эквивалентности (т.е. эквивалентности на уровне текстов с учетом их
коммуникативного эффекта) [Hansen, 1985,127]. 10
Э.Косериу, несомненно, прав, когда считает, что системно-структурные и типологические
сопоставления языков могут иметь лишь ограниченное приложение к переводу. Прав он и в том,
что к теории перевода ближе всего именно та отрасль контрастивной лингвистики, которая
ориентирована на язык в действии. Именно эта отрасль обнаруживает наиболее тесные
двусторонние связи с теорией перевода. Подобно последней, она имеет дело с речевыми
реализациями языковой структуры, с областью функционирования языка в речи, и, подобно
частной теории перевода, охватывающей два языка, она однонаправленна (например,
проблема нахождения соответствий деепричастию актуальна лишь для перевода с русского языка
и для контрастивной лингвистики, исходным языком которой является русский).
Вместе с тем едва ли можно согласиться с утверждением, согласно которому
ориентированная на норму и узус контрастивная лингвистика приравнивается к теории перевода.
Независимо от того, какой аспект языка — его структурный тип, система, норма или узус —
оказывается в фокусе сопоставительного анализа, контрастивная лингвистика всегда нацелена на
язык, на конкретную языковую пару, подвергаемую сопоставительному анализу. Целью ее является
синхронное сопоставление языков, выявление их общих и различительных черт на основе единого
метаязыка, выступающего в качестве tertium comparationis, или одного из исследуемых языков,
выступающего в качестве эталона для сопоставления.
Что же касается теории перевода, то ее предметом, как отмечалось выше, является
перевод как специфический вид межъязыковой коммуникации, или, в терминах лейпцигской
школы теории перевода, "языкового посредничества" (Sprachmittlung), а целью — выявление
сущности перевода, его механизмов, способов его реализации, влияющих на него внутриязыковых
и внеязыковых факторов и регулирующих его норм. Используя некоторые методы,
заимствованные из других языковедческих дисциплин (например, компонентный анализ), теория
перевода в то же время разрабатывает и свои собственные методы описания и анализа процесса
перевода. К ним относятся некоторые методы моделирования перевода — модель
"динамической эквивалентности" Ю.Найды [Nida, Taber, 1969], коммуникативные модели
О.Каде [Kade, 1968] и АЛоповича [Попович, 1980], методы переводческого эксперимента
[Рецкер, 1974,63-75] и др.
Исследуя соотношение между функциональными единицами языка А и языка В,
контрастивная лингвистика создает необходимый фундамент для построения теории перевода. В
самом деле, многие переводческие трансформации, составляющие "технологию" перевода,
восходят в конечном счете к функционально-структурным расхождениям между
"сталкивающимися" друг с другом в процессе перевода языками. Между данными контрастивной
лингвистики и данными теории перевода во многих случаях наблюдается каузальная связь. При
этом контрастивная лингвистика в ряде случаев отвечает на вопрос о том, почему в переводе
осуществляется та или иная операция. Так, в английском языке для обозначения движения часто

используется глагол, содержащий сопутствующий движению признак — шум, вибрацию и т.п. В
русском
11
языке этот сопутствующий признак, как правило, описывается с помощью глагола
движения в сочетании с наречием, предложно-именным сочетанием или деепричастием. Ср.
следующий пример из перевода на английский язык рассказа МЮЛермонтова "Фаталист":... все
глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому
тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно — With bated breath and eyes expressive of
terror and a vague curiosity, we glanced from the pistol to the fateful ace which was now slowly
fluttering downwards.
Отмеченное расхождение в структуре английской и русской фраз, отражающих одну и ту
же предметную ситуацию, служит причиной переводческой трансформации, связанной с
перераспределением семантических компонентов: русский глагол в сочетании с
деепричастием ("трепеща на воздухе, опускался") преобразуется в английский глагол со значением
сопутствующего признака в сочетании с наречием, указывающим на направление движения (was...
fluttering downwards).
Одной из причин (хотя и не единственной) описанной выше трансформации является наличие
"безэквивалентных форм" в одном из взаимодействующих друг с другом в процессе перевода языков.
Такой формой в данном случае является деепричастие, представляющее собой специфическую
черту русского языка.
Ср. также интересный пример, приводимый в цитированной выше работе Косериу: Я
никогда не любил Людмилу; Я никогда не любил, Людмилы. Здесь "безартиклевый" русский язык
использует характерное, для него средство — падежную флексию для маркирования семантической
оппозиции "конкретное лицо—представитель класса" (в первом, случае речь идет о конкретном
человеке, а во втором — о любой женщину по имени Людмила). Немецкий язык использует в тех же
целях противопоставление нулевого и неопределенного артиклей: Ich habe nie Ljudmila geliebt; Ich
habe nie eine Ljudmila geliebt. Ср. англ.: I have never loved Lyudmila; I have never loved a Lyudmila.
Можно сказать, что теория перевода нуждается в контрастивной лингвистике как в
источнике исходных данных. Эти данные, проливающие свет на расхождения между
структурными типами, системами и нормами языков (попутно отметим, что контрастивная
лингвистика на уровне языковой нормы пока еще не создана и находится в стадии разработки),
служат в качестве отправного пункта для собственно переводческого анализа. Однако при этом
нельзя не учитывать того обстоятельства, что контрастивная лингвистика ориентирована на
перевод не в большей мере, чем на преподавание иностранных языков.
Различие между теорией перевода и контрастивной лингвистикой касается также самого
характера сопоставлений, практикуемых в этих дисциплинах. Рассмотрим в качестве примера
характер сопоставлений в теории перевода и в существующей пока лишь в первом приближении
сопоставительной лингвистике текста. Л.С. Бархударов считал, что предметная область теории
перевода совпадает с предметной областью сопоставительной лингвистики текста именно потому, что
эти дисциплины занимаются сопоставительным изучением семантически тождественных текстов
[Бархударов, 1975,28]. Думается, что для контрастив-
12
нои лингвистики семантическое тождество текстов не является обязательным условием.
Сопоставительная лингвистика проводит свои сопоставления на уровне определенного типа или жанра
текста. При этом в сопоставительной лингвистике текста используются так называемые параллельные
тексты, которые никак не могут рассматриваться как тексты, находящиеся в отношении "оригинал—
перевод". Иногда в качестве материала для сопоставлений используются тексты, у которых вообще
отсутствует семантический инвариант, но которые позволяют выявить дифференциальные признаки
текстов данного жанра в сопоставляемых языках. Ср., например, приводимые в качестве
"параллельных текстов" в одном из сопоставительных исследований выступления в английском
парламенте и в бундестаге:
I considered it in public interest to suggest that the House should be summoned to meet today. Mr.
Speaker agreed, and took the necessary steps, in accordance with the powers conferred upon him by the
Resolution of the House... I now invite the House, by the motion which Stands in my name, to record its
approval of the Steps taken...
bifolge eines Versehens, das ich bisher aufklaren konnte, ist entgegen der Bitte des Kabinetts, den Punkt,
Abgabe einer Regierungserklarung auf die Togesordnung zu setzen, dieser nicht auf Tagesordnung. Ich bitte
deswegen um Entschuldigung; ich werde die Sache aufklaren. Aber ich glaube, die ganze internationale Lage
ist derart, dass das Hohe Haus von der Bundesregierung eine Enklarung verlangen kann... [Hartmann,
1981,203].
Сопоставительный анализ направлен на выявление специфических и общих черт в структуре
сопоставляемых текстов, в их лексике, синтаксисе, фразеологии и стиле. При этом сопоставления
носят, как правило, статический характер и не преследуют цели нахождения переводческих
эквивалентов.
Теория перевода также имеет дело с текстами — исходным и переводным, между которыми
устанавливаются эквивалентные отношения. Однако в сопоставительной теории текста, где речь идет
