Журнал - Новый Часовой. No 8-9. 1999
Подождите немного. Документ загружается.


367
С. И. Романовский. Ломоносовские корни русской науки
меру, явиться на заседание в Академии наук «в сильном подпитии», мог затеять драку в
стенах Академии, мог оскорбить и унизить человека.
П. П. Пекарский описывает наиболее в этой связи характерный случай. В 1743 г.
ряд академиков направили жалобу на И.-Д. Шумахера. Назначили следственную ко-
миссию, которая допросила в качестве свидетелей Г. Н. Теплова, В. Е. Адодурова и
М. В. Ломоносова. Ломоносов не нападал на Шумахера, не поддержав тем самым подпи-
савших эту бумагу, хотя те были уверены в его поддержке. По возвращению из экспедиции
Г.-Ф. Миллера академики исключили Ломоносова из конференции Академии. Наиболее
активен при этом был конференц-секретарь академического собрания Х.-Н. Винсгейм.
Ломоносов, «будучи в нетрезвом состоянии», неожиданно для всех обвинил Шумахера в
воровстве, оскорбил и других немцев, а «из своих достоинств особо и довольно логично
подчеркивал два — наличие знаний академического уровня и принадлежность к русской
нации по своему происхождению»
22
. В следственную комиссию теперь поступила жалоба
на Ломоносова. Его вызвали на допрос, он вновь вел себя оскорбительно, за что и был
арестован. Можно себе представить накал страстей, если только за внутренние академи-
ческие распри Ломоносов пробыл под арестом с 28 мая 1743 г. по 18 января 1744 г. Не
забудем, что в это время Ломоносов еще не был избран в Академию, он лишь работал в
ней, числясь адъюнктом физического класса.
Академия наук стала походить на осиное гнездо. Она плыла по воле волн, управляемая
лишь номинально. В ней царили дикие нравы и она менее всего напоминала в те годы храм
науки. Елизавета Петровна решила навести в Академии порядок: она после пятилетнего
перерыва в 1746 г. назначила президента Академии наук. Выбрала она младшего брата
своего морганатического супруга К. Г. Разумовского. Все бы ничего, да только президенту
едва исполнилось 18 лет! Ясно, что акт этот был скорее декоративным. Реальные бразды
правления находились в руках воспитателя президента Г. Н. Теплова и все того же И.-
Д. Шумахера. Именно они составили «Регламент» (Устав) Академии наук, который был
утвержден в 1747 г. Кстати, тот факт, что составление Устава было поручено паре Теплов–
Шумахер, хотя и косвенно, но все же свидетельствует, что антагонизм между немцами и
русскими в Академии наук в то время не был самодовлеющим. Реальное противостояние
определялось не национальностями ученых, а их амбициями. Когда в центре очередного
скандала оказывались, к примеру, Ломоносов и историк Миллер, то здесь сталкивались
не русский с немцем, а два разных миросозерцания, два противоположных взгляда на
науку, да и два достойных друг друга темперамента. С другими немцами, например с
Х.-Г. Кратценштейном, Ломоносов находил полное взаимопонимание
23
. Так что усиленно
внедрявшаяся ранее версия о враждебном отношении Ломоносова к иностранцам просто
надуманна.
То, что это именно так, прекрасно иллюстрирует многолетний «идеологический»
конфликт Ломоносова и Миллера. Сегодня он нам интересен прежде всего тем, что раз-
вивался этот спор не просто под соусом национального патриотизма, но национальных
интересов, целесообразность ставилась выше истины и это, к сожалению, стало одной
из неискорененных традиций русской науки. Причем, если чисто научная подоплека этой
распри не вызывала, да и не могла вызвать никаких «осуждающих» эмоций, то внешняя
атрибутика, с помощью которой аргументировалась правота одной из сторон, даже сегодня
представляется неприемлемой.
Так, в 1747 г. покинул Петербург и вернулся в Париж знаменитый астроном
Ж. -Н. Делиль. Он тут же стал для России персоной non grata. Мгновенно было забыто,
что ученый более 20 лет отдал становлению русской науки, он представлялся чуть ли не
заклятым врагом Петербургской Академии наук, сношения с ним прекратились. Только
за то, что историка Миллера заподозрили в переписке с Делилем, на квартире Миллера

368
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
в его отсутствие был учинен обыск. Его 28 января 1748 г. провели Ломоносов и Тредиа-
ковский. «Уже сам факт, что два академика, два поэта лично обыскивают своего колле-
гу, живо рисует нравы Академии наук XVIII века»
24
. Так расценил этот факт историк
А. Б. Каменский. После обыска Ломоносов направил президенту Разумовскому «доноси-
тельную докладную» на Миллера, обвинив того — ни много, ни мало — в «политической
неблагонадежности»
25
. Не гнушался Ломоносов писать на Миллера доносы и в высшие
сферы, наклеивая на него ярлык «антипатриота». Цель, правда, уж больно мелка: вырвать
у Миллера редактировавшийся им журнал «Ежемесячные сочинения» и издавать его само-
му
26
. Доносы, как считает Е. В. Анисимов, были одним из способов жизни разложившихся
людей в разложившемся аморальном государстве
27
.
Однако хватит. Ломоносов все же ученый. И важнее понять, как он работал научно,
какие традиции русской науки заложил, чем знать тех, кого он «заложил» в переносном
смысле этого слова. При этом мы не будем анализировать «диссертации» Ломоносова
по физике, химии или минералогии. Это уже сделано многими историками науки. Более
интересны для избранной нами темы те традиции самого подхода к научному творчеству,
которые привнес в нашу науку именно Ломоносов и которые во многом стали определяю-
щими для развития русской науки. Тем более, что господствовавший у нас почти до конца
ХХ столетия тоталитаризм как нельзя лучше способствовал их укоренению и развитию.
Как это ни странно, сами работы Ломоносова тут не при чем. Просто и в этом сказалась его
гениальная прозорливость: он заложил именно тот базис сугубо русского подхода к науке,
который более всего корреспондировал с отношением к науке российского государства.
Кумиром Ломоносова, как известно, был Петр Великий. И не зря. Натуры они
родственные во многом. И роднит их прежде всего нетерпение, а потому торопливость,
жажда объять своей неуемной энергией все, отсюда — столь полярные начинания и даже
разбросанность, отсюда же — неравноценность сделанного.
Мысль Ломоносова постоянно летела впереди фактов, а его всепроникающая ин-
туиция позволяла делать довольно точные обобщения по единичным экспериментам. На
проверку и перепроверку опытов у него не было ни времени, ни желания. Он спешил.
Не удивительно, что даже свое основное достижение в физике — глубокое и точное по-
нимание закона сохранения веса материи (вещества) и движения, он сформулировал не в
монографии и даже не в научной статье, а в частном письме Л. Эйлеру 5 июля 1748 г. Для
науки XVII и XVIII столетий это было характерным явлением, но чаще все же в письмах
высказывались идеи и гипотезы, а их обоснование приводилось затем в научных трактатах.
То же, впрочем, сделал и Ломоносов, но через 10 лет, представив в 1758 г. академическому
собранию диссертацию «Об отношении количества материи и веса».
Столь же необычна форма подачи Ломоносовым своих научных результатов в химии.
Он долгие годы размышлял над атомарной теорией вещества, предвосхитив достижения
в этой области химиков XIX столетия. Свои соображения по этому поводу Ломоносов
оформить в виде законченной научной теории не спешил, так как считал их «системой
корпускулярной философии» и боялся, что ученый мир воспримет их как «незрелый плод
скороспелого ума»
28
. Он прекрасно понимал, что на философском уровне естественнона-
учные проблемы не решаются, их надо обосновывать средствами теории и экспериментов.
Это его последователи, особенно в ХХ веке, желая доказать миру, что мы не лыком шиты,
подняли на щит национального приоритета действительно могучую фигуру Ломоносова
и, желая доказать его первенство чуть ли не во всех областях знания, сильно навредили
его подлинному авторитету.
Тот же стиль и в геологических работах Ломоносова. В них «наиболее важны выска-
занные им взгляды, идеи и гипотезы»
29
, а не конкретные научные результаты. Так считал
В. И. Вернадский. У нас нет оснований оспаривать этот вывод. На самом деле, Ломоносов

369
С. И. Романовский. Ломоносовские корни русской науки
должен был начать и действительно начал свою научную деятельность как геолог. Его
вместе с двумя студентами Петербургская Академия наук, о чем мы уже знаем, отправила
на учебу в Германию с тем, чтобы по возвращении он мог заниматься описанием и по-
полнением минералогических коллекций Академии. 27 января 1749 г. в письме к историку
В. Н. Татищеву Ломоносов вспоминает: «Главное мое дело есть горная наука, для которой
я был нарочно в Саксонию посылан, также физика и химия много времени требуют»
30
.
И несмотря на это, работ по геологии у Ломоносова очень мало. Причем собственно гео-
логические его идеи содержатся всего в двух статьях
31
, да и те, строго говоря, являются
не научными, а научно-популярными. Чем это можно объяснить?
Мне представляется, что основную роль здесь сыграли три фактора: почти полное
отсутствие фактического материала, на базе которого можно было бы решать конкретные
геологические проблемы, чисто физический склад ума ученого, не позволявший ему без
эксперимента, т. е. без проверки фактами, браться за разработку какого-либо геологическо-
го вопроса; наконец, ненасытный научный аппетит Ломоносова, не оставлявший времени
на дотошные и длительные исследования
32
. Размышлял же над этими проблемами он
всю жизнь (не работал, а именно размышлял). Итогом этих раздумий ученого и стала, в
частности, его статья «О слоях земных», опубликованная им всего за два года до смерти.
Поразительно то, сколь глубок был ум Ломоносова: без полевых экспедиционных
исследований, без всякой фактической базы сумевший удивительно точно схватить са-
мое сложное, что есть в геологической науке, — технологию познания геологического
прошлого. Об этом спорят и сегодня, выдавая скороспелые плоды своего интеллекта за
методологические откровения. При этом — можно не сомневаться — нынешние мысли-
тели не опускаются до чтения Ломоносова. А зря. Он бы устыдил их и поставил на место.
Да, Ломоносов больше размышлял, чем экспериментировал. Тут в общем-то нет
ничего удивительного, если вспомнить его весьма поверхностную учебную подготовку в
Славяно-греко-латинской академии и дальнейшую учебу в Германии, где он так и не при-
обрел необходимых навыков культуры физического эксперимента, да и математических
знаний также. К тому же не будем забывать, что и в Европе того времени эксперименталь-
ная технология естественных наук только зарождалась. Не было ни опыта, ни традиций,
ни школ. Вне сомнения, у Ломоносова хватило бы дарований, займись он только физикой
или химией, навсегда связать свое имя с конкретным научным открытием в одной из этих
наук. Но он занимался сразу всем, а потому, ничего не открыв предметно, он до многого
самостоятельно додумался и многое «угадал» (В. И. Вернадский). Но догадки, какими бы
прозорливыми они не были, еще не доказательства. Такие «догадливые» чаще выводят на
верную тропу усердных экспериментаторов и те аргументированно вписывают свое имя
в историю науки, навсегда связав его с чем-то конкретным.
Скептически относился к естественнонаучным трудам Ломоносова академик
П. П. Пекарский. Он, будучи историком, не мог оценить эти работы по существу. Поэтому
прибегает к опосредованному сравнению: «Предоставляю специалистам, посвятившим
себя изучению естествознания, объяснить, почему те же самые диссертации Ломоносова,
будучи напечатаны в Комментариях Петербургской Академии, прошли незамеченными в
истории наук, к которым принадлежат по содержанию, тогда как попавшие в те же Ком-
ментарии труды других членов нашего ученого общества, доставили некоторым из них
почетную известность в ученом мире, которой они бесспорно пользуются и доныне»
33
.
Вероятно надо заметить следующее обстоятельство, ранее почему-то ускользавшее
от внимания исследователей. Дело в том, что Россия не выстрадала свою науку, она ее
получила в готовом виде, причем западноевропейского образца. Поэтому традиции евро-
пейской науки оказались лицом к лицу с привычным для русского человека целостным,
идущим от религиозных традиций, миросозерцанием. Мир для русского человека всегда

370
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
был един и неделим, да и себя он ему не противопоставлял. Отсюда и желание обобщен-
ной, «приближенной к жизни» постановке научных проблем, стремление понять мир в
его единстве. Западные же ученые завезли в Россию принципиально иной взгляд на мир
и на науку. Задачи они ставили конкретные и доводили их до конца, работу делали педан-
тично, с мелочной дотошностью устраняя любые неясности; ценили факты, наблюдения
и с неохотой пускались в рассуждения вокруг них.
Таким образом, в лице Ломоносова русская наука противопоставила европейской
свой подход к естественнонаучному творчеству: всеохватность проблематики, отчетливую
неприязнь к специализации, ведущей к узколобости, взаимоотчуждению ученых и, как
итог, к оторванности науки от потребностей жизни.
Подобные традиции оказались весьма живучи в русской науке. Уже в 40-х годах XIX
века А. И. Герцен в своих философско-науковедческих работах «Дилетантизм в науке»
и «Письма об изучении природы» доказывал, что современная наука — всего лишь про-
межуточная стадия подлинной науки, поэтому тратить силы и время на ее изучение не
стоит; вот придет подлинная наука, тогда, мол, и надо будет заняться ею вплотную. Она
будет более совершенной, а, следовательно, и более доступной для широкой публики. Из
подобной логики вытекала «та дикая смесь пиетета и снисходительности, мистических
надежд и подозрительности, с которыми, к сожалению, и по сей день приходится часто
сталкиваться в нашей стране и которые, как это ни странно, мы обнаруживаем у самого
Герцена, когда от критики дилетантов он переходит к критике современных ученых за
чрезмерную специализацию, формализм, оторванность от жизни и другие “грехи”»
34
.
Подобное отношение к науке в целом стало для русских мыслителей традиционным,
они всегда предъявляли ей повышенные требования, не признавая ни эмпиризм, ни ре-
дукционизм, не относя к категории «научных» ни частные теории, ни отдельные факты.
В 1877 г. В. С. Соловьев в статье «Три силы» так ниспровергает современную ему науку:
если «подлинной задачей науки признавать не... простое констатирование общих фактов
или законов, а их действительное объяснение, то должно сказать, что в настоящее время
наука совсем не существует, все же, что носит теперь это имя, представляет на самом
деле только бесформенный и безразличный материал будущей истинной науки... Ис-
тинное построение науки возможно только в ее тесном внутреннем союзе с теологией и
философией»
35
.
Одним словом, русской душе противны мелочность и частности, ей хочется и науку
развивать скачками и революционными потрясениями. Между тем только последователь-
ное эволюционное развитие ведет к подлинно революционным прорывам в неизведанное,
а нетерпеливость и опережающие толчки приводят лишь к тому, что история как бы
ускользает и вместо революционных рывков наука скатывается на обочину прогресса.
Подобное уже случалось дважды: в XVII столетии, когда родилась современная наука,
мысль в России еще не проснулась и наука обошла нас стороной; да и в начале ХХ века,
когда произошло рождение новейшего естествознания, его колыбелью вновь стала За-
падная Европа, Россия осталась как бы и не при чем.
Причин тому много. Основной, конечно, была значительная отчужденность научного
социума от экономической системы и его жесткая зависимость от системы политической.
Подобное «российское своеобразие» и вынуждало ученых искать для русской науки свой
особый путь; все, что было привычным для европейских научных традиций, в России
приживалось с большим трудом и обидным запаздыванием. А вокруг очевидных для
любого европейца вопросов у нас велись нескончаемые споры, возносившиеся, как мы
убедились, до глубокомысленных философских обобщений. Одним из показательных
примеров подобных словопрений является устойчивое пренебрежение русского ума к
эмпиризму. В Европе к этой «проблеме» относились спокойно. Пока в России спорили,

371
С. И. Романовский. Ломоносовские корни русской науки
там совершенствовали технологию добывания новых фактов, неуклонно при этом росла
культура исследовательского процесса, ученые привыкали к кропотливому рутинному
труду. Это позволило, в частности, выделиться экспериментальной физике и биологии,
резко поднять научный уровень геологических работ.
Причем подобное состояние русского ума не было изначальным. Когда Петр I за-
думал создать в Петербурге Академию наук, то он жестко расставил исследовательские
приоритеты: ему была нужна только прикладная наука. Если он не видел выхода в прак-
тические дела, то просто запрещал исследования. Это в дальнейшем, уже в начале XIX
века члены Академии записали в свой Устав примат фундаментальной науки. Наука стала
«чистой», академики отказались решать не только практически важные задачи, но даже
заниматься преподаванием
36
.
Ломоносову более всего импонировал подход к науке Петра I. Он прекрасно понимал,
что Петр начал коренную ломку российской действительности, страна полностью пере-
страивалась на новый лад, ей были остро необходимы инженеры, строители и военные
специалисты. Надо было, образно говоря, сначала построить прочный и уютный дом, а
уж затем вальяжно расслабясь у камина, можно было позволить себе и пофилософство-
вать в компании умных людей. Установка эта оказалась, хотя и понятной житейски, но
крайне пагубной для развития науки. А главное, она стала вечной для русской науки, ибо
уютный и теплый российский дом так и не удается построить по сей день. Возможно и
потому, в частности, что не то строили, убоявшись развития науки, а потому выказывали
ей традиционное государственное небрежение.
Так или иначе, но подобная ориентация на приоритеты национальной науки стала как
бы своей и для самих ученых. Они впитали ее вместе с азбукой и иной науки помыслить не
могли. Даже Ломоносов, накрывший своим могучим интеллектом все разрабатывавшееся
в его годы научное поле, и тот основным приоритетом науки считал не поиск Истины,
а ее практическую пользу
37
, а применительно к исторической науке — государственную
целесообразность и полезность. Практическую ценность научных открытий он называл
«художествами» и наставлял своих коллег: «Профессорам должно не меньше стараться о
действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теорети-
ческих рассуждениях»
38
. Правда и эти пожелания повисали в воздухе, ибо для разработки
конкретных, да к тому практически важных, проблем необходимо, по меньшей мере, два
условия: чтобы эти проблемы были действительно нужны обществу, т. е. востребовались
им, да и иная культура научного творчества, в частности экспериментального, отторгав-
шаяся, как мы отметили, традиционно русским миросозерцанием.
Именно из-за внутренней убежденности ученых в ненужности их труда проистекали
все чисто российские «особости» отношения к науке, которых при иных условиях просто
бы не было. На самом деле, если бы русские ученые чувствовали свою нужность госу-
дарству, разве пришло бы им в голову рассуждать о полезности науки, о ее приближении
к народу, о том, что важнее — факты для теории или теория для фактов и тому подобные
глубокомысленные сентенции. Причем все это было актуально для русской науки еще во
времена Ломоносова и только поэтому данные «особости» мы назвали «ломоносовскими
корнями русской науки». Ломоносов не уставал призывать «к беспрепятственному при-
ращению наук и приобретению от народа к ним почтения и любления»
39
. А почти через
сто лет после Ломоносова Герцен полагал, что науку будут развивать не кабинетные за-
творники, не университетские профессора, не «современные троглодиты и готтентоты»,
а «люди жизни», способные «преодолеть разобщенность научных дисциплин и достичь
органического единства науки, философии и практики»
40
.
Еще одна, уже в прямом смысле ломоносовская, традиция русской науки касается, в
первую очередь гуманитарных наук, в которых конечный результат исследования может

372
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
зависеть, в частности, и от исходной позиции ученого: является ли он патриотом своего
отечества и охраняет его от «вредной» информации либо он, прежде всего, ученый и
для него ничего, кроме истины, не существует. Сторонником первого подхода, можно
даже сказать его автором, и был Ломоносов. Ему противостоял его «вечный» оппонент
историк Г.-Ф. Миллер. Спор их длился долго, перерос в личную вражду. Касался же он
любви к отчизне, того, «кто любит ее больше — тот, кто постоянно славит и воспевает
ее, или тот, кто говорит о ней горькую правду»
41
. Грустная ирония исторической судьбы
Ломоносова — в том, что он, понимая патриотизм ученого, мягко скажем, весьма своео-
бразно, по сути сам преподнес советским потомкам свое имя как идейное знамя борьбы
с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом.
Суть же самого спора Ломоносова и Миллера мы излагать не будем. Он подробно
описан в статье А. Б. Каменского
42
. Скажем лишь, что касался он «варяжских корней»
русской нации, сибирского похода Ермака и ряда других установочных проблем россий-
ской истории. При этом Миллер опирался только на факты, а Ломоносов отталкивался от
целесообразности. Аргументация же его носила не столько научный, сколько политический
характер, за «правдой» он аппелировал не к ученым, а к своим покровителям. Ломоносов
вполне искренне считал, что историк обязан быть человеком «надежным и верным» и для
того «нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не объявлять и не сообщать изве-
стий, надлежащих до политических дел критического состояния.., природный россиянин..,
чтобы не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию»
43
.
Одним словом, credo Ломоносова-историка стало традиционно-российским: если
факты «порочат» славу России, сообщать о них не следует; если факты «оскорбляют»
власть, извлекать их из архивов не надо. Так же считали и российские правители всех
времен. Если перевести мысли Ломоносова в родные для нас терминологические ориен-
тиры, то станет ясно: история для Ломоносова — наука партийная.
На этом можно поставить точку. Надеюсь, что роль Ломоносова в становлении рус-
ской науки обозначилась непредвзято: без патриотической восторженности и излишнего
высокомерия «помудревшего» на два столетия интеллекта.
1 Мнения ученых по этому вопросу расходятся. Одни
отталкиваются от публикации постановления Сената
об учреждении Академии наук 28 января 1724 г., дру-
гие — от даты ее торжественного открытия 27 декабря
1725 г., когда в присутствии императрицы Екатерины I
состоялось первое официальное заседание Академии
наук.
2 Вернадский В. И. Труды по истории науки в России.
М., 1988. С. 323.
3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1958. С. 277.
4 Там же. С. 278.
5 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 14.
6 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 1–10. М.; Л.,
1950–1957; Т. 11 (дополнит.). Л., 1983.
7 Полное собрание сочинений Михайла Васильевича
Ломоносова с приобщением жизни сочинителя и с
прибавлением многих его нигде еще не напечатаемых
Примечания
творений. Ч. 1–6. СПб., 1784–1787 (См.: Лозинская Л.
Я. Во главе двух Академий. Л., 1983).
8 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 55.
9 В этом можно убедиться, просмотрев библиографи-
ческий каталог Библиотеки РАН. Однако наиболее
обстоятельная биография М. В. Ломоносова была
создана лишь к 275-летию ученого (см.: Павлова Г.
Е., Федоров А. С. Михаил Васильевич Ломоносов
(1711–1765). М., 1988.). Но и она написана под
гипнозом имени ученого. Наиболее же беспри-
страстный и в этом смысле объективный анализ
материалов о Ломоносове был опубликован к
150-летию Академии наук П. П. Пекарским: «Исто-
рия Императорской Академии наук в Петербурге».
1873. Т. 2. Эти материалы уже в наши дни исполь-
зовал воронежский историк В. П. Лысцов для вос-
создания живой фигуры основоположника нашей

373
С. И. Романовский. Ломоносовские корни русской науки
науки (см.: Лысцов В. П. Жизнь и деятельность М.
В. Ломоносова в освещении П. П. Пекарского. Во-
ронеж, 1993).
10 Цит. по: Лысцов В. П. Указ. соч. С. 13.
11 Наумов В. П. Елизавета Петровна // Вопросы истории.
1993. № 5. С. 51–72.
12 История Академии наук СССР. Т. 1. М., 1958. С. 163.
13 Там же. С. 161.
14 В 1737 г. из Академии наук уволили академика
И.-Х. Либерта, в 1739 г. — Хр. Мартини. Многие ино-
странцы, приглашенные в Академию еще Петром I,
вынуждены были покинуть Россию из-за интриг
своих же коллег: физик Г.-Б. Бюльфингер, математик
Я. Герман, математик и механик Д. Бернулли, астроном
Ж.-Н. Делиль и др.
15 См., напр.: Пекарский П. П. История Российской
Академии наук в Петербурге. 1873. Т. 2; Каменский
А. Б. Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю //
Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т. IX. СПб., 1991.
С. 39.
16 Мыльников А. С. Славянская тема в трудах Татищева
и Ломоносова: опыт сравнительной характеристики //
Ломоносов: Сб. статей ... С. 29.
17 Лысцов В. П. Указ. соч.
18 Мыльников А. С. Указ. соч.
19 См.: Наше наследие. 1988. № II. С. 58.
20 Мыльников А. С. Петр III // Вопросы истории. 1991.
№ 4–5. С. 43–58; Левшин Б. В. Первый научный архив
России // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 3. С. 242–250.
21 Лысцов В. П. Указ. соч. С. 64.
22 Там же. С. 24.
23 Копелевич Ю. Х., Цверава Г. К. М. В. Ломоносов и Х.
Г. Кратценштейн // Ломоносов. Сб. статей... С. 90–93.
24 Каменский А. Б. // Ломоносов: Сб. статей... С. 42.
25 Там же.
26 Каменский А. Б. «Под сенью Екатерины...». СПб.,
1992.
27 Анисимов Е. Россия без Петра. СПб., 1994.
28 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1957. С.
173.
29 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 18.
30 Хабаков А. В. Труды М. В. Ломоносова в науках о
Земле // Бюллетень Московского об-ва испытат. при-
роды. Отдел геологич. 1961. Т. 36. № 5. С. 10.
31 Мы имеем в виду статьи М. В. Ломоносова «Слово о
рождении металлов от трясения Земли» (1757 г.) и «О
слоях земных» (1763 г.).
32 Романовский С. И. От представлений М. В. Ло-
моносова о «трясении Земли» до современной
тектоники // Тектонические основы прогнозно-
металлогенических исследований: Сб. статей. СПб.,
1992. С. 150–159.
33 Лысцов В. П. Указ. соч. С. 37.
34 Менцин Ю. Л. Дилетанты, революционеры и ученые
// Вопросы истории естествозн. и техники. 1995. № 3.
С. 28.
35 Соловьев В. Статьи и письма // Новый мир. 1989. №
1. С. 202.
36 См.: История Академии наук СССР. Т. 1. М., 1958;
Уставы Академии наук СССР. М., 1974. 208 с.
37 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. III. М.; Л., 1957.
С. 19.
38 Там же. T. IX. С. 47–48.
39 Там же. Т. Х. С. 48.
40 Менцин Ю. Л. Указ. соч. С. 22.
41 Каменский А. «Под сенью Екатерины...». С. 389.
42 Каменский А. Ломоносов и Миллер... С. 39–48.
43 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. Х. С. 148–149.
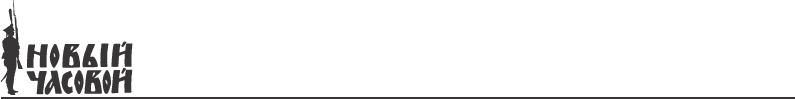
П
о «Дружескому трактату», заключенному в апреле-мае 1815 г. «Его Величеством
императором Всероссийским и Его Величеством королем Прусским» герцогство
Варшавское, в которое входили польские земли кроме Кракова, области и окру-
га на правом берегу Вислы, переходили навсегда к Российской империи. «Оно в силу
своей Конституции будет в неразрывной с Россиею связи и во владении Его Величества
императора Всероссийского, наследников Его и Преемников в вечные времена. Его Ве-
личество, сообразно с существующими в рассуждении прочего Его титулов обычаем и
порядком, присовокупит к оным и титул Царя (Короля) Польского».
1
15 ноября 1815 г. по решению Венского конгресса к России отошла большая часть
герцогства Варшавского. Александр I провозгласил себя королем Польским и предоставил
польской шляхте «конституционную хартию». Конституция утверждала неприкосно-
венность личности, независимость суда, свободу печати, предоставляла шляхтичам-
собственникам и богатым горожанам право выбора депутатов сейма. Управлял при-
висленскими губерниями Административный совет, состоявший из министров-поляков
во главе с царским наместником. В воеводствах действовали выборные воеводские
советы. Польский язык официально признавался во всех учреждениях, а Католическая
Церковь пользовалась особым покровительством правительства. Крестьяне обрели лич-
ную свободу с оставлением всей земли в собственности помещиков. Было сохранено и
гражданское законодательство, введенное в герцогстве Варшавском в 1808 г. по образцу
кодекса Наполеона I.
Первоначально Александр I проводил в Польше либеральный политический курс,
тем самым подавая полякам надежду на присоединение к Королевству Литвы, Волыни и
Подолии. Но в 20-е гг., опасаясь распространения революционных настроений с Запада,
правительство попыталось приостановить рост либеральных настроений: был закрыт
ряд газет, введена цензура, задержан созыв сейма. Еще более настораживала высшие
правительственные круги связь польского Патриотического общества с декабристами.
В конце 1828 г. молодой шляхтич подпоручик Петр Высоцкий организовал в вар-
шавской офицерской школе (школа подхорунжих) тайное общество, целью которого
была подготовка военного переворота во имя восстановления независимости Польши.
Вскоре к этому обществу примкнули известные представители радикальной варшавской
интеллигенции: публицист Маврыций Мохнацкий, Ксаверий Брониковский, Людвиг
Набеляк, Северин Гощенский и др. Возникли подпольные кружки и среди студентов.
Их идейным вдохновителем стал историк Иоахим Лелевель.
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
М. Ф. Хартанович
Ê èñòîðèè êîðîíàöèè â Âàðøàâå.
1829 ã. (Äåëî Ñìàãëîâñêîãî)

375
М. Ф. Хартанович. К истории коронации в Варшаве. 1829 г. (Дело Смагловского)
В сложной политической обстановке Николай I после некоторых колебаний решился
на коронацию в Варшаве. Экстремистским крылом патриотически настроенной моло-
дежи — так называемыми «подпрапорщиками», — готовилось покушение на Николая
I и его семью во время предстоящей коронации. Выпускники Школы подпрапорщиков
М. Мохнацкий, А. Гуровский и А. Чиховский явились главными инициаторами заговора.
В марте 1829 г. стало известно, что император вместе с семьей перед вторым ту-
рецким походом прибудет в Варшаву для восшествия на польский престол. «Подпрапор-
щики» объединились с «Высшим политическим союзом», в который вошли студенты
и молодые офицеры. Дворянин из Познани Т. Дзялинский встретился с А. Гуровским
и П. Высоцким для обсуждения плана покушения — решено было приурочить к нему
и начало восстания. В роли диктатора предполагался родственник Дзялинского Адам
Чарторыйский. В планы покушения Высоцкий посвятил и члена сейма Зверковского. Круг
заговорщиков ширился, вовлекались зачастую люди, неподготовленные к нелегальной
работе. Сомнения и нерешительность Дзялинского, многочисленные аресты смешали
ряды заговорщиков: решено было направить эмиссаров в Берлин (Дзялинский) и в Вену
(Бернард Потоцкий) для выяснения настроений в Европе о поводу предполагаемых
действий в Польше.
Непосредственно перед коронацией предполагалось подать императору подпи-
санную депутатами просьбу об отмене добавочного акта, запрещавшего публичность
совещаний сейма. В случае отказа Николая I подписать прошение планировалось на-
падение на царя и его семью во время парада на Саксонской площади. Это был сигнал
к восстанию.
Дзялинский и Потоцкий под предлогом планируемой поездки в Вену и Берлин на-
всегда покинули Польшу. Однако поскольку многие знали о заговоре, то и правительство
получило информацию о нем.
Одним из невольных информаторов оказался бывший студент Варшавского уни-
верситета, монах ордена Пиаров Винсент Смагловский. В Российском государственном
историческом архиве хранится так называемое «Дело о Смагловском», которое имеет
еще подзаголовок «Основание им Тайного общества с целью вынудить силою согласие
у императора Николая I на восстановление Царства Польского, во время коронования
его Польскою короною в г. Варшаве. 1830 г.»
Граф Дмитрий Курута, уже через несколько месяцев после коронования, в ноябре
1829 г. послал императору документы о деле Смагловского со следующим сопроводитель-
ным письмом: «Всемилостивейший государь. Преклоняя колена приемлю дерзновение
умолять Высочайшую Вашего Императорского Величества благость за неумышленное
и невольное с моей стороны упущение недонесением об арестовании известного Сма-
гловского. Изложив о сем эштафетом в отношении моем к статскому советнику Тур-
куллу причину, воздержавшую меня предоставить мое всеподданнейшее донесение, не
желаю упоминать о том более, но с умилением сердца и с глубочайшим благоговением
осмеливаюсь всеподданнейше просить всемилостивейшего прощения.
Дабы представить первоначальный ход дела, побудивший нас арестовать Сма-
гловского, посчитаю необходимым всеподданнейше представить у сего в оригинале
рапорт вице-президента Любовицкого и осмеливаюсь всеподданнейше донести, что во
избежании огласки и в отвращении всякой возможности, чтобы иные не покусились
дать делу оборот противной истины, и тем закрыть оную, сие дело рассматривается
у сенатора Новосильцова, который не умедлит по окончании следствия представить
тотчас само донесение.
Граф Дмитрий Курута
Варшава. 3/15 ноября 1829 г.»
2

376
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
Узловым документом в этом деле является выписка из донесений вице-президента
Любовицкого о расследовании, проводимом сенатором Новосильцовым по делу Смаглов-
ского. Из этого документа следует, что в апреле 1829 г., перед прибытием императора в
Варшаву, Винсент Смагловский, 22-х лет, уроженец Брад в Галиции, с 1824 г. член ор-
дена Пиаров «навлек на себя подозрение в намерении учредить между воспитанниками
Варшавского университета Патриотическое общество»
3
.
На допросе Смагловский и студенты Варшавского университета Бонковский, Ясли-
ковский, Нежабатовский, Бронозовский, Кроткий, Кондицкий и Длужевский сообщили,
что в день именин Смагловского они собрались у него и, когда «умы были разгоряче-
ны вином», Смагловский выразил сомнение в патриотических чувствах юношей и из
способности «питать ту же преданность Отечеству, примером коей служат Ходневич,
Чарнецкий и Костюшко»
4
. Студенты единодушно утверждали, что верны Отечеству и
подписали следующую бумагу: «Я буду защищать Отечество свое до последней капли
крови». На следующий день гости Смагловского, вспомнив о своем поступке, кинулись
к нему, потребовали возврата документа и сожгли его.
О данном происшествии вскоре стало известно университетскому начальству. По
решению Университетского совета Смагловский был из учебного заведения и из сословия
Пиаров исключен, остальные юноши содержались две недели под арестом.
Проведя лето в имении Лабендского в Трембкане Гостининского округа, Смаглов-
ский осенью вернулся в Варшаву и решил возобновить свои отношения со студентами
университета. Потерпев неудачу, Смагловский отправился обратно в Трембкан. В это
время варшавской полиции было сообщено с места летнего проживания Смагловского,
что он подозревается в получении писем под ложными именами и имеет при себе за-
писную книжку с бумагами, в числе которых были шифрованные листы
5
. Видимо эта
информация поступила от студента Воловского, который находился летом в Трембкане
и общался со Смагловским. Воловский по приезде в Варшаву обращался «за советом»
к секретарю Сената Немцевичу, министру финансов князю Любецкому и директору
театра Осинскому. Результатом этих действий стал арест Смагловского в Трембках и
доставление его в Варшаву со всеми, найденными при нем документами. Среди бумаг
были обнаружены: форма присяги, написанная шифром, два неотосланных письма
Смагловского к графу Роману Салтыку, в которых он извещал последнего о своем на-
мерении учредить тайное общество, несколько песен, написанных в духе ненависти к
императорской фамилии и вообще к русским, шифрованный алфавит.
После долгих запирательств В. Смагловский дал следующие показания: «Будучи
воспитан отцом в началах ложного патриотизма и увлекаясь воображением, считал он
себя способным предпринять что-либо к восстановлению Польши. В сем намерении
казалось ему ближайшим воспрепятствовать коронованию государя императора и до-
пустить оное только после Высочайшего согласия: 1) на возвращение Польше всех при-
соединенных от оной к России провинций; 2) на ненарушимое сохранение Конституции;
3) на право свободного выбора королей. Для сего полагал он собрать до 200 молодых
людей. Скрыть их с оружием за обоями залы Коронования, а в продолжении церемонии
окружить императорскую фамилию и вынудить согласие Его Величества. После того,
полагал он избрать на престол герцога Рейхштадтского и через то возвратить Галицию.
Пруссия затем могла бы быть присуждена к уступке Великого Герцогства Познаньского,
а наконец, возмутив Венгрию и Богемию, оставалось бы составить общий союз славян-
ского народа»
6
.
Со своими идеями Смагловский прежде всего ознакомил студента Бонковского. Они
приняли присягу
7
. Вскоре Смагловский вовлек в члены тайного общества еще несколько
студентов варшавского университета
8
. Чтобы придать весомости своей организации,
