Журнал - Новый Часовой. No 8-9. 1999
Подождите немного. Документ загружается.


377
М. Ф. Хартанович. К истории коронации в Варшаве. 1829 г. (Дело Смагловского)
Смагловский «открыл» молодым людям имена якобы членов тайного общества. Костяк
общества представляли (не ведая о том) секретарь Сената Немцевич, граф Роман Салтык,
несколько сенаторов, военных и гражданских чиновников. Однако студент Кроткий, «из
боязни или желая удостовериться в истине», обратился к Немцевичу с вопросом об его
участии в столь славном деле. Таким образом существование общества было раскрыто.
На допросе студенты сообщили, что Смагловский уверил их в том, что главой
общества являлся генерал Хлопицкий и что Австрия во всех предприятиях будет под-
держивать общество с целью возведения на польский престол герцога Рейхштадтского.
Следователи ознакомились и с неотправленными письмами Смагловского к Салты-
ку. В первом из них, от 1 июля 1828 г., он сообщает о своем отъезде из Варшавы, чтобы
избежать установленного за ним надзора. Второе письмо, от 28 июня, содержит описание
«настоящего унижения Польши, намерение свое восстановить сие царство на степень
первобытного величия и свободы и укрепить общий союз Славянских народов, в состав
которых должна войти и Россия»
9
. Далее он признался, что обманул принятых в обще-
ство студентов, уверил в соучастии Немцевича и нескольких сенаторов. Смагловский
сообщает, что начал скупать оружие, однако средства его оказались незначительными
и он просит Салтыка о финансовой помощи. Затем он извещает о том, что познакомился
с тайным агентом полиции и имеет от него различные сведения.
Смагловский объяснил следствию, что в письме этом «все ложно, кроме обстоя-
тельств, на допросе им показанных». Из дела остается невыясненным, понес ли Сма-
гловский какое-либо наказание. Он участвовал в ноябрьском восстании и в военных
действиях против русских войск. После подавления восстания бежал во Францию. В
80-х гг. Смагловский вернулся в Польшу и поселился в Станиславове, открыв там пу-
бличную библиотеку.
Деятельность В. Смагловского в предреволюционный период в истории Польши вы-
глядит незначительным эпизодом в деле борьбы поляков за независимость. Однако этот
эпизод рисует общее настроение в умах польской молодой интеллигенции того времени.
Коронация прошла без осложнений. Вот как описывает церемонию В. А. Жуков-
ский, присутствовавший на ней: «Для коронования была приготовлена большая зала
Сената, находящаяся во дворце... Она украшена была великолепно. На одном конце
ея воздвигнут был трон; два кресла стояли на возвышении под балдахином, на коем
изображены были все гербы Царства Польского, и посереди их, в двоеглавом орле
России, белый орел Польши. Посереди залы возвышался крест, вдоль стен, справа,
слева и насупротив трона, стояли сенаторы, нунции и депутаты Царства; над ними, на
балконе, находились знатнейшие дамы Варшавы. С нетерпением ожидали прибытия
государева. И он и государыня императрица слушали в греко-российской дворцовой
церкви обедню. Наконец подали знак, что император приближается; глубокое молча-
ние воцарилось в собрании, двери палаты отворились и торжественный ход начался.
Государь явился, предшествуемый знатнейшими сановниками, несущими регалии, епи-
скопами и архиепископами, за ним государыня уже в короне и порфире, его высочество
наследник, великие князья Цесаревич и Михаил Павлович и сановники придворные. Их
высочества заняли приготовленные им места. Архиепископ примас произнес молитву.
Когда государь возложил на себя императорскую корону, надел порфиру, принял в
руки державу, скипетр, украсил цепью ордена Белого Орла государыню императрицу,
архиепископ провозгласил троекратно: Vivat rex in aeternum. За сим последовало трога-
тельное, разительно-величественное действие: монарх России и Польши, украшенный
венцом прародительским, преклонил колено пред невидимо присутствующим Богом,
произнес молитву за себя и за народ, вверяемый его любви промыслом: лицо его было
оживлено чувством, и твердый голос его иногда прерывался от сильного движения

378
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
душевного; внимавшие исполнены были глубокого благоговения и проливали слезы
благодарности»
10
.
Коронование состоялось 12 мая 1829 г. В этот же день вышел манифест о «возло-
жении императором Николаем I на главу свою Польской короны». Он гласил:
«Господину Санкт-петербургскому Военному Генерал-губернатору.
Согласно с волею незабвенного Брата Нашего, блаженныя и вечныя славы достойно-
го Императора Александра, Мы, сего 1829-го года Мая 12-го в Нашем Столичном городе
Царства Польского Варшаве, короновали себя Царем Польским, возложив на главу свою
прародительскую Нашу Императорскую Всероссийскую Корону. Повелеваем вам из-
вестить жителей Столичного города Санкт-Петербурга о сем торжественном действии,
коим на все времена определено и утверждено бытие Царства Польского, навсегда не-
разрывным с Империею Российскою.
Пребываем к вам навсегда благосклонны.
Николай.
Варшава. 13 мая 1829 г.»
11
«Неразрывные узы» Царства Польского с Российской империей не выдержали и
года. 29 ноября 1830 г. в Варшаве вспыхнуло восстание за освобождение Польши, по-
влекшее за собой русско-польскую войну 1830—1831 гг.
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собр.
II. 1815—1815. № 25827.
2 Российский государственный исторический архив
(РГИА). Ф. 1409. Собственная Его Величества кан-
целярия. Оп. 2. Д. 5525. Л. 1.
3 Там же. Л. 26.
4 Там же. Л. 26 об.
5 Там же. Л. 27.
6 Там же. Л. 27 об.
7 Присяга была произнесена над черепом, принесенным
из Праги (пригорода Варшавы), и над положенным
около черепа ножом, вместо кинжала. Присягнувшие
Примечания
обещали хранить тайну, не щадить ни жизни, ни
имущества к защите отечества, соглашаться в случае
присяги умереть от руки своих сообщников (Там же.
Л. 28).
8 Ясликовского, Нежабатовского, Бронозовского, Крот-
кого, Кондицкого, Длужевского.
9 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5525. Л. 30.
10 Жуковский В. А. Сочинения. Т. 5. СПб., 1885. С.
462—463.
11 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5311. Л. 1.
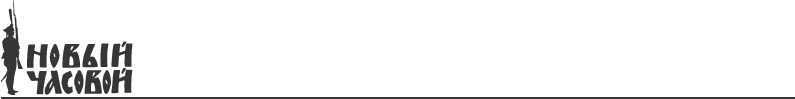
В
системе мер, направленных на укрепление обороноспособности страны в 1930-е
годы, особое значение придавалось физическому воспитанию молодежи и широ-
кой пропаганде военно-прикладных видов спорта. Спортивные общества и ОСОА-
ВИАХИМ — Добровольное общество содействия авиации и химической защите — прово-
дили большую работу по общей физической подготовке, стрелковому делу, парашютному
спорту. Были разработаны комплексы упражнений, после сдачи которых вручались значки
ГТО — «Готов к труду и обороне» — двух степеней, «Ворошиловский стрелок», также
двух степеней и другие. Их носили не только юноши и девушки — школьники, студенты,
военнослужащие, но и многие лица старшего возраста.
Менее распространен был значок «Ворошиловский всадник», так как обучение
конному спорту требовало дорогостоящей материальной базы. Тем не менее в ряде круп-
ных городов — Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове, Ярославле и других были созданы
конно-спортивные школы как в системе ОСОАВИАХИМа, так и в спортивных обще-
ствах «Динамо», «Спартак», «Буревестник». Ленинградская конно-спортивная школа
ОСОАВИАХИМа в летнее время находилась в лагере в Сосновке, а в зимнее помещалась
в здании Малого Эрмитажа рядом с Зимним дворцом. В просторной царской конюшне,
сохранившейся в первозданном виде, стояло около 40 лошадей, в том числе несколько
полукровных. Занятия проводились в манеже, примыкавшем к конюшне, где когда-то
обучались верховой езде наследники российского престола
1
.
Желающих заниматься было более чем достаточно. В основном это были студенты,
старшие школьники, рабочие и служащие. При одном занятии в неделю в течение учеб-
ного года с октября по апрель приобретались знания по уходу за конем, вырабатывались
правильная посадка, устойчивые навыки езды на всех аллюрах, умение преодолевать пре-
пятствия. Все в целом соответствовало требованиям, предъявляемым к молодому бойцу
кавалерии. Кроме того, следовало освоить вольтижировку — гимнастику на лошади, и
научиться владеть холодным оружием — шашкой. Кроме групп («смен») для начинающих
в школе была также отдельная группа мастеров спорта.
В конце первого года обучения (1936—1937 гг.) наша «смена» из 12 студентов
Ленинградского института инженеров промышленного строительства
2
, сдав зачетные
упражнения, получила значки «Ворошиловский всадник». Выполненные из алюминиевого
сплава, они имели форму подковы, в середине которой был изображен скачущий всадник
с красным знаменем на фоне синей звезды. Синим был уставной цвет петлиц на шинели
и кителе, околыша фуражки и суконной звезды на «буденовке» кавалериста.
Н. П. Ульянов
«Âîðîøèëîâñêèé âñàäíèê»
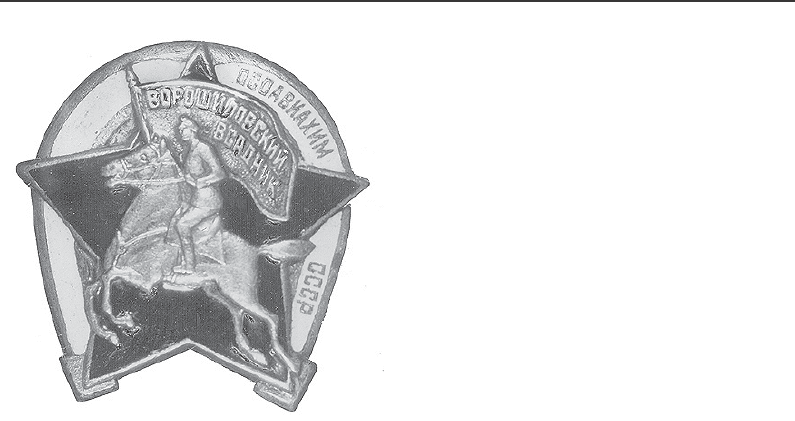
380
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
но я до сих пор помню клички и индивидуальные особенности коней, на которых тогда
ездил и, конечно, фамилии наших учителей-инструкторов. Это были командиры запаса
Смирнов, Алексеев, Шульга и даже один военнопленный австриец, в прошлом воевавший
у Буденного в 1-й Конной армии. К сожалению, этот последний, как и начальник школы
Никитин, не пережил репрессий в зловещем 37-м году и исчез из школы.
Но более всех запомнился наш первый учитель — старый кавалерист с большим
строевым и боевым опытом, Михаил Васильевич Екимов, бывший полковник русской
армии, командовавший в конце 1-й мировой войны Черкесским конным полком Кавказ-
ской туземной дивизии, более известной под названием «Дикой». В прошлом он серьезно
увлекался спортом и в 1912 году участвовал в Олимпийских играх в Стокгольме в составе
команды конников России, состоявшей из офицеров. Можно сказать, что конному делу и
кавалерии он отдал всю свою жизнь. В 1936 году ему было 73 года, но он был еще бодр,
сохранил военную выправку и безукоризненную манеру обращения с подчиненными, в
данном случае с нами, его учениками. Он, несомненно, представлял собой лучший тип
офицера старой русской армии. Его задача как инструктора затруднялась тем, что из-за
травмы, полученной от удара лошадиным копытом он не мог садиться в седло и показывать
нам личный пример. Он ограничивался только словесными объяснениями и замечаниями.
Но мы были достаточно понятливы и послушны, за что часто удостаивались его похвал,
особенно представительницы «прекрасного пола».
Конечно, он только чудом уцелел в годы революции. Его полк и дивизия входили в
состав 3-го конного корпуса, направленного генералом Л. Г. Корниловым на Петроград
в августе 1917 года. Эта отчаянная попытка положить конец анархии и развалу армии ни
к чему не привела и постепенно все полки корпуса были нейтрализованы, разоружены и
демобилизованы после Октября. Хотя М. В. Екимов и был кадровым офицером с развитым
чувством воинского долга, он сознавал бесчеловечность, бессмысленность и преступность
войны, развязанной в 1914 году, принесшей народам неисчислимые страдания. Поэтому
он стоически, как неизбежность, воспринял конец старой армии, не сделав попыток
примкнуть к Белому движению. Более того, его единственный сын Георгий вступил в
Красную Армию, сражался в рядах 1-й Конной и погиб во время гражданской войны. Его
Значок «Ворошиловский всадник».
В следующем 1937—1938 учебном
году мы продолжили занятия, закрепив при-
обретенные навыки, доведя до автоматизма
то, что раньше давалось с напряжением.
Каждый учебный год мы завершали по-
казательными выступлениями на спорт-
площадке своего института по программе:
фигурная езда, преодоление препятствий,
игра в «лисичку», рубка лозы.
Два года занятий в школе благотворно
отразились на нашем общем физическом со-
стоянии, развили такие полезные качества,
как ловкость, решительность, смелость
и сблизили нас с прекрасным животным
— конем, верно служившим человеку не-
сколько тысячелетий. Многим, в том числе
и автору, полученные знания пригодились в
годы войны 1941—1945 гг., так как лошадь
использовалась не только в кавалерии, но
и в других родах войск. Прошло много лет,
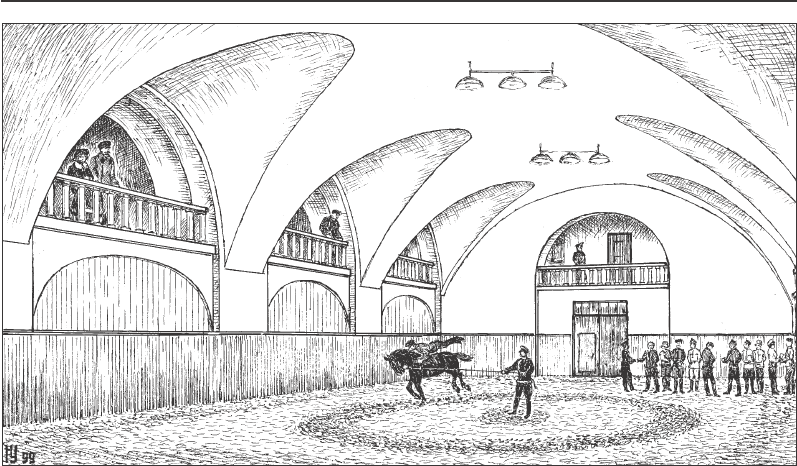
381
Н. П. Ульянов. «Ворошиловский всадник»
знал лично С. М. Буденный, оказавший Екимову-отцу помощь и покровительство. Михаил
Васильевич поселился под Петроградом в Павловске (тогда он назывался Слуцком) и был
инструктором верховой езды в воинских частях. Фотография его геройски погибшего сына
помещена в альбоме, посвященном 60-летию 1-й Конной армии
3
.
К сожалению, М. В. Екимов недолго был нашим наставником — всего несколько
месяцев. Он часто беседовал с нами, рассказывал разные эпизоды из своей жизни, мы
с интересом его слушали, сознавая, что перед нами человек в своем роде уникальный.
Однажды он принес и показал нам свои старые фотографии, запечатлевшие его на разных
этапах долгой службы — молодым офицером Каргопольского драгунского, затем Влади-
мирского уланского полков, участником Олимпиады на скаковом поле в Стокгольме и,
наконец, лихим командиром Черкесского полка в папахе и черкеске с газырями. Однако
его увлечение воспоминаниями о прошлом кому-то явно не понравилось: безвестный
«стукач» доложил куда следует. Придя в очередной раз на занятия, мы были встречены
новым инструктором В. Н. Смирновым, молодым кавалеристом, ладным, подтянутым и
тоже очень доброжелательным. А о Екимове прочли на стенке в приказе, что он уволен
«за неуместную популяризацию офицерских фотографий». К счастью, начальство огра-
ничилось только его отлучением от школы, а могло быть и хуже.
Перед войной Михаил Васильевич продолжал мирно жить на своей даче в Павловске
вместе в двумя дочерьми. Зная его адрес, летом 1939 года я навестил его и провел в при-
ятном обществе пару часов. Это была наша последняя встреча. Дальнейшая его судьба мне
неизвестна. В 1941 году, через два месяца после вторжения, фашистские войска подошли
к Павловску, и судьба большинства его жителей оказалась трагична — многие не смогли
перебраться в Ленинград, а участь тех, кто успел, тоже была незавидной.
Снова сесть в седло мне удалось лишь в 1946 году, когда я служил в Ленинградском
Военно-Инженерном Училище, в составе которого был конно-саперный полуэскадрон,
доживавший свой век, как и вся кавалерия.
Вольтижировка в манеже Зимнего дворца (здание Малого Эрмитажа). Рис. автора.

382
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
О былом увлечении мне сегодня напоминает описанный выше значок да пара шпор
моего дяди К. М. Носова, подпоручика Приморского драгунского полка старой армии,
расстрелянного в мае 1941 года по ложному обвинению в Таллине.
Состояние конного спорта в Петербурге за несколько десятилетий стало плачевным,
но в последние годы наметился перелом в лучшую сторону — на стадионе «Петровский»
стали проводить международные и городские соревнования. Есть надежда, что в будущем
город вернет себе былую славу в этом красивейшем и полезном виде спорта.
Следует напомнить, что Россия, никогда не испытывавшая недостатка в отличных
конях и смелых всадниках, продемонстрировала перед Первой мировой войной большой
успех своих спортсменов. В течение трех лет подряд с 1912 по 1914 год на ежегодных
состязаниях кавалеристов европейских армий, проводившихся в Англии, группа офицеров
гвардейской кавалерии трижды завоевывала первенство.
Согласно условиям, после троекратной победы ценный приз должен был навсегда
остаться в России, однако начавшаяся война задержала его отправку. Только весной 1916
года он был послан морем на крейсере «Hampshire», но так и не прибыл по назначению
— корабль был потоплен германской подлодкой вблизи Оркнейских островов. Тогда же
погиб английский главнокомандующий лорд Китченер, направлявшийся в Россию для
переговоров.
1 В этом помещении в 1956 г. был выставлен Пергам-
ский алтарь, вывезенный из Берлина как «трофей».
2 Леон Авиром, Семен Гельман, Ирина Гольдберг, Донат
Жеребов, Александр Крахмальников, Элида Найде-
Примечания
нова, Михаил Носович, Николай Ульянов, остальных
уже не вспомнить.
3 Легендарная Первая Конная. Москва, 1979.

Øòàá Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ
1. Главнокомандующий Вооружёнными Силами Комитета Освобождения Народов России
( ВС КОНР ) — генерал-лейтенант А. А. Власов
2. Личный адьютант — капитан Р. Л. Антонов
3. Личный переводчик — обер-лейтенант В. А. Ресслер
4. Начальник личной охраны — капитан П. В. Каштанов (М. В. Шатов)
командир взвода личной охраны — поручик А. Н. Бублик
5. В распоряжении Главнокомандующего ВС КОНР — подполковник М. К. Мелешкевич
6. Âñïîìîãàòåëüíûå âîéñêà ÂÑ ÊÎÍÐ (â íåïîñðåäñòâåííîì
ïîä÷èíåíèè Ãëàâíîêîìàíäóþùåìó ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó À. À. Âëàñîâó
)
Начальник штаба Вспомогательных войск ВС КОНР — полковник Г. И. Антонов
Заместитель начальника штаба по технической части — инженер-подполковник К. И. Попов
Начальник боевой подготовки — майор М. Самойлов
Начальник отдела кадров — полковник Шоколи
7. Øòàá Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ
Начальник штаба ВС КОНР — генерал-майор Ф. И. Трухин
Личный адьютант начальника штаба ВС КОНР — поручик А. И. Ромашкин
Заместитель начальника штаба ВС КОНР — полковник В. Г. Баерский (В. И. Боярский
*
)
Начальник секретариата штаба ВС КОНР — капитан С. А. Шейко
Офицер для особых поручений ( контрразведка ) — капитан М. В. Томашевский
В распоряжении штаба ВС КОНР — полковник А. П. Ананьин, майор С. И. Свобода
Переводчик штаба ВС КОНР — подпоручик А. А. Кубеков
Врач штаба ВС КОНР — капитан медицинской службы П. А. Казанский
Начальник офицерского резерва штаба ВС КОНР — подполковник Г. Д. Белай
Помощник начальника резерва — подполковник М. М. Голенко
Командир роты резерва — поручик А. Логинов
Комендант штаба ВС КОНР — майор Глазенап
Отдельный кавалерийский эскадрон штаба ВС КОНР — командир эскадрона капитан Тищенко
К. М. Александров
Âîîðóæåííûå ñèëû ÊÎÍÐ
Ìàòåðèàëû ê ñîñòàâëåíèþ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ
Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë Êîìèòåòà Îñâîáîæäåíèÿ Íàðîäîâ
Ðîññèè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà À. À. Âëàñîâà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 àïðåëÿ 1945 ã.
* В скобках приводятся псевдонимы, под которыми указанные офицеры служили в ВС КОНР.

384
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
Батальон охраны штаба ВС КОНР — командир батальона капитан В. Дубовец
Командир роты, укомплектованной старшими кадетами эвакуированного из Белграда 1-го
русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса, — поручик
Копытов
(командиры взводов — поручик Е. А. Делаковский, поручик Морозюк)
Отдельный строительный батальон — командир батальона капитан А. П. Будный
Командир специального отряда по охране ценностей КОНР — капитан А. Анохин
Îòäåëû øòàáà Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ÊÎÍÐ
1-й отдел — Административно-хозяйственный
Начальник отдела — майор П. Н. Шишкевич
Начальник общей части — поручик Прокопенко
Заведующий делопроизводством — подпоручик В. Антонов
Начальник продовольственного снабжения — майор В. Черемисинов
Командир хозяйственной роты — поручик Н. А. Шарко
2-й отдел — Оперативный
Начальник отдела — полковник А. Г. Нерянин
Адьютант и переводчик начальника отдела — поручик В. Т. Шевчук
Заместитель начальника отдела — подполковник Н. И. Коровин
И. о. старшего офицера связи между Главнокомандующим и штабом ВС КОНР,
Начальник 1-го отделения — подполковник В. Ф. Риль
Начальник 2-го отделения — подполковник В. Э. Михельсон
3-й отдел — Разведывательный
Начальник отдела — подполковник И. М. Грачёв ( Копылов )
Адьютант начальника отдела и начальник 1-го отделения общевойсковой разведки — ка-
питан А. Ф. Вронский
Начальник 2-го отделения агентурной разведки — капитан Б. А. Гай (Малинин)
(старший помощник начальника 2-го отделения — капитан М. И. Турчанинов,
заведующий делопроизводством 2-го отделения — поручик К. Г. Камальян (Каренин))
Начальник 3-го отделения общевойсковой контрразведки — майор А. Ф. Чикалов
(помощник начальника 3-го отделения — поручик Я. И. Марченко)
Сотрудники отдела: поручик Д. Горшков, капитан В. А. Денисов, капитан Л. Думбадзе,
поручик В. Кабитлеев, капитан С. С. Никольский, поручик Ю. С. Ситник, поручик А. Скач-
ков, капитан Твардевич, майор А. А. Тенсон, майор В. И. Цонев
4-й отдел — Связи
Начальник отдела — подполковник В. Д. Корбуков
Инспектор по боевой подготовке — подпоручик П. И. Короткий
5-й отдел — Топографический
Начальник отдела — подполковник Г. С. Васильев
Помощник начальника отдела — подполковник Н. Н. Любимцев
6-й отдел — Шифровальный
Начальник отдела — майор А. Е. Поляков
Старший помощник начальника отдела — подполковник И. П. Павлов

385
Вооруженные силы КОНР
Помощник начальника отдела — поручик В. А. Богомолов
Помощник начальника отдела — поручик А. А. Кандауров
7-й отдел — Формирований
Начальник отдела — полковник И. Д. Денисов
Адьютант начальника отдела — подпоручик П. М. Верховский
Начальник 1-го отделения — капитан Г. А. Федосеев
(помощник начальника 1-го отделения — капитан И. П. Ковецкий)
Начальник 2-го отделения — капитан В. Ф. Демидов
(помощник начальника 2-го отделения — подпоручик А. Н. Леонов)
Начальник 3-го отделения — капитан С. Т. Козлов
(помощник начальника 3-го отделения — подпоручик Н. Г. Пономарёв,
помощник начальника 3-го отделения — капитан А. Д. Ермолаев)
Начальник 4-го отделения — майор Г. Г. Свириденко
Начальник общей части — подпоручик Е. П. Покатило
Переводчик отдела — подпоручик В. В. Радин
8-й отдел — Боевой подготовки
Начальник отдела — генерал-майор В. Г. Арцезо (Ассберг, Ассбергьянс, Арцызов)
Адьютант начальника отдела — поручик П. Н. Бутков
Заместитель начальника отдела — полковник А. Н. Таванцев
Начальник 1-го отделения по подготовке войск — полковник Ф. Е. Чёрный
(помощник начальника 1-го отделения — майор А. Г. Щекутин
помощник начальника 1-го отделения по физической подготовке — майор Ф. М. Легостаев)
Начальник 2-го отделения по военным школам — полковник А. А. Денисенко
(помощник начальника 2-го отделения — подпоручик И. С. Грищук)
Начальник 3-го отделения по разработке уставов — подполковник А. Г. Москвичёв
Начальник общей части — ротмистр М. Д. Созыко
9-й отдел — Командный
Начальник отдела — полковник В. В. Поздняков
Адьютант начальника отдела — подпоручик Н. Н. Благонадёжный
Заместитель начальника отдела — капитан В. И. Стрельников
(помощник начальника 1-го отделения по офицерам Генерального штаба — капитан
Я. А. Калинин)
Начальник 2-го отделения по пехотным частям — майор А. П. Демский
(помощник начальника 2-го отделения — поручик Н. А. Лагуто)
Начальник 3-го отделения по кавалерийским частям — поручик Н. В. Ващенко
Начальник 4-го отделения по артиллерийским частям — подполковник М. И. Пан-
кевич
(помощник начальника 4-го отделения — поручик П. М. Гладков)
Начальник 5-го отделения по танковым и инженерным войскам — капитан А. Г. Корнилов
(помощник начальника 5-го отделения — подпоручик А. А. Осипов)
Начальник 6-го отделения по административно-хозяйственным и военно-санитарным
службам — майор В. И. Панайот
(помощник начальника 6-го отделения — подпоручик А. М. Полтавский)
Начальник общей части — подпоручик Н. Н. Енгалычев
(помощник начальника общей части — капитан О. Л. Баумгартен)
Младший переводчик отдела — подпоручик Н. Н. Нечаев

386
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ
10-й отдел — Пропаганды и агитации
Начальник отдела — подполковник Хаспабов
Заместитель начальника отдела — майор М. В. Егоров
Инспектор по пропаганде в войсках — капитан М. П. Похваленский
Инспектор по пропаганде в Восточных войсках Вермахта — капитан А. П. Собченко
Руководитель ансамбля песни и пляски — подпоручик А. П. Костецкий
Руководитель концертного ансамбля — подпоручик Н. Н. Гусс
Заведующий делопроизводством отдела — поручик Армашевский
11-й отдел — Военно-юридический
Начальник отдела — майор Е. И. Синицын (Арбенин)
Военные юристы: капитан Г. А. Акимов, поручик А. Г. Александров, подпоручик В. Г. Гарницкий
12-й отдел — Автобронетанковый
1
(помощник начальника отдела по ремонту и эксплуатации — полковник Л. Н. Попов)
13-й отдел — Артиллерийский
Начальник отдела — генерал-майор М. В. Богданов
Адьютант начальника отдела — подпоручик А. Е. Драпаков
(помощник начальника отдела — полковник Н. А. Сергеев)
Инспектор по боевой подготовке — полковник В. А. Кардаков
Инспектор по артиллерийскому вооружению — полковник А. С. Перхуров
Инспектор по стрелковому вооружению — подполковник Н. С, Шатов
Переводчик отдела — подпоручик Б. Ф. Пахаренко
14-й отдел — Материально — технического снабжения
Начальник отдела — генерал — майор А. Н. Севастьянов
Адьютант начальника отдела — подпоручик Е. М. Стрепихеев
Начальник отделения по устройству тыла — полковник Г. В. Сакс
(адьютант начальника отделения — капитан А. А. Бертельс — Меньшой
помощник начальника отделения — майор Е. Н. Выговский)
Инспектор по продовольственно — фуражному довольствию — майор П. Ф. Зелепугин
Инспектор по квартирному довольствию — капитан А. И. Путилин
Начальник общей части — поручик И. Ф. Биндюков
Переводчик отдела — поручик В. А. Мамонтов
15-й отдел — Инженерный
Начальник отдела — полковник Г. В. Яропуд
Адьютант начальника отдела — подпоручик Н. П. Смирнов
Помощник начальника отдела — полковник С. Н. Голиков
Помощник начальника отдела — капитан А. П. Будный
Младший помощник начальника отдела — поручик И. Т. Дмитриченко
16-й отдел — Санитарный
Начальник отдела — полковник медицинской службы В. Н. Новиков
Помощник начальника отдела — капитан медицинской службы А. Р. Трушнович
17-й отдел — Ветеринарный
Начальник отдела — майор А. М. Сараев
Помощник начальника отдела — капитан В. Н. Жуков
