Февр Л. Бои за историю
Подождите немного. Документ загружается.

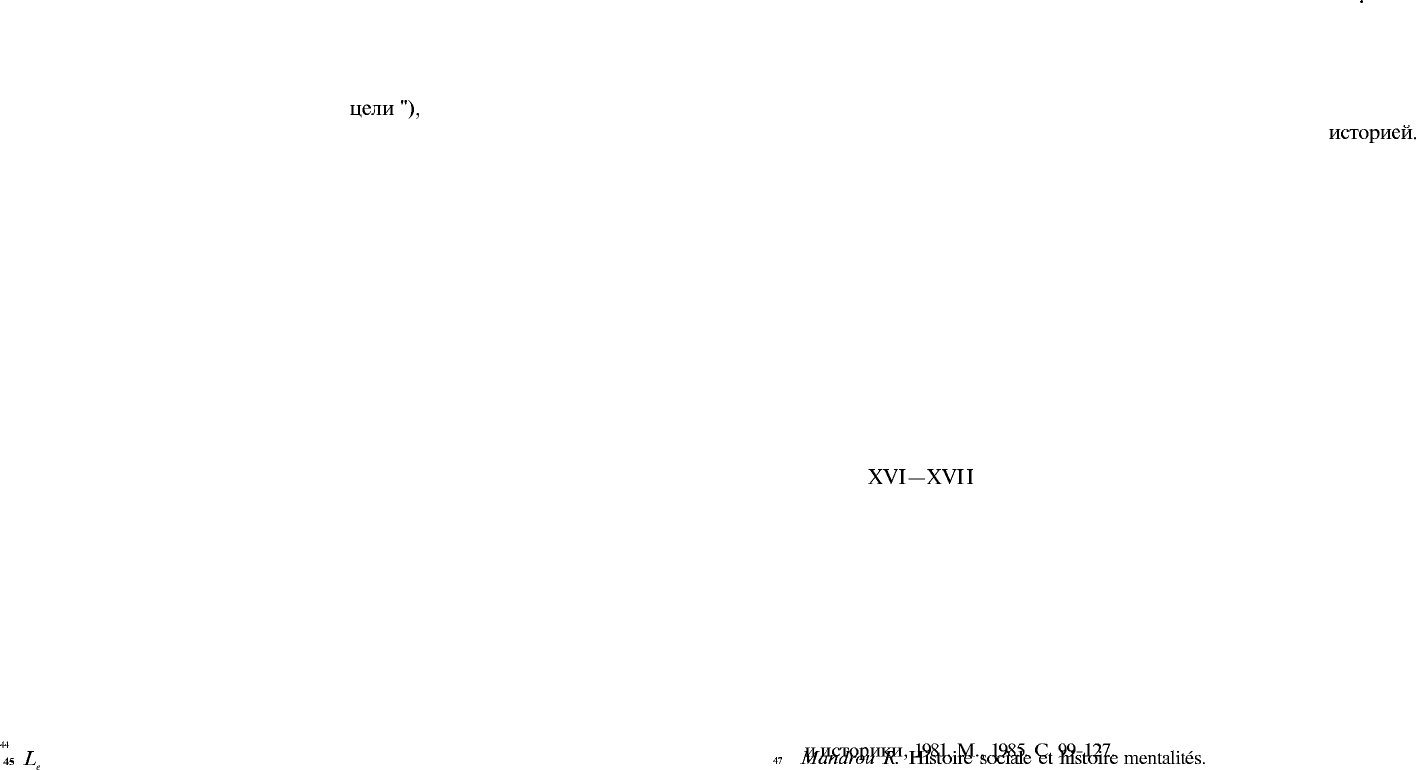
524
Приложение
большей части остаются «синтезом переплетчика», социальное в
культурное логически в них не сочленены и взаимно не обуслов-
лены. Традиционное понимание «базиса» и «надстройки» доказа-
ло свою непригодность для объяснения реального взаимодействия
указанных сфер единого целого.
Не является ли категория поведения тем «средним звеном»,
которое может их объединить? Общественное поведение индиви-
дов и групп детерминируется материальной жизнью. Но эти де-
терминанты не предопределяют прямо и непосредственно поступ-
ков людей — они проходят сквозь сложные «фильтры» их созна-
ния, преломляются в ментальности. Мировосприятие и культур-
ная традиция, религия и психология суть та среда, где выплав-
ляются реакции людей на объективные стимулы их поведения.
Разумеется, речь идет не о какой-то «психологизации» исто-
рии (и соответственно упреки, высказанные по адресу Февра и
Блока, бьют, мне кажется, мимо
цели"),
а о понимании того,
что любые объективные факторы исторического движения
делаются его действенными пружинами, только пройдя через
ментальность, сложно, подчас до неузнаваемости, их трансфор-
мирующую. Поэтому человек с его внутренним миром, психоло-
гией, в свою очередь исторически обусловленными, не может не
стоять в центре исторического исследования.
Ментальности, в контексте традиционной историографии оста-
вавшиеся за пределами истории, как своего рода «внеисторичный
остаток» ", не охватываемый исследованием экономики, социаль-
ной структуры, истории событий, литературы, искусства, в свете
новых подходов становятся неотъемлемым и важным предметом
истории. Неопределенность, расплывчатость, даже двусмыслен-
ность понятия «ментальность» обусловлены не только тем, что
оно еще недостаточно прояснено историками логически. Эта неяс-
ность отражает существо дела: предмет не очерчен четко в самой
ткани истории. Во всех без исключения проявлениях человека
могут быть — и должны быть — обнаружены те или иные симп-
томы коллективной психической жизни, ее безличные, неиндиви-
дуализованные аспекты и автоматизмы, то содержание сознания,
которое не выражено эксплицитно и намеренно и коренится в
потаенных глубинах социальной и индивидуальной психики.
К этому присоединяется еще одно обстоятельство. Историк
работает с источниками. Но эти источники, будь то художествен-
ные, юридические или хозяйственные тексты, продукты и орудия
труда, вообще любые предметы, вышли из рук человека, и потому
на них лежит отпечаток их творца. Они не могут не отражать
его представления, не запечатлевать те или иные психологиче-
ские реакции, не фиксировать его позицию в мире и отношение
A. Я. Гуревич. Уроки Люеьена Февра
52l·
«
См.: Долин В. М. Историки Франции... С.
45
A
Gaff J. Les mentalités... P. 76-94.
и след,
к нему. Поэтому любой историк независимо от целей его иссле-
дования вынужден так или иначе принимать в расчет менталь-
ность людей, создавших изучаемые им тексты и иные памятники
их жизнедеятельности. «Внешняя» источниковедческая критика
достоверности памятника должна быть дополнена «внутренней»
критикой его социально-психологического, культурологического*
содержания.
Общеметодологические следствия постановки проблемы мен-
тальностей не были ясны Февру. Они не вполне ясны, по-види-
мому, и современному поколению школы «Анналов». Конкретное
исследование они ценят выше теоретической рефлексии '
нечно, история — прежде всего эмпирическое занятие и без по-
гружения в материал общие рассуждения мало чего стоят.
Но вместе с тем историческая наука достигла ныне той стадии,
когда в высшей степени необходимо осмыслить аккумулирован-
ный ею опыт и вникнуть более глубоко в смысл того мощного
сториографического направления, которое именуют
историей,
нтальностей или антропологически ориентированной историей
^
Как мы могли убедиться, Февр склонен понимать под мен-
тальностями широкое поле чувств и мироощущений, свойствен-
ных людям в разные исторические периоды. Изучение менталь-
ностей углубляет понимание истории, включая в нее те аспекты
психической жизни, которые до Февра казались константами и
игнорировались историками. Поэтому он считал важным пред-
метом исследования историю самых различных человеческих эмо-
ций. История общественных идей и научных званий, настоятель-
но подчеркивал Февр, должна быть дополнена историей аффек-
тов, исторической психологией.
Этот завет Февра был услышан и воспринят. Ло каким обра-
зом был он реализован? Робер Мандру, специалист по истории
Франции
XVI—XVII
вв., идя в целом в намеченном Февром на-
правлении, набросал широкую картину социально-психологиче-
ской жизни этого периода. Однако Мандру не изолировал исто-
рию эмоций и настроений от общей социальной истории. Эмоцио-
нальность, по Мандру, есть неотъемлемый аспект жизни общест-
ва. Невозможно говорить о социальных классах, не включая в-
это понятие и определенные черты культуры, которой обладали
их члены, их самосознания и образ жизни". Поэтому духовная
жизнь должна быть исследована в тесной корреляции с социаль-
ной действительностью. Перипетии и противоречия последней
" Подробнее см.: Гуревич А. Я. «Новая историческая наука» во Франции:
достижения и трудности: (Критические заметки медиевиста) //История:
47
ЯЖЖР№>ШсМ-яШк<&.Ш&е
des
mentalites.
P. 233.
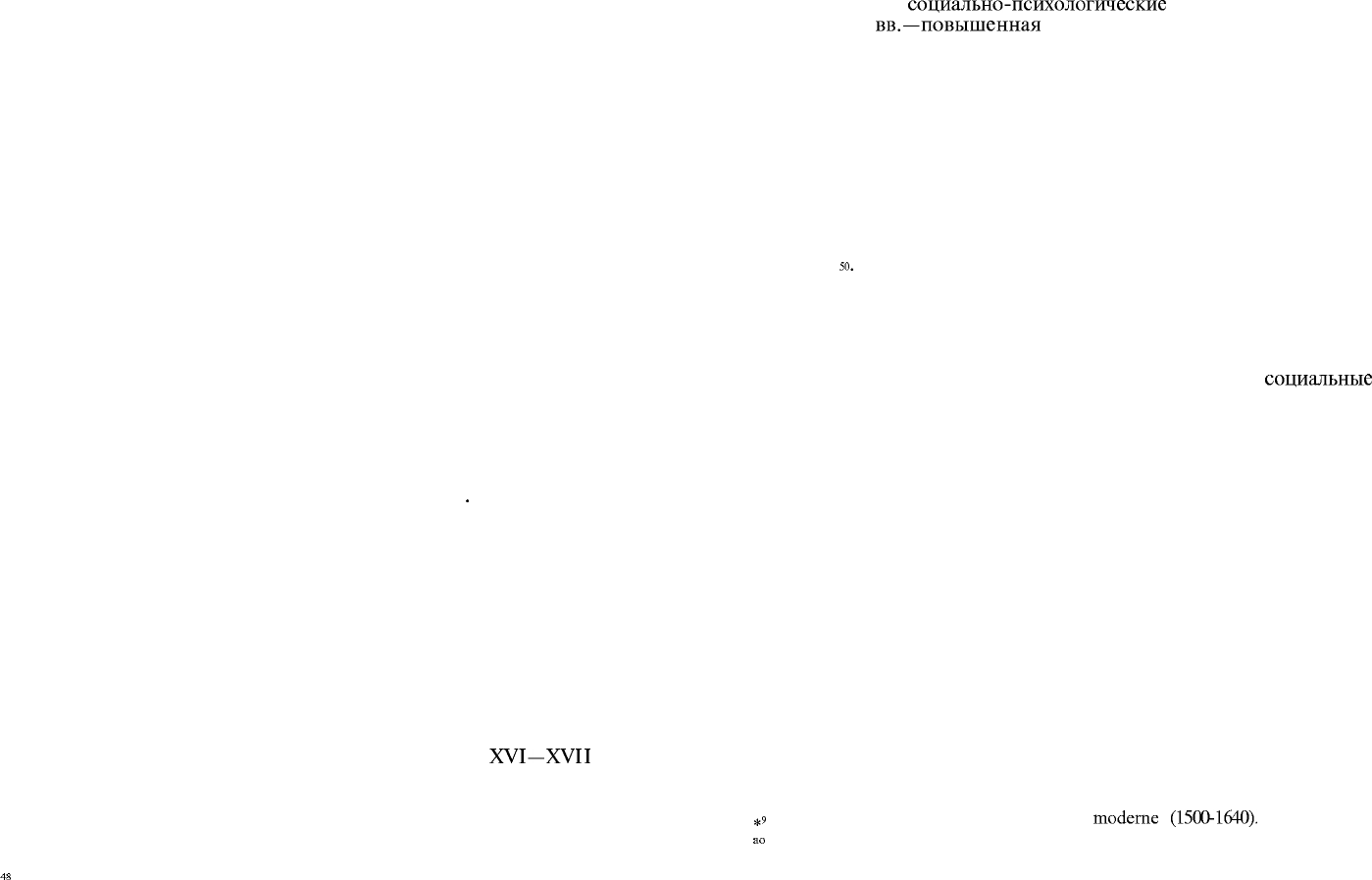
526
Приложение
суть источник тех массовых эмоциональных состояний, которые
наблюдаются во Франции в период Ренессанса, Реформации в
Контрреформации, религиозных войн и коллективных психозов.
Мандру изучал, собственно, те же проблемы, что и Февр, но,
в то время как Февра социальное само по себе не занимало,
Мандру поставил эти проблемы в более емкий контекст — в кон-
текст социальной истории. Тем самым проблема ментальностей
была перенесена в иной план.
Мандру во многом удалось преодолеть статичность картины
эмоциональной жизни Франции, которой отличалось построение
Февра о Рабле. Беспрецедентный по своей остроте социальный
и экономический кризис, разразившийся в «период от Колумба
до Галилея», породил, по убеждению Мандру, кризис психологи-
ческий. В обстановке этого кризиса происходила перегруппировка
основных элементов цивилизации, возникали новые формы освое-
ния мира, природы, складывались новые формы религиозного
чувства и зарождался дух капиталистического предприниматель-
ства. Новые манеры чувствовать и способы осознания человеком;
самого себя можно понять только на этом фоне.
В частности, Мандру прослеживает сдвиги в ментальностях,
происходившие на протяжении XVII столетия: в начале века
идея вмешательства дьявола в повседневную жизнь была повсе-
местно распространена и служила питательной средой для обви-
нения ведьм, которые, по тогдашним убеждениям, служила
дьяволу, и для обоснования их массовых гонений; к концу века
городские магистраты и судьи почти всецело отказались от по-
добных представлений — так на протяжении нескольких десяти-
летий ментальности, распространенные в части французского
общества, пережили глубокую трансформацию
4
"
Мандру последовательно рассматривает такие вопросы, как
питание человека (недоедание было источником повседневных
страхов и повышенной возбудимости), болезни, эпидемии, демо-
графическую ситуацию, выражавшуюся в высокой рождаемости
и высокой смертности, в короткой средней продолжительности
жизни, в преждевременных браках и распространении раннего
вдовства. Он подчеркивает такие приметы тогдашней жизни, как
господство устной информации, порождающей слухи в легенды,
преобладание чувства и инстинктов над интеллектом. Человек
еще не научился ценить время и не овладел природой, от кото-
рой всецело зависел.
Если в трактовке упомянутых сторон жизни
XVI—XVII
вв.
Мандру отчасти идет по стопам Февра, то далее он переходит
к проблематике, чуждой его учителю,— к проблематике собствен-
но социальной. Вопрос о человеке в группе, об их взаимоотно-
шениях, о «фундаментальных солидарностях» — семья, сельский
48
Mandroa R. Magistrate et sorciers en France au XVII
е
A. Я. Гуревич. Уроки Люсъена Февра
52Г
и городской церковный приход, общественный класс — естествен-
но приводит исследователя к новым вопросам — о социальной
обусловленности ментальностей членов этих групп — буржуа,
дворян, ремесленников, крестьян.
Важнейшие
социально-психологические
черты француза в-
XVI и XVII
вв.—повышенная
чувствительность, легкая возбуди-
мость, живость реакций, склонность "к панике, агрессивность —
объясняются Мандру не только особым отношением человека it-
природе, перед которой он испытывал чувство бессилия, что под-
черкивал Февр, но и ростом социальных антагонизмов. «Всякая
историческая психология, любая история ментальностей есть, не-
сомненно, история социальная,— заключает Мандру.— Но вместе
с тем она представляет собой и историю культуры» *'. Мандру
предостерегает: «Претензия на создание изолированной психоло-
гической истории (даже под именем истории идей и чувств, или
социальной истории идей) — предприятие, обреченное на неуда-
чу, ибо история ментальностей — неотчленимая часть тотальной
истории»
50.
Стремление Мандру, как и других медиевистов и специалистов
по ранней истории нового времени, творчество которых началось
в конце 50-х — 60-е годы,— Жоржа Дюби, Жака Ле Гоффа,
Эмманюэля Леруа Ладюри,— к построению «тотальной» истории
выражается в осознанном намерении обнаружить
социальные
-
основы психологии людей — членов групп и классов и в выявле-
нии воздействия их психологии на социальное поведение. Прин-
цип, провозглашенный Февром,— изучать человека в обществе и
общество как организацию живых, чувствующих людей — нашел
реализацию в трудах этих и многих других историков. Тем самым
история ментальностей сделалась неотъемлемым компонентом со-
циальной истории, и само понятие «социальная история», как-
уже было упомянуто, обрело новое, более емкое содержание.
Разумеется, не все историки, воспринявшие призывы Февра
г
пошли этим путем. Школа «Анналов» в теоретическом отноше-
нии неоднородна и включает в себя ученых весьма различных
философских ориентации, вследствие чего ее представители не-
охотно называют свое направление «школа», предпочитая ему
более расплывчатое определение «Новая историческая наука».
Альфонс Дюпрон склонен интерпретировать историю коллек-
тивной психологии преимущественно под углом зрения изучения
внутреннего смысла человеческих творений, побуждений их созда-
телей, в том числе и подсознательных, обнаружения ценностей,
мифов и архетипов, лежащих в основе литературных и изобрази-
*9
Mandroa R. Introduction a la France
moderne
(1500-1640).
P. 353.
so
Ibid. P. 366. Ср.: Mandrou R. Le baroque europeen: Mentalite pathetique et
révolution sociale // Annales. E.S.C. 1960. N 5; Idem. Histoire sociale et his-
toire des mentalités. P. 225-235.
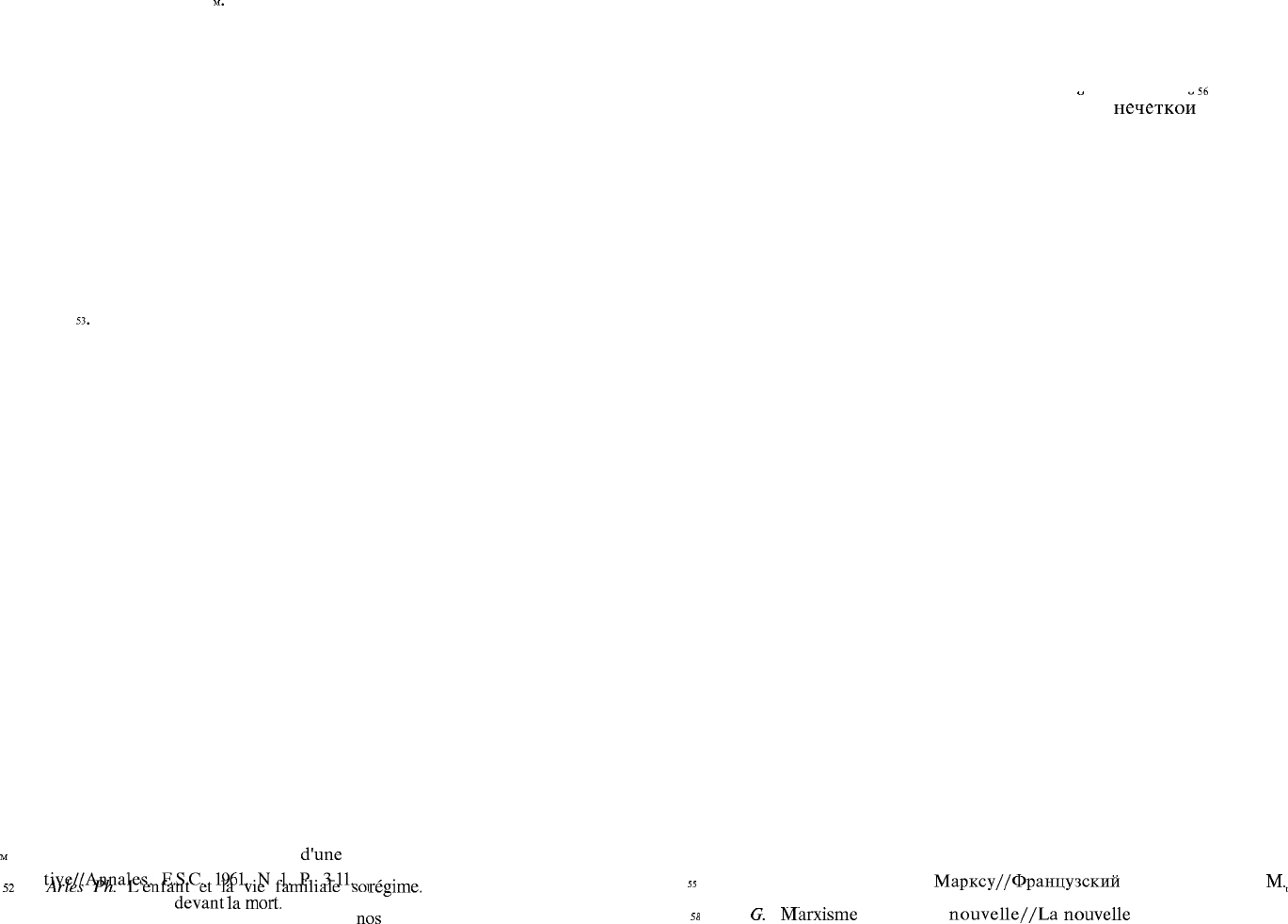
528
Приложение
тельных памятников -
Но эта
коллективная психология едва
ли представляет собой в глазах Дюпрона психологию людей, ко-
торые включены в конкретные социальные коллективы.
Изучая структуру семьи и отношение к ребенку при Старом
порядке и сделав ряд в высшей степени важных наблюдений от-
носительно специфики понимания детства в конце средневековья
и в начале нового времени, Филипп Ариес принял установки,
складывавшиеся в среде дворянства и буржуазии, за установки,
якобы типичные для французской цивилизации в целом
52.
И точно так же, рисуя широкую картину изменений отношения
европейцев к смерти на протяжении средневковья и нового вре-
мени, Ариес изолировал ее от развития общества и, по сути дела,
пренебрег различиями в восприятии смерти, существовавшими в
разных социальных слоях; умонастроения, связанные со смертью,
выявленные им посредством анализа памятников, которые воз-
никли в среде образованных, он распространил на всю толщу на-
селения
53.
Напротив, Мишель Вовель, изучая ту же проблему смерти
как меняющегося социально-психологического феномена, проде-
монстрировал существенные различия в ее оценке и пережива-
нии в разных социальных стратах. Общественная структура
в конечном счете находила свое выражение и в неодинаковых
концепциях смерти. Глубокие философские расхождения между
Ариесом и Вовелем выразились и в выборе контекста, в котором
эта проблема рассматривалась: Вовель изучает ее более много-
мерно, нежели Ариес,— в планах социальном, демографическом,
религиозно
^
и художественном ".
Вовель — марксист, тогда как Ариес весьма далек от марк-
сизма. Довольно чужд этому учению был и Февр — при всем его
абстрактном уважении к создателю исторического материализма.
Отмеченные выше сдвиги в трактовке ментальностей, происшед-
шие во французской историографии со времен Февра, в извест-
ной мере связаны с тем, что следующее за ним поколение исто-
риков, не сделавшихся марксистами и не приемлющих, как они
сами утверждают, любую «философию истории» (заблуждение,
и не безопасное!), испытало на себе влияние Маркса. «Мысль
Маркса присутствует во всех моих работах и до сих пор играет
и них значительную роль... Я изучаю системы ценностей, идео-
логии, условия художественного творчества с таким чувством,
будто продолжаю или, во всяком случае, не отрываюсь от идей
I.
м
uupront A. Problemes, et methodes
d'une
histoire de la psychologie collec-
52
№i^
R
^Mftt^K^flvRliMhous
l'ancien
regime.
P., 1960.
52 A rles Ph. L'homme
devant
la
mort.
P., 1960.
5i Vovelle M. La mort et l'Occident de 1300 a
nos
jours. P., 1983,
А. Я. Гуревич. Уроки Люсъена Февра
529
Маркса». Таково признание крупнейшего современного француз
^
-ского медиевиста Жоржа Дюби
55.
Дюби являет собой скорее предельный случай, когда граница
между мировоззрением историка, связанного со школой «Анна-
~
~5б
но едва
лов», и марксизмом делается проницаемой и
нечеткой
'
ли можно отрицать, что и другие ведущие историки этого на-
правления, каковы бы ни были их заявления относительно марк-
систской догматики и негибкости (заявления, в немалой степени
обоснованные, если заглянуть в иные труды как французских,
так и наших отечественных «марксистов», во многом выхолостив-
ших живое содержание из исторического материализма), испы-
тали на себе в послевоенный период плодотворное влияние
Маркса. Приходится признать: сотрудничество марксистов с пред-
ставителями «Новой исторической науки» было бы более эффек-
тивным, если б не сектантская позиция части наших историков
(я имею в виду прежде всего официальных руководителей «исто-
рического фронта» 50-х — начала 80-х годов), которые почти не-
изменно отмежевывали себя от школы «Анналов» и видели в них
своих «идейных противников», притом чуть ли не наиболее
«опасных» в силу их неоспоримого влияния на западную исто-
риографию.
Мы видим, что «тотальная» история в интерпретации совре-
менных французских историков приобретает иной смысл, неже-
ли тот, какой она имела в исследованиях самого Февра. В науку
пришло новое поколение, которое смотрит на мир иными глаза-
ми, чем их предшественники и учителя. Соответственно измени-
лось и понимание ментальностей. Фундаментальной гомогенности
мыслительных установок и способов чувствовать, присущей изу-
чаемой эпохе,— предпосылка, из которой исходили как Февр, так
и Ариес и Дюпрон,— другие историки противопоставляют со-
циально дифференцированную картину эмоционального мира и-
«психической вооруженности» людей, принадлежавших к разным
социальным стратам и классам.
Но исследование меитальностей историками, вступившими в
науку после Февра, отличается и более широким фронтом работ.
Если трудно говорить о согласованной и продуманной стратегии
научного поиска, то, во всяком случае, можно утверждать: ныне
в поле зрения историков, притом не одних лишь французских,
но и итальянских, западногерманских, американских, польских,
английских, включен комплекс тем, которые до недавнего време-
ни оставались, по существу, вне их внимания. Каковы эти темы?
Уже беглый их перечень свидетельствует о необычайно широком
диапазоне интересов историков ментальностей. «Территория исто-
55
Дюби Ж. Мое отношение к
Марксу//Французский
ежегодник, 1983.
M.
t
58
Вот
G.
Marxisme
et histoire
nouvelle//La
nouvelle
histoire. P. 375-393.
Vais Л. Февр

sso
Приложение
рика» мощно раздвинула свои пределы, и эта экспансия истори-
ческой мысли на ранее не затронутые ею области продолжается.
Все эти темы отражают определенные стороны картины мира,
присутствующей в сознании человека изучаемой эпохи и зало-
женной в него культурой, традицией, языком, образом жизни.
Картина эта многообразна, по сути дела, неисчерпаема. Назовем
темы, сравнительно недавно сделавшиеся предметом пристального
изучения:
— отношение членов данного общества и входивших в него
классов к труду, собственности, богатству и бедности;
— образ социального целого и оценка разных групп, разря-
дов, классов и сословий;
— понимание природы права и обычая, значимости права как
социального регулятора;
— образ природы и ее познание, способы воздействия на
нее — от технических и трудовых до магических;
— понимание места человека в общей структуре мироздания;
— оценка возрастов жизни, в частности детства и старости,
восприятие смерти, болезней, отношение к женщине, роль брака
и семьи, сексуальная мораль и практика, то есть все субъектив-
ные аспекты исторической демографии, отрасли знания, рабо-
тающей на границе культуры и природы, биологии и менталь-
ности;
— отношение мира земного и мира трансцендентного, связь
между ними и понимание роли потусторонних сил в жизни ин-
дивидов и коллективов — тема, в высшей степени существенная
при рассмотрении религиозного миросозерцания, преобладавшего
на протяжении большей части человеческой истории;
— трактовка пространства и времени, которые вплоть до срав-
нительно недавней эпохи воспринимались не как абстракции,
а в качестве могущественных сил, этически окрашенных и воз-
действующих на человека;
— восприятие истории и ее направленности (прогресс или
регресс, повторение или развитие), притом не одно осмысление
истории профессионалами — хронистами, теологами, схоластами,
во и более непосредственное переживание ее обыденным созна-
нием;
— разные уровни культуры, их конфликты и взаимодействие,
в особенности соотношение официальной, интеллектуальной куль-
туры элиты, имевшей доступ к знаниям, с народной, или фольк-
лорной, культурой;
— формы религиозности, присущие «верхам» и «низам», об-
разованным и неграмотным;
— психология «людей книги» и психология людей, живших
в условиях господства устного слова и соответственно по-своему
воспринимавших и перерабатывавших информацию;
: — социальные фобии и иные негативные эмоции, коллектив-
~
А. Я. Гуревич. Уроки Люсъена Февра
531
ные психозы и напряженные социально-психологические состоя-
ния;
— соотношение «культуры вины» и «культуры стыда», то·
есть ориентации на внутренний мир или на социум;
— история праздников и календарных обычаев, ритмизиро-
вавших жизнь коллективов;
— узловой вопрос истории ментальностей — человеческая
личность как структурная единица социальной группы; мера ее
выделенности и индивидуализации или, наоборот, включенности
и поглощенности социумом; способы самосознания личности;
— осознание национальной, племенной, государственной иден-
тичности, национальные противоречия и заложенные в них сте-
реотипы, их использование государством и всякого рода социаль-
ными манипуляторами.
В конечном итоге все аспекты изучения истории менталь-
ностей, сколь гетерогенными и разбросанными они ни кажутся
на первый взгляд, стягиваются как к единому центру к личности
человека, которая структурируется в зависимости от типа куль-
туры.
Как явствует из приведенного и далеко не полного перечня
тем (в принципе открытого и пополняющегося новыми пробле-
мами), в поле зрения историков ментальностей стоят человек и
его поведение, детерминируемое и условиями материальной жиз-
ни, и культурной традицией, способом мировосприятия. Поэтому
современное исследование ментальностей осознает себя в качест-
ве культурно-исторической антропологии, или антропологически
ориентированной истории.
Повторяю, отдельные специалисты изучают ту или иную иа
названных проблем, и по временам наблюдается крен в рассмот-
рении какой-либо одной из них. Так, в 70-е годы под влиянием
работ Ф. Ариеса историография пережила своего рода «бум»,
связанный с повышенным вниманием к вопросу восприятия
смерти и переживания ее в средние века и в начале нового вре-
мени. Это увлечение вызвало недоумение скептиков, усмотрев-
ших в нем не более чем дань моде. Однако М. Вовель с полным
основанием возражал: интерес к изучению установок людей дан-
ного общества по отношению к смерти и потустороннему миру
отнюдь не поверхностная и скоропреходящая мода. Исследование
этого нового и «экзотичного» для историков предмета дало воз-
можность глубже понять коренные установки в отношении к
жизни ". Добавим, что анализ трактовки смерти и потусторон-
него мира проливает новый свет и на природу народной рели-
гиозности — важнейшую проблему, изучение которой началось
сравнительно недавно и уже принесло ценные результаты.
Vovelle M. Encore la mort:
un
peu
plus
qu'une
mode//Annales.
E.S.C.
1982.
J\
л.
18*
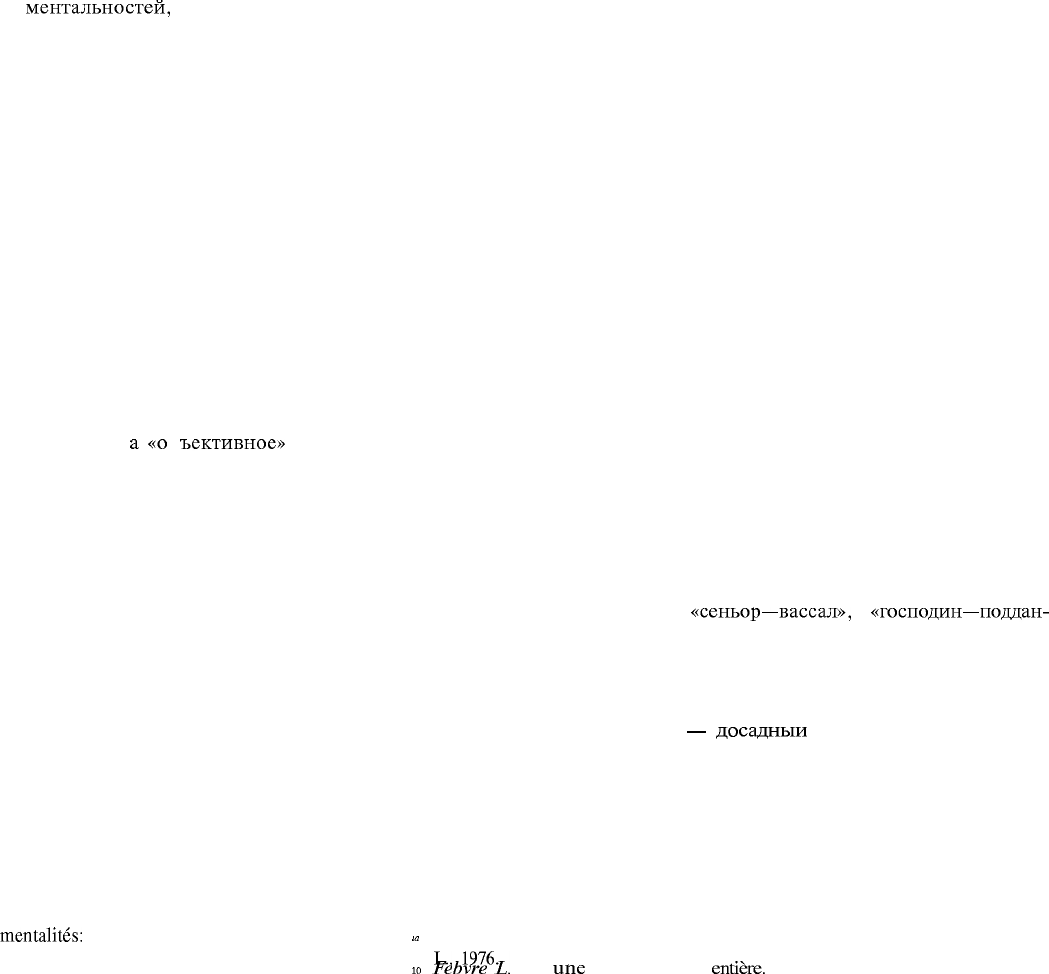
ъзх.
Приложение
Взятые в целом все темы истории
ментальностей,
на первый
взгляд кажущиеся хаотичным конгломератом не связанных меж-
ду собой вопросов, должны быть осмыслены как аспекты стихий-
но складывающейся стратегии историко-антропологического изу-
чения человека. В совокупности рассмотрение всех этих аспек-
тов картины мира и поведения людей прошлого дает возможность
построения истории именно как человеческой истории. Что это,
как не выполнение требования Февра, но в плане, который едва
,ли четко осознавался им самим?
Мощно расширяющаяся тематика исторического исследования
нацелена преимущественно на раскрытие восприятия действи-
тельности, которое было присуще человеку изучаемой эпохи,
в конечном счете на раскрытие его самосознания. Таким образом,
историческое исследование приобретает новое измерение: наряду
с «внешним» описанием феноменов прошлого, как они видятся
современным историком, вырисовывается образ человека, мира и
общества, который витал в сознании людей прошлого.
По словам Ж. Дюби, общество характеризуется не одними
только экономическими основами, но и вырабатываемыми и раз-
виваемыми им представлениями о себе самом, ибо люди ведут
себя в соответствии не с действительными условиями жизни,
а с тем образом ее, который они составили
58.
Н
а
«о
б
ъективное»
изображение истории в понятиях и категориях современной нау-
ки накладывается «субъективное» понимание самих этих людей,
их видение мира. Координация этих весьма различных точек зре-
ния делает картину истории стереоскопичной, более правдивой,
ибо дает историкам возможность избежать модернизации, при-
писывания людям иной эпохи мыслей и чувств, присущих отнюдь
не им, а нашим современникам.
Изучение сменяющихся картин мира властно побуждает исто-
риков действовать именно так, как повелевает им самая природа
их ремесла,— изучать свой предмет не в качестве внешнего
«объекта», наподобие естественнонаучным объектам, но таким,
каков он по своей сути, в качестве мыслящего и чувствующего
субъекта, собеседника, участника диалога между прошлым и на-
стоящим. История не наука о политико-экономических абстрак-
циях и не «социальная физика», это наука о живых людях и
коллективах, в которые они были организованы, и, следователь-
но, историк, намеревающийся раскрыть тайны прошлого, не мо-
жет не обращаться со своими вопрошаниями к людям, некогда
жившим, и пытаться завязать с ними диалог, то есть задать со-
хранившимся источникам интересующие его вопросы и попытать-
ся расслышать ответы этих людей, расшифровать их послания.
Duby G. Histoire sociale et histoire des
mentalites:
Le Moyen Age//Aujour-
d'hui l'histoire. P. 206; Idem. Histoire sociale et idéologies des sociétés//
Faire de l'histoire. I. P., 1974. P. 147-168.
A. Я. Гуревич. Уроки Люсьена Февра
533'
Констатируя мощное расширение проблематики исторического'
изучения ментальностей во французской историографии на про-
тяжении последних двух десятилетий, отмечу, что многие прин-
ципы, отличающие современную школу «Анналов», так или ина-
че уже были выдвинуты ее основоположниками. Когда Т. Стоя-
нович, исследовавший «парадигму» «Анналов», спросил Броделя,,
когда эта «парадигма» сложилась — после второй мировой войны
или же еще в период сотрудничества Февра с Блоком в
30-е годы, Бродель ответил: принципиальные установки «Новой
исторической науки» были обоснованы создателями «Анналов»
59
Это заключение нуждается тем не менее в оговорках и уточне-
ниях.
В картине мира, которая выясняется по мере рассмотрения
указанных выше и иных вопросов, объединяются социальные,
культурно-религиозные и природные, биологические аспекты ис-
торической жизни. Февр еще не был готов к разработке столь-
всеобъемлющей программы исследования, поскольку недооцени-
вал значимости социально-экономических ее сторон. Центр тяже-
сти в его анализе — в сфере элитарной культуры, главные пер-
сонажи его исследований — выдающиеся фигуры Ренессанса и
Реформации. Хотя он и стремился разглядеть в них квинтэссен-
цию психологических черт человека изучаемой эпохи, «дух вре-
мени», проблема личности, как она виделась Февру, сводилась-
преимущественно к проблеме исключительной, яркой индивиду-
альности. Для понимания структуры личности ему требовалась-
встреча с конкретным индивидом.
Как не вспомнить в этой связи критику Февром книги Марка
Блока «Феодальное общество»! Приведя мысль Блока о том, что
в феодальную эпоху доминировал тип прямых, неанонимных со-
циальных отношений типа
«сеньор—вассал»,
«господин—поддан-
ный», основанный на личном служении и покровительстве, вслед-
ствие чего «абстрактная идея власти была слабо отделена от
конкретного облика властителя», Февр выражал свое неодобри-
тельное изумление: во всем обширном двухтомном произведении'
Блока нет ни одной характеристики личности какого-либо сеньо-
ра или государям
.
° °
~~
Я°
са
№
ъш
пробел, упущение Блока
или вполне осознанный прием? Я полагаю, что это — выражение-
метода Блока — социального историка. Он восстанавливает жи-
вую ткань феодального общества как целостности, и личность
средневекового сеньора вырисовывается на страницах его труда*
со всей определенностью и вполне конкретно. Блоку чужд аб-
страктно-юридический подход к анализу правовых и социальных
институтов феодализма, столь распространенный в современной
,<•
Stoianovich T. French Historical Method: The «Annales» Paradigm. Ithaca;
io
k™L
Pour
une
histoire a part
entiere.
P., 1962. P. 424.
18 Л. Февр

534
Приложение
ему (а отчасти и в позднейшей) историографии, он рассматривает
феодальное общество как человеческое общество, как систему
связей между людьми.
Однако для Блока и других историков, сосредоточивающих
свое внимание на социальных структурах и ментальностях столь
удаленной от нас эпохи, как средневековье, с ее специфическим
репертуаром исторических памятников, изучение личности и ее
особенностей означает не знакомство с теми или иными конкрет-
ными персонажами «переднего плана» (королями, крупными:
господами, писателями, теологами), которых все же удается в
этих памятниках разглядеть, а нечто совершенно другое. Восста-
навливается картина мира — не в виде достояния лишь конкрет-
ного индивида, но в качестве параметров личности, предлагаемых
человеку его культурой. Индивид усваивает ее — через язык,
воспитание, социальное общение, в своем жизненном опыте. Каж-
дый отдельно взятый член общества усваивает от этой картины
столько, сколько способен вместить. Картина мира лишь возмож-
ность, мера овладения ею зависит от конкретных условий и ин-
дивидуальных качеств человека, и она присутствует в его созна-
нии и подсознании, проявляясь в его поведении независимо от
того, в какой мере он знает о ее существовании. Даже не имея
представления о том, что такое картина мира (подобно тому как
мольеровский Журден не подозревал о том, что говорит прозой),
индивид руководствуется ею в своих мыслях и делах и не может
не руководствоваться ею, как не может не дышать. Все социаль»
ное и культурное поведение, весь облик людей — членов обще-
ства определяется этой латентной и спонтанно обнаруживающей-
ся картиной мира, заложенной в их сознание социально-культур-
ной традицией и неприметно для них самих видоизменяемой ими
в процессе общественной практики. Ментальность выражает
внеиндивидуальную сторону личности.
Но Февр критиковал Блока как раз за «социологизм», за не-
достаточное внимание к чувствам людей изучаемой им феодаль-
ной эпохи. Таким образом, в трудах Февра и Блока воплотились
два весьма различных подхода к изучению истории. Этим двум
подходам соответствуют и два несхожих понимания культуры.
Согласно «элитарному» пониманию Февра, культура — это твор-
ческий процесс, в котором участвуют поэты, писатели, мыслите-
ли, религиозные деятели, реформаторы, и в их сочинениях нахо-
дит свое наиболее полное и эксплицитное выражение процесс
цивилизации. Эволюционируя, цивилизация поднимается на новую
качественную ступень. Ментальность изученных Февром людей
«алогична», «прелогична» и потому столь разительно отличается
от современной ментальности, которая предполагается логичной
и рациональной. Иными словами, процесс цивилизации предстаег
умственному jaopy Февра в виде прогрессивного восхождения от
• низших форм к высшим.
А. Я. Гуревич. Уроки Люсьена Февра
53&
Соответственно Февр предпочитал говорить о менталыгости
общества, взятого в целом. Между тем современные историки
школы «Анналов», следуя в данном отношении скорее Блоку, не-
жели Февру, осознают различия в ментальностях отдельных со-
циальных слоев и групп. Наряду с мыслительными установками,,
которые так или иначе разделяют все члены общества в данный
период, и «духовной вооруженностью», присущей этой эпохе, су-
ществуют немаловажные особенности сознания крестьян и бюр-
герства, светских аристократов и духовенства, купцов и интеллек-
туалов ". Ныне изучение ментальностей теснейшим образом свя-
зано с исследованием социальной структуры, включается как ком-
понент в социальное исследование. И здесь для современных
представителей «Новой исторической науки» более плодотворен'
опыт Блока, нежели Февра.
В противоположность эволюционному подходу Февра социо-
логический подход Блока диктует необходимость анализа раз-
личных явлений, принадлежащих одной эпохе, в их взаимных
связях и обусловленности. Каждое общество обладает собствен-
ным неповторимым лицом, и сравнение разных обществ — а Блок~
был энергичным поборником разумного компаративизма — спо-
собствует выявлению как общего, так и особенностей каждого из
них. Но это сопоставление лишено у Блока оценочных суждений.
Поэтому им не фетишизируется понятие «эволюция». В заметке-
о тексте «Апологии истории», которую Февр опубликовал после-
трагической гибели друга, он писал: «Если не ошибаюсь, во всей
,,
ег.
Февр
оши-
книге ни разу не произнесено слово „эволюция » е
бался: слово «эволюция» можно найти в этой книге, как и в дру-
гих трудах Блока. Но то, что Февр ощутил подобный пробел в
рукописи «Апология истории», симптоматично для понимания его·
собственного способа мышления.
Эволюцию Блок и Февр понимали неодинаково. Для Февра
она представляла некое саморазвитие культуры или цивилизации
(во французском языке в отличие от немецкого или русского это,
собственно, синонимы). Для Блока же эволюция не более чем
научная абстракция, которой он не склонен был придавать цен-
ностного значения. Ибо понятие «культура» Блок интерпретиру-
ет скорее в антропологическом или этнологическом смысле — это
4i
Б
изданном под редакцией и со вступительной статьей Ж. Ле Гоффа
сборнике «Человек средневековья» десять медиевистов из разных стран
Европы дают очерки, характеризующие монаха, рыцаря, крестьянина»
горожанина, интеллектуала, художника, купца, женщину, святого и мар-
гинала. Все эти представители разных классов, сословий и групп обще-
ства имеют нечто общее, но вместе с тем обладают собственным социаль-
ным и социально-психологическим обликом, и история их на протяже-
нии
XI—XV
вв. отличалась немаловажными особенностями. См.: L'uom»
к.
®$№Ъ'&Ш&сШ&^Шт£ШШсь
«Ремесло историка» //,
Блок М. Апология истории. С. 118.
18*
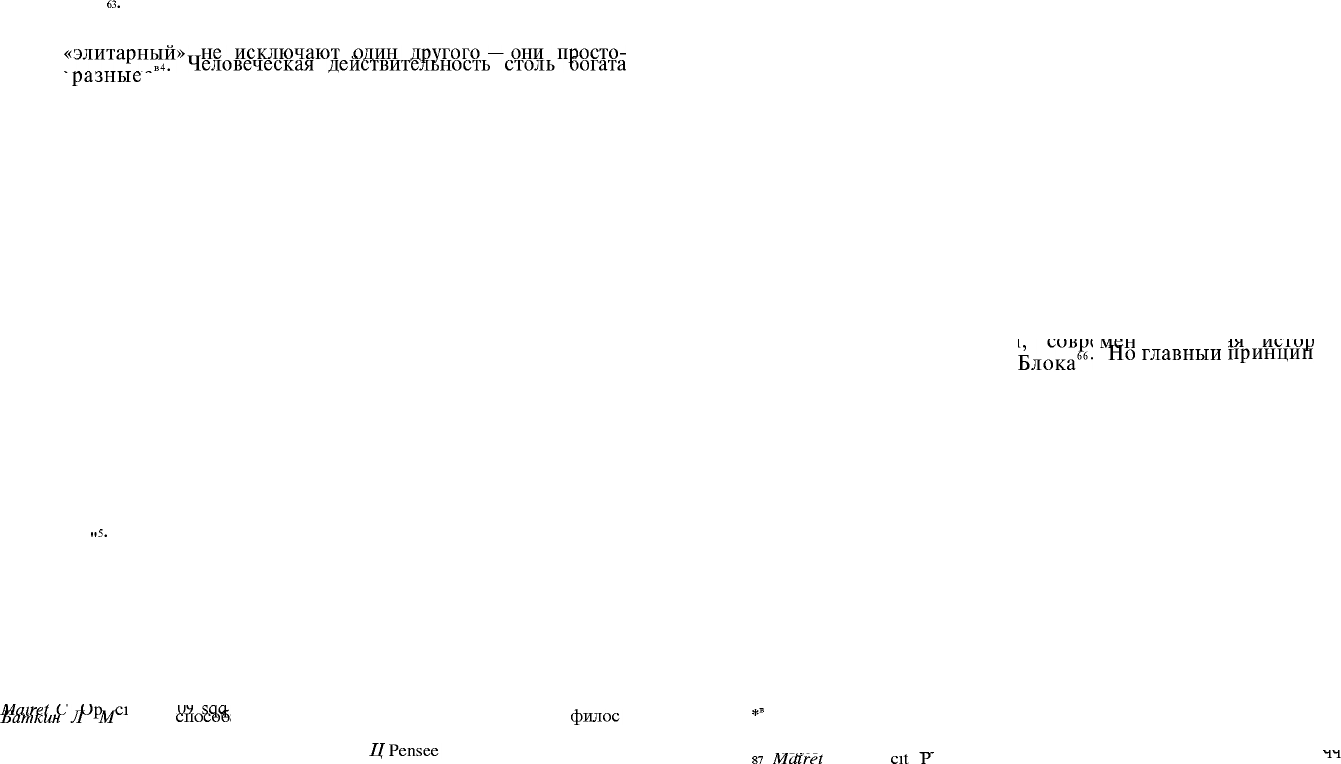
Г>36
Приложение
образ жизни и мышления людей данной социальной общности,
неотъемлемый компонент социальной системы. Культура не ог-
раничивается суммой индивидуальных творений великих людей,
ибо обычаи, нравы, верования, привычки сознания, способы миро-
восприятия, картина мира, запечатленная во всех созданиях че-
ловека и в первую очередь в языке,— все это выражает духов-
ную жизнь людей и должно быть изучено как для ее понимания,
так и для уяснения способа функционирования общества.
Итак, для Блока человек в качестве предмета исторического
исследования — человек в обществе, для Февра же — человек в
цивилизации
63.
«Социологический», илиисторико-антропологический, подходи
подход
«элитарный»
ч
^
о
^^
88
^^
ей
а
ЖтаШйь
-
(Шь
п
88Ж
напросто
разныев4.Человечес
и неисчерпаема, что требует различных интерпретаций, и чем
больше подходов у исторической науки, тем более многогранной
делается картина истории. По какому из этих путей пошла школа
«Анналов» после Блока и Февра? Вопрос далеко не праздный.
Ключевое слово для «Новой исторической науки» нашего вре-
мени — «ментальность». То, что начинали Февр и Блок, разви-
вают их «внуки». Все ведущие современные французские исто-
рики, в том числе и те, кто. подобно Ж. Дюби или Э. Леруа
Ладюри, много сил отдали изучению аграрной истории, ныне со-
средоточивают свои исследования на ментальностях людей прош-
лого. Одно время могло казаться, что интерес к ментальностям
характерен для историков, далеких от марксизма; ныне же марк-
систом Вовелем прямо сказано, что старое «разделение труда»,
основанное на молчаливом «джентльменском соглашении» меж-
ду историками-марксистами и историками, далекими от марксиз-
ма, по которому первые разрабатывают проблемы социальной
и экономической истории и классовой борьбы, отдавая вторым
«на откуп» изучение общественной психологии и истории эмо-
циональной жизни,— это «разделение труда» отошло в прошлое,
ибо современное марксистское историческое исследование не мо-
жет пренебрегать духовной жизнью во всех ее видах и на всех,
ее уровнях
"
5.
Сознавая, что у истоков этого направления стояли Февр и
Блок и что именно Февр с особой настойчивостью подчеркивал
важность подобных исследований, отмечу вместе с тем, что ин-
терпретация истории ментальностей современными историками
идет преимущественно в том ключе, в каком ее понимал Блок.
В самом деле, Февр мечтал о создании истории эмоций: истории
РаШтк"Лг^И?
1
Два
спо?;%%'
'а изучать историю культуры /7 Вопр.
филос.
collectif?
ДРешёе.
1979. N 205. Р. 125«
131.
A. Я. Гуревич. Уроки Люсъена Февра
537
радости, смеха, страха, жестокости, жалости, любви, отношения
к смерти и т. п. Ныне такая формулировка задачи историков
ментальностей кажется весьма сомнительной. Человеческие эмо-
ции исторически изменчивы, и тем не менее не существует и не
может существовать автономной, самодовлеющей истории какой-
либо из эмоций или социально-психологических моделей. Они
представляют собой, повторю это со «сей настойчивостью, неот-
чуждаемые аспекты общественной жизни и могут быть верно
поняты только в ее недрах, в ее общем контексте, в качестве
компонента социальной системы.
Современное историко-культурологическое исследование видит
свою задачу не в разработке истории ментальностей, как она
представлялась Февру. а в постижении характера и функции
ментальностей в совокупном движении исторической жизни.
Менталыюсти, которые историки могут обнаружить — в сотруд-
ничестве с лингвистами, демографами, психологами, историками
искусства, литературы, этнологами, фольклористами,— образуют
а
в каждую данную эпоху некую целостность, сложную и противо-
речивую картину мира, и на реконструкции разных картин мира
в разных цивилизациях и в разные периоды истории и направ-
лены усилия представителей «Новой исторической науки».
Этот подход восходит к Марку Блоку, к социологическому
взгляду на историю. Именно поэтому социальные и аграрные ис-
торики логикой собственных исследований были подведены к
осознанию необходимости обратиться к изучению картин мира,
социальной психологии людей прошлого.
Само собой разумеется, современная «Новая историческая
наука» далеко ушла и от
Блока
1
^
^°
главный
принцип
Блока-
историка — «тотальная» социальная история — остается прин-
ципом, которым руководствуются такие несхожие ученые, как
Эрнест Лабрусс и Пьер Вилар, Жорж Дюби и Эмманюэль Леруа
Ладюри, Жак Ле Гофф и Робер Мандру, Мишель Вовель и Жан-
Клод Шмитт, Натали Земон Дэвис и Карло Гинзбург, Франти-
шек Граус и Бронислав Геремек, Питер Берк и Рольф Шнран-
дель.
Высказывалось суждение, что правильнее было бы говорить
не об одной школе «Анналов», а о двух — школе Марка Блока
и школе Люсьена Февра "*. Сомнительно, слишком многое их
объединяло, особенно в борьбе против традиционной позитивист-
ской историографии и за обновление исторической науки.
Но тщетно было бы и недооценивать существенные различия R
принципиальных установках и методах обоих ученых, в самом
стиле их мышления.
*. См. критические замечания Ж. Ле Гоффа по поводу методов, применен-
ных Блоком в его книге «Короли-целители»: Bloch M. Les rois thauma-
turges. Nouvelle éd. / Préface de J. Le Goff. P., 1983. P. XXVI sqq.
87
Mcuret G. Op.
cit.
P.
96.
nn
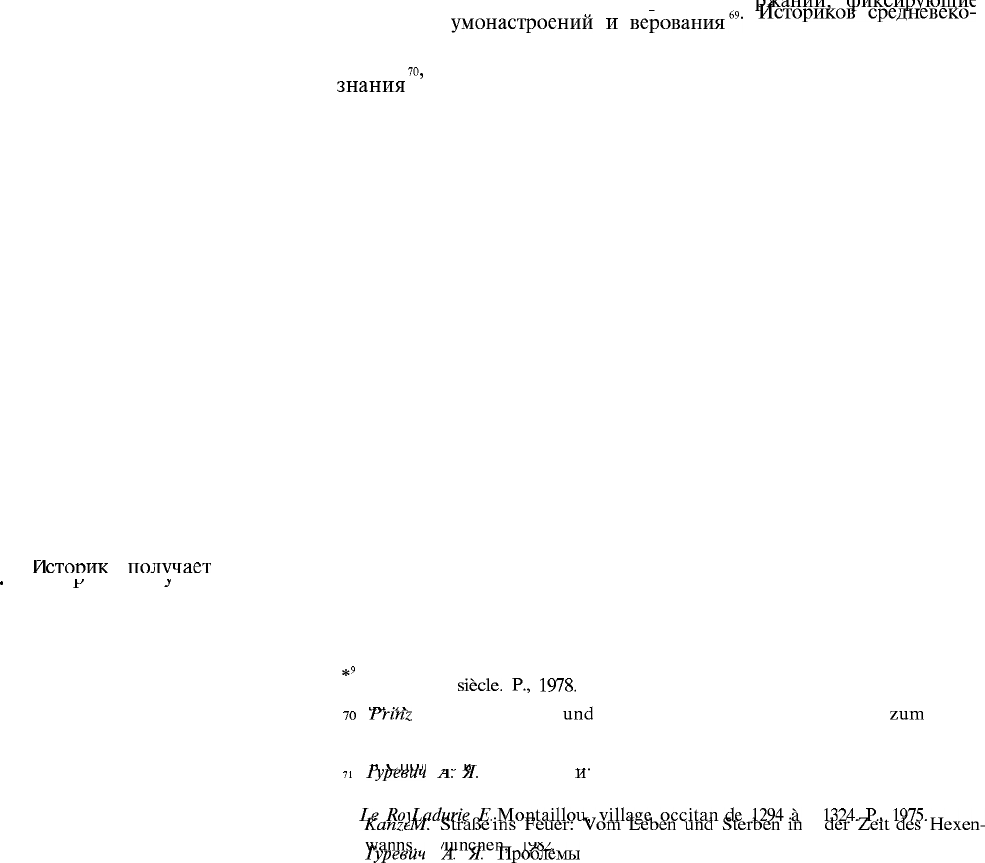
538
Приложение
Если отвлечься от внезапных «конъюнктурных» сдвигов и
взрывов, которые время от времени происходят в коллективном
сознании, то придется констатировать, что ментальности обычно
изменяются медленно, исподволь, незаметно для их носителей.
Картина мира, или видение мира,— категория в высшей степени
устойчивая. По выражению Броделя, ментальности суть «темни-
цы, в которые заточено время большой длительности». Менталь-
ности, утверждает Ле Гофф,— это то, что медленнее всего изме-
няется в истории. Но это отнюдь не значит, что ментальности
неподвижны. Они переживают перевороты, но перевороты эти,
как заметил Февр, «бесшумные», и историки обычно их не ре-
гистрируют.
Историю принято понимать как науку об изменениях, не об-
ращая внимания на то, что изменения эти неравномерно охваты-
вают разные стороны жизни общества и различные его слои, что
в действительности речь должна идти не об едином и гомогенном
1
времени хронологических таблиц, но о «спектре» времен, в кото-
рых движутся те или иные уровни социального целого. При одно-
стороннем изучении социальной динамики оставляют в тени те
мощные пласты «глубокого залегания» общественной жизни, ко-
торые подчиняются особым ритмам, не совпадающим с ритмами
политической, событийной истории. Именно история, включаю-
щая в себя изучение картин мира, ментальных состояний, помо-
гает высветить эти пласты.
Внедрение в историческое исследование понятия «менталь-
ность» представляет важнейшее научное завоевание. Историки
предшествовавшего времени на слово верили текстам источников,
ограничиваясь формальной критикой их достоверности. Изучение
ментальностей, т. е. такого слоя человеческого сознания, который
не прорефлектирован, не осознан полностью, потаен от самих его
6S
И
CTODTTK
ТТОЛУЧЯСТ
носителей, открывает новые перспективы
"
F J
A. S. Гуревич. Уроки Люсьена Февра
т
6
носителей, открывает новые перспективы
возможность проникнуть в тайники общественного сознания, уви-
деть в нем то, о чем, возможно, не догадывались сами обладатели
этих тайн. Тем самым исследователи ближе подходят к подлин-
ным побудительным причинам поступков людей, не ограничиваясь
декларируемыми ими заявлениями, которые вполне могут быть
не только намеренным обманом, но и самообманом, иллюзией;
историки вскрывают социально-культурные автоматизмы поведе-
ния индивидов и групп.
Для изучения этого потаенного пласта общественного созна-
ния нужны источники, дающие возможность выявлять констан-
ты, стереотипы, повторяющиеся и типичные феномены и ситуа-
ции. Нужны массовые однотипные источники. Ныне историки
">" Le Goff J. L'histoire nouvelle//La nouvelle histoire. P. 213, 238.
ментальностей широко используют, в частности, такие памятни-
ки, как завещания — многотысячные серии духовных грамот, до-
кументов, относящиеся к значительным группам людей и прости-
рающиеся на длительные временные отрезки, что дает возмож-
ность обнаружить как константы, так и неприметные для их
составителей сдвиги в формулярах и содержании, фиксирующие
изменения
умонастроений
и
верования
69
'
Жторико»'средневеко-
вой религиозности привлекают жития святых, в которых наряду
с индивидуальными чертами могут быть вскрыты стереотипы со-
70,
проповеди, назидательные «примеры», включенные в
ЗНЗ.НИЯ
проповеди и иллюстрирующие их поучения,— в этих произведе-
ниях монахов и священников, адресованных прихожанам, можно
проследить своего рода «обратную связь» с духовным универсу-
мом этих последних, отражение их понятий, верований и чая-
ний ". Анализ протоколов инквизиции, в которых запечатлены
допросы еретиков ", и судов, рассматривавших обвинения в ве-
довстве ", при всей их специфике — показания от подсудимых
добывались под пыткой или под ее угрозой — в свою очередь, про-
ливает свет на определенные черты массовой ментальности.
Метод исследования памятников элитарной культуры, кото-
рым пользовался Февр и который привлекает многих других ис-
ториков, как кажется, менее подходит для вскрытия ментально-
стей, поскольку в такого рода памятниках индивидуальное пре-
обладает над общим, уникальное над типическим. Так, для
понимания представлений средневековых верующих о потусторон-
нем мире записи о видениях и «хождениях» на тот свет душ вре-
менно умерших (такие записи производились на протяжении"
всего средневековья) оказываются, пожалуй, более ценным свиде-
тельством, нежели «Божественная комедия» ". Система оценок
и соотношение масштабов в истории литературы и изучения мен-
тальностей весьма несходны, а нередко и противоположны.
Впрочем, все зависит от установки исследователя, и, скажем,
рассмотренная выше контроверза «Февр — Бахтин» показывает,
как один и тот же памятник, в данном случае роман Рабле, мо-
жет быть исследован и в качестве индивидуального творения, и в·
-
*9
См., например: Vovelle M. Piete baroque et dechristianisation en Provence
au XVIII
e siecle
-
R
'
197
70
Trinz
rr. Der Heilige
und
seine Lebenswelt: Uberlegungen
zum
gesell-
schafts- und kulturgeschichtlichen Aussagewert von Viten und Wunderer-
zählungen (рукопись; доклад, прочитанный на конференции медиевистов
71
РуреШч
ж
Ж
Культура
и'
общество средневековой Европы глазами со-
временников (Exempla XIII века). М., 1989.
кШ
k
d
e
iM°Pe#r?^o'nl
1
l^e
3
n
c
Slri
a
<3
1
*erb
2
e
9
n
4
i?i
i^zSitШHexen-
YtfpeetiH
Ж
п
ж
е
т1роблемы
средневековой народной культуры. Гл. 4.

540
Приложение
качестве обнаружения многовековой традиции народной карна-
вальной смеховой культуры.
Среди тем, изучаемых ныне, видное место заняли народная
религиозность и культура, миросозерцание низших классов. Эти
проблемы были далеки от Февра, поскольку он сосредоточивался
на культуре интеллектуалов, гуманистов и реформаторов. Но в
какой мере по творчеству и мировоззрению «высоколобых» мож-
но судить о состоянии мировидения, «разлитого» во всей толще
общества? Вопрос этот оставался открытым. Проблемы много-
слойности культуры и религиозности, различий в их интерпре-
тации «на верхах» и «в низах» он не ставил.
Постановка этой исследовательской задачи открывает новые
перспективы перед исторической наукой. Изучение мировосприя-
тия крестьян, мелких ремесленников и бюргеров, низших слоев
духовенства и рыцарства показало, что здесь историк способен
обнаружить иные жизненные установки, особые способы освое-
ния мира. И поэтому остро встает вопрос о взаимоотношениях
между культурой образованных и культурой необразованных.
Средневековье все более выступает перед историком в новом об-
личье. Его культура оказывается не только и даже не столько
«культурой книги», сколько культурой устного слова, господства
фольклора, взаимодействовавшего с культурой официальной. Вот
почему столь важно привлечение новых видов источников, в ко-
торых прямо или косвенно отразилось мировидение неграмотных.
Историки постепенно открывают для себя мир «народного хри-
стианства», «приходского католицизма».
Но, по-видимому, необходимо сделать и следующий шаг. Дело
не исчерпывается противостоянием разных пластов культуры в
виде особых социальных ипостасей. Изучение ментальностей
вскрывает внутреннюю неоднородность сознания средневековых
людей, его многослойность. Не нужно ли предположить, что в
сознании любого человека той эпохи соприсутствовали церковная
ортодоксия и представления о мире, подчас от нее далекие? Что
даже и наиболее ученый служитель церкви таил в себе также и
«простеца», носителя народных верований? И что одновременно
самый темный крестьянин из «медвежьего угла», до которого
с трудом доходило слово проповедника, тем не менее был при-
общен, пусть в самой ограниченной степени, к истинам христиан-
ства, сколь ни своеобразно он их усвоил.
Изучение ментальностей помогает избегать тех односторонних
стилизаций средневековой культуры и культуры Ренессанса, к ко-
торым тяготели историки недавнего прошлого. Задача заключает-
ся не в замене «черной легенды» о средневековье «золотой леген-
дой» ", а в более глубоком проникновении в существо средневе-
ковой культуры со всем ее многообразием и противоречивостью,
A. Я. Гуревич. Уроки Люсьена Февра
541
Le
Go// ]. L'imaginaire medieval: Essais. P., 1985. P. 12.
Читатель, без сомнения, найдет в сборнике статей Люсьена
Февра, и многие другие сюжеты, достойные его внимания. Я же
хотел ограничить свою задачу, сосредоточившись на главном и
решающем — на тех нетрадиционных подходах к изучению исто-
рии, которые были сформулированы великим ученым, на подхо-
дах, обнаруживших глубокую плодотворность в свете последую-
щего опыта науки. Постановка новых проблем, новое прочтение
старых источников и в этой связи применение новых методов их
исследования — таков важнейший вклад Февра в историографию.
Именно он вместе с Марком Блоком стоял у истоков того движе-
ния мысли, которое ныне по праву считается наиболее перспек-
тивным в современной зарубежной исторической науке. Эта за-
слуга Февра не умаляется тем, что многое его преемниками и
критиками было пересмотрено, углублено или переформулирова-
но. Ибо научное знание — всегда в движении и поиске. Повто-
рим: «Историк — не тот, кто знает, он — тот, кто ищет».
То, что Февр в течение длительного периода был «властите-
лем дум» передовых историков, в немалой степени объясняется
его активной общественной позицией, неотчленимой от его пози-
ции в науке. В трагическое для Франции время поражения и на-
ционального унижения, в 1941 году, Февр обращался к студентам
Высшей нормальной школы со словами: «Находясь на терпящем
бедствие корабле, не трусьте, подобно Панургу, и не молитесь,
возведя очи к небесам, подобно Пантагрюэлю, но, как брат Жан,
засучите рукава и помогайте матросам» ". На первом листе кни-
ги о Рабле, в посвящении Фернану Броделю, Февр начертал:
«Espérance» (надежда). То был 1942 год, и Париж был оккупи-
рован нацистами.
Это чувство надежды не оставляло его и в последние годы
жизни. Гневаясь на тех коллег по ремеслу, которые «отсижива-
ются в тиши кабинетов с задернутыми шторами наедине со сво-
ими бумагами» и умудряются в своих «стерильных историях»
никогда не отвечать на вопросы, волнующие современников,
а потому не способны «влиять на окружающий нас мир» ",
Февр противопоставлял им собственное понимание -предназначе-
ния историка, столь актуальное и для наших дней. В 1952 году
он писал: «В крови и боли рождается новое -Человечество. И вме-
сте с ним, как и всегда, близится к появлению на свет История,
историческая наука, соответствующая новому времени». Он вы-
сказывал надежду, что его усилия предвосхитили этот процесс и
в какой-то мере способствовали ему ".
А. Я. Гуревич
'· Febvre L. Combats... P. 32.
Febvre L. Sur Einstein et sur l'histoire//Annales.
P. 310, 311.
"» Febvre L. Combats... P. IX.
E.S.C. 1955. N 10.
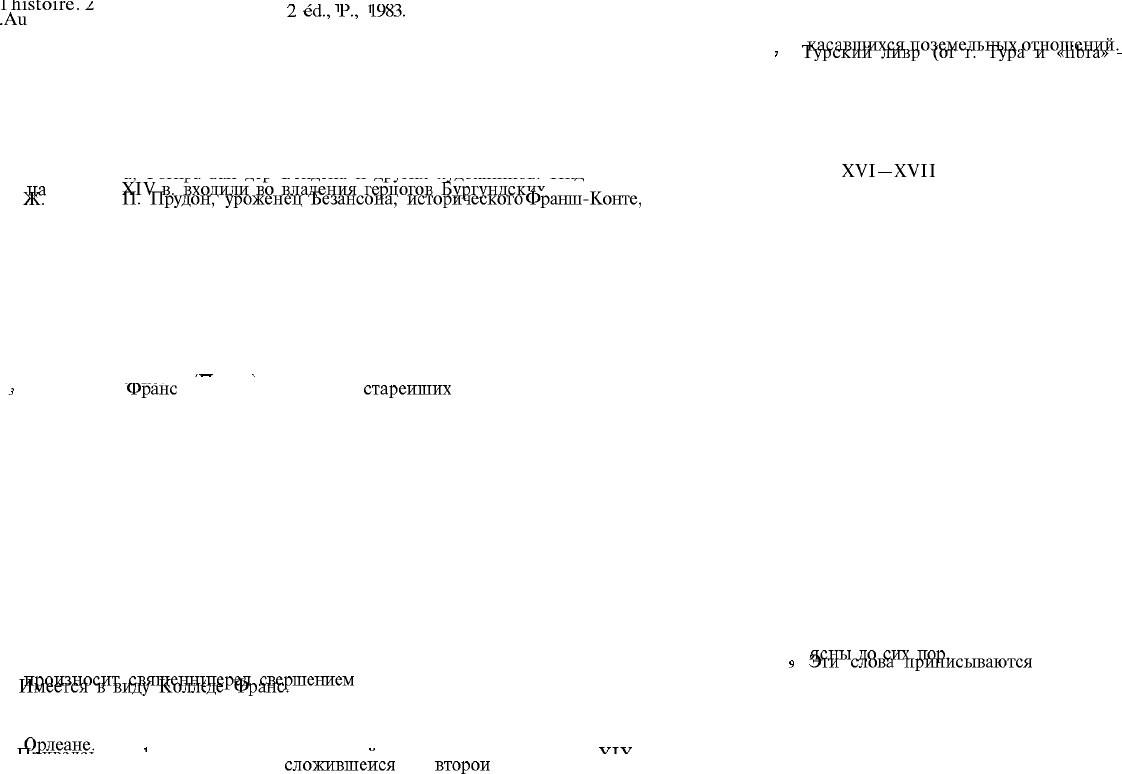
КОММЕНТАРИИ
•Статьи д
iLLlStOire.
Z
.Au
coeur religieux du XVI
e
О
АЛ
Т>
1QOQ
2 ed
'
Р
'
1953;
ПРЕДИСЛОВИЕ
Под бургундским Возрождением понимают обычно взлет искусства в
Нидерландах в XV в., связанный с именами Яна ван Эйка, Гуго ван дер
Гуса, Рогира ван дер Вейдена и других художников. Нидерланды с кон-
Ж
3
Ш\$5ут£ЩШИ?Ш®Ш1т<$ШМЩьщк
Франш-Конте,
в молодости получал стипендию Безансонской академия, что давало ему
возможность заниматься наукой. Написанная им в 1840 г. книга «Что
такое собственность?» (в ней Прудон бросил ставшую знаменитой фра-
зу: «Собственность - это кража!» - впрочем, впервые сказанную деяте-
лем Великой французской революции жирондистом Ж. П. Бриссо) со-
держала яростные выпады против имущих, вызвала скандал, и Акаде-
мия отказала ему в финансовой помощи. Лишившись средств к существо-
ванию, Прудон бедствовал, пока ему не удалось в 1842 г. получить сна-
чала место секретаря мирового судьи в сельском округе, а потом при-
казчика в лавке. ._ ,
3
Коллеж де
Франс
(Париж) - одно из
старейших
научно-исследователь-
ских и учебных заведений в области как естественных, так и гумани-
тарных наук. Основан в 1530 г., принимаются лица с высшим образова-
нием. В Коллеже свободное посещение лекций, нет экзаменов, не вы-
даются дипломы, не присуждаются ученые степени. Темы лекционных
курсов и семинаров ежегодно определяются профессорами на основании
их собственных исследований.
СУД СОВЕСТИ ИСТОРИИ И ИСТОРИКА
Мтф. 8, 8 — слова, которые говорит сотник из Капернаума Иисусу, по-
обещавшему прийти к нему и исцелить его слугу. (В синодальном пе-
реводе: «Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой».) Это
выражение вошло в богослужебный обиход католической церкви, и его
тЖтЧЪЩяЩШ^
ЯёР®рЖР
шением
таинства евхаристии.
«Двухнедельные записки» (Cachiers de la quinzaine) — журнал социа-
листического направления, издававшийся Ш. Пеги в 1900-1914 гг. в
тОрлеане.
,
„
VTV
Приведенная формула - кредо
сложившейся
во
второй
половине XIX в.
французской позитивистской историографической школы. Эта формула —
парафраз высказываний ряда ученых этой школы: Ш. Ланглуа в Ш. Сень-
обоса - «История пишется по источникам»; Л. Альфана - «Там, где мол-
Комментарии
54S
чат источники, нема и история»; Н. Д. Фюстель де Куланжа - «Тексты,
только тексты, ничего, кроме текстов».
* Гуманитарная география (иначе - человеческая география) - дисципли-
на, изучающая как влияние географической среды на человека, в част-
ности местных природных условий на историю данного региона, так и об-
ратное — воздействие человеческой цивилизации на природную среду тех
или иных ареалов. Основателем этого научного направления был фран-
цузский географ П. Видаль де ла Блаш. Л.
^
Февр уделял много внимания
использованию методов и достижений гуманитарной географии в исто-
рических исследованиях.
* Картулярии - в средние века сборники грамот (или их копий), обычно
,
т8ШРШ$
0
Щ
е
РЩ&¥
<
Ш8&--
римский фунт, 489,5 г) - денежная
единица франции с каролингских времен по 1799 г. Из-за высокой стоимо-
сти (первоначально предполагалось, что в нем должна быть либра зо-
лота) служил преимущественно расчетной единицей, в 1667 г. был
объявлен исключительно таковой (чеканка прекратилась в 1649 г.).
Содержание золота в турском ливре, как, впрочем, и в иных монетах,
непрерывно уменьшалось на протяжении всего средневековья и особен-
но в
XVI—XVII
вв. Ввиду того что далее неоднократно упоминаются
различные денежные знаки, уместно привести сведения о некоторых
из них. Франк - первоначально (с 1575 г.) серебряная монета, содер-
жащая 20 су, т. е. 1 ливр, с 1795 г. по настоящее время — основная
денежная единица Франции; луидор («louis d'or» - букв. φρ. «золотой
Людовик») — золотая монета, названная по имени Людовика XIII, че-
канилась в 1640-1795 гк; первоначально была равна 10, а с середины
XVIII в.— 24 турским Ливрам; экю — в середине XIII в. и с 1337 по
1653 г.- золотая, а в 1653-1793 гг.- серебряная монета стоимостью 3 лив-
ра, демонетизирована лишь в 1834 г.; су - различная в разные времена
разменная монета (золотая, серебряная, медная), до 1793 г.— 1/20 ливра,
с 1795 г.- 1/100 франка, в 1947 г. изъята из обращения.
* 14 мая 1610 г. король Франции Генрих IV был убит фанатиком иезуитом
Франсуа Равальяком. Это событие явилось результатом совокупности
причин — религиозных: Генрих IV, в сущнов
^
и-
^
оСтаточно индифферент-
ный в конфессиональных вопросах, был первоначально приверженцем
протестантской религии и, хотя перешел в 1593 г. в католичество, чтобы
овладеть престолом («Париж стоит мессы»), даровал своим бывшим
единоверцам некоторые права и вольности (Нантский эдикт 1598 г.),
что было абсолютно неприемлемо для крайних сторонников католицизма,
возглавляемых орденом иезуитов; политических: в убийстве Генриха IV
были заинтересованы враги Франции - испанские и австрийские Габсбур-
ги, ибо Генрих поддерживал немецких протестантских князей в их борь-
бе против императора; личных: смерть короля открывала путь к власти
его супруге Марии Медичи, ставшей регентшей при своем малолетнем
сыне Людовике XIII. Впрочем, участие королевы в заговоре осталось
недоказанным, ибо Дворец правосудия, где хранились материалы следст-
вия по делу об убийстве короля, сгорел в 1618 г.; причины пожара не
9
5ти
Ь1
сй8в
(
а
к
т1р
1
ййисываются
Ньютону, якобы ответившему так на вопрос
Фран-
цией и ее восточным соседом - Германией во всех исторических моди-
фикациях последней. Со времен завоевания Галлии Рейн служил гра-
ницей между римскими владениями и территориями свободных герман-
ских племен (правда, германское население было и на левом берегу
Рейна - провинция Верхняя и Нижняя Германия). В средние века после
раздела государства Карла Великого, который произошел вслед за
смертью его сына Людовика I Благочестивого (Верденский договор
