Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир
Подождите немного. Документ загружается.

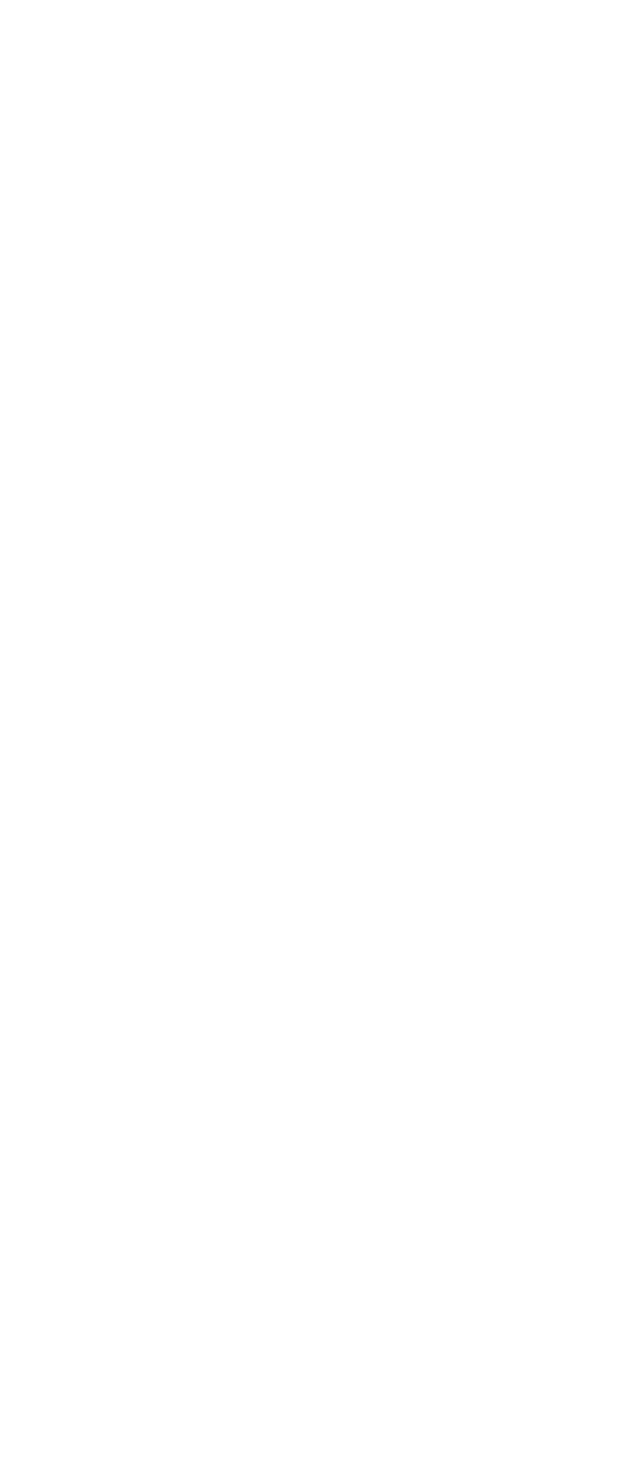
вести хозяйство, ездить верхом и участвовать в пирах: такой
бонд мог беспрепятственно владеть своим имуществом.
Много времени спустя после победы христианства над
язычеством сохранялся обычай обязательного устройства
пиров каждый год; все хозяева, кроме неимущих, должны
были под угрозой наказания наварить к празднику
определенное количество мер пива. На пирах заключались
имущественные и брачные сделки; формальное вступление в
права наследника совершалось во время пира; пир
сопровождал примирение враждующих; «введение в род»
незаконнорожденного сына, т. е. признание за ним личных
наследственных прав свободного сородича и члена семьи,
также производилось на специально с этой целью
устраивавшемся пиру.
Не меньшую роль, чем у скандинавов, пир и угощение
играли и у других германских племен. Англосаксонские
короли, подобно скандинавским конунгам, разъезжали по
стране, посещая пиры своих приближенных и знати. При
первой записи английского права, «Законов Этельберта»
(начало VII в.), король прежде всего заботился об
установлении кары за проступки, которые могли быть
совершены против него в то время, когда он пирует в чьей-
либо усадьбе. Драки и кровопролития на пирах, по-
видимому, не были редкостью, и «древнее право»
предписывало, чтобы виновные платили компенсацию не
только потерпевшему, но и хозяину дома, где происходила
пирушка, и королю. Позднее, в X в., люди, ответственные за
соблюдение порядка на местах, должны были регулярно
собираться на пиры, во время которых они обсуждали
текущие дела и проверяли, не нарушается ли право (200, 3,
11, 92, 178).
Гильдии, объединения населения или людей, имевших
общие политические или экономические интересы, также
устраивали пиры; самое их название происходит от слова
gildi — «пир», «жертвоприношение», «празднество».
Совместное поглощение пищи и напитков имело в
сознании этих людей глубокий общественный, религиозный
и моральный смысл; между сотрапезниками устанавливались
дружественные связи, изглаживалась вражда. В
сохранившемся в исландских сагах тексте
умиротворительной формулы сказано о врагах, которые
достигли соглашения и уплатили виру: «Вы оба должны
примириться и договориться за питьем и едой, на тинге и в
собрании народа, в церкви и в доме конунга и везде, где
только происходят сборища, и тогда вы должны быть так
умиротворены, как если бы никогда между вами ничего и не
происходило. Вы должны обменяться ножами, и кусками
мяса, и всеми вещами как сородичи, а не как враги» (160,
115).
Угощение гостей было первейшей обязанностью
всякого хозяина, и этот закон гостеприимства был нерушим.
О легендарном конунге Гейррёде богиня Фригг говорила:
«Он так скуп на еду, что морит голодом своих гостей, если

ему кажется, что их слишком много пришло». В подлиннике
употребляется термин matniðingr. Но niðngr значило
«злодей» «негодяй», «бесчестный преступник», этот термин
имел сильнейший негативный смысл как в правовом, так и в
моральном отношениях, его применяли к изменникам,
нарушителям договора или мира, к людям, совершившим
коварное убийство или иное злодеяние, к трусам и другим
людям, считавшимся совершенно ничтожными и
непригодными для общения. Таким образом, matniðingr —
это не скупец в современном понимании, лишенном сильной
отрицательной эмоциональной окраски, а «негодяй, злодей,
отказывающий людям в гостеприимстве, в угощении». Это
обвинение было страшным оскорблением, и в рассказе о
Гейррёде далее сказано: «Что Гейррёд скуп на еду, было
действительно величайшей неправдой» (78, 35).
О необходимости внимательного отношения к гостям
неоднократно упоминается в «Речах Высокого»: щедрость,
заботливость и — более всего — подарки обеспечат дружбу.
Перед нами общество, в котором регламентированы и
ритуализованы все стороны социальной жизни, в том числе и
потребление (224, 98 и сл.)
Мир, в представлении варвара, очевидно, равноценен
пиру. Недаром эйнхерии, герои, павшие в битве и взятые
Одином в свой чертог — Валхаллу, делят свое время между
сражениями, в которые они ежедневно вступают, и мирными
пирами, сменяющими кровопролитие. Таков по крайней мере
был идеал воина.
Для бонда военные походы и грабежи не могут быть
источником средств к существованию, также как не может
он рассчитывать на подарки конунга. Его благосостояние
создается его собственным трудом.
Рано встает,
кто без подмоги
к труду приступает;
утром дремота
работе помеха —
кто бодр, тот богат (78, 20)
Конечно, таким способом трудно приобрести
обширные богатства. Однако:
Пусть невелик
твой дом, но твой он,
и в нем ты владыка;
пусть крыша из прутьев
и две лишь козы,
это лучше подачек (78, 18).
Этические нормы в варварском обществе
расплывчаты и не сформулированы с той четкостью и
категоричностью, какая присуща библейским заповедям.
Поэтому нелегко реконструировать и отношение варваров к
труду. Известно, что немалую роль в их хозяйстве играли
рабы, которым поручались наиболее тяжелые и грязные
работы: уход за скотом, вывоз навоза на поля и т.д. Рабыни
прислуживали в доме, воспитывали хозяйских детей. Но

главнейшими сельскохозяйственными работами, в частности
пахотой, занимались и сами хозяева, и автор исландской
«Песни о Риге», представляющей собой своеобразную
«мифологическую социологию» варварского общества, не
видит в сельскохозяйственных работах ничего зазорного для
свободного человека (78, 160 и сл.).
Пахотой и постройкой хозяйственных сооружений не
будет заниматься знатный — он поглощен развлечениями,
воинскими подвигами, дающими ему и славу, и добычу. Ярл
в «Песни о Риге» — лихой воин, совершающий
завоевательные походы, владелец большого количества
сельских дворов, охотник, любитель конных состязаний и
соревнований в метании копья. Он живет в богато
обставленном доме, ест изысканные блюда, пьет вино.
Вместе со своей женой знатного происхождения Ярл живет
«в довольстве, достатке и счастье», умножая свой род. Он
щедро раздаривает людям сокровища, поджарых коней и
дорогие уборы, разбрасывает кольца и рубит золотые
запястья. Но для рядового соплеменника труд — основной
источник средств, необходимых для жизни.
Представление о том, что труд порождает
собственность, обнаруживается в записях варварских
обычаев. Право владения считалось производным от факта
обработки земли. Поэтому крестьянин мог производить
заимку в общинных землях в таких размерах, в каких был в
состоянии возделать ее. По норвежскому праву, на
альменнинге — общей земле — можно было расчистить под
пашню участок, до дальней границы которого бонд был в
состоянии докинуть свой серп или нож, стоя у изгороди,
отделявшей его собственный надел. Точно так же и луг
разрешалось занять тому, кто первым положит на него косу.
В лесу дозволялось взять столько дров, сколько один человек
сумеет нарубить и вывезти до захода солнца. За хозяином,
который в течение длительного времени возделывал землю,
не встречая ни с чьей стороны притязаний на нее,
признавалось право владения. Напротив, собственник, не
использовавший земли, в конце концов утрачивал свои
права. Право собственности не мыслилось варварами
абстрактно: владением считали то, что подвергалось
обработке.
Но одни лишь трудовые затраты сами по себе еще не
создавали собственности на землю, — было необходимо
освятить владение, совершить определенные сакральные
процедуры, в результате которых общиной только и могли
быть признаны права индивида. У скандинавов, юридическая
терминология которых особенно интересна, так как
непосредственно отражает систему их понятий (в отличие от
латыни исторических памятников континента), установление
прав на землю обозначалось словом helga — «освящать»,
«посвящать», «делать неприкосновенным». Ритуалы, при
посредстве которых совершалось освящение владения,
ставили его под защиту и покровительство высших сил, а
равно и права, и вместе с тем теснейшим образом связывали

это владение с личностью того, кто совершал ритуал.
Важнейшим средством присвоения — освящения был огонь.
Исландец, желавший занять ничью землю, пустошь, должен
был в течение дня (от восхода до заката) обойти ее границы,
зажигая на определенном расстоянии ряд костров. Можно
было выстрелить из лука стрелой с горящей паклей — огонь
опять-таки освящал участок, на который упала стрела.
Захваченное земельное владение нередко посвящали богу,
обычно Тору, и тем самым лишали силы притязания на него
всех других лиц. В исландском языке до сих пор выражение
helga ser означает «объявлять своей собственностью». Земли
и иное имущество, по отношению к которым была
произведена церемония освящения, находились под охраной
права, и нарушение неприкосновенности владения каралось
штрафами (22, 136 и сл.).
Таким образом, обладание владением опосредовалось
божеством, приобретало сакральный характер. Труд и
религия, правовые нормы и магические процедуры были
между собою связаны и переплетались. Фактические
отношения должны были получить не только юридическое
признание, но и религиозную санкцию; поэтому они
неизбежно приобретали символическое значение.
Возделывая землю, человек вступал в сакрально-магическое
взаимодействие с природой и божественными силами.
Знаковое оформление производственной деятельности
придавало ей дополнительный смысл и высокое достоинство.
Судя по афоризмам, заключенным в «Речах
Высокого», и по исландским сагам, идеал бонда сводился к
безбедному существованию. Стремление к роскоши,
присущее знати, не характерно для простых свободных. Но и
для тех и для других богатство, создано ли оно собственным
трудом или захвачено в битвах, не представляет самоцели.
Оно не получает высокой оценки в рамках мировоззрения,
господствовавшего в этом обществе. В строфах «Речей
Высокого», по-видимому, резюмирующих взгляды
дофеодальной эпохи, подчеркивается эфемерность богатства
и несущественность, незначительность его по сравнению с
высшими ценностями, стоящими в центре внимания
общественной морали. Богатство преходяще:
Лучше живым быть,
нежели мертвым;
живой — наживает;
для богатого пламя,
я видел, пылало,
но ждала его смерть.
У Фитьюнга
16
были
сыны богачами
и бедность изведали;
может внезапно
16
Видимо, «богач», «жирный»; но не исключено, что это — имя
собственное.

исчезнуть достаток —
друг он неверный (78, 21, 22).
Богатство не увеличивает достоинства человека и
может оказаться даже вредным для его личных качеств.
Главное же — не богатство возвышает человека, но
слава, она остается в памяти людей и после смерти человека:
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего слава (78, 22).
Последние из цитированных слов не передают всех
оттенков смысла подлинника. «Domr um dauðan hvern»
буквально значит: «Суд (суждение) о каждом из умерших».
С. Пекарчик справедливо полагает, что в этих словах
отразилось давление общественного мнения на индивида
(224,141 и сл., 240 и сл.).
Противопоставление славы богатству в высшей
степени характерно для мировоззрения людей варварского
общества. В плане этого противопоставления богатство
может цениться лишь постольку, поскольку оно
способствует достижению славы и общественного уважения.
Но, как мы видели выше, для этого надобно не накапливать
богатства, а расточать, раздаривать, расходовать на пиры —
короче говоря, превращать в знак личной доблести. Дар и
пир оказываются ключевыми понятиями, связующими
воедино хозяйство и культуру варваров.
Грех корыстолюбия
Средневековое феодальное общество коренным
образом отличалось от общества варваров. Оно строилось на
классовом антагонизме, на политическом и социальном
господстве феодальных землевладельцев над зависимым
крестьянством. Поэтому и отношение к труду и к
собственности в этом обществе было совершенно иным,
нежели в обществе доклассовом. И тем не менее здесь
нетрудно обнаружить связь. Наша задача состоит не в
анализе собственнических отношений при феодализме, —
мы хотим выяснить, как понимали собственность в этом
обществе, какова была ее этическая оценка и в чем видели
предназначение богатства. Естественно, представители
разных классов смотрели на труд и собственность
неодинаково. Вместе с тем в феодальном обществе
господствовала христианская мораль, нормы которой были
обязательны для всех и в той или иной степени разделялись
всеми классами и социальными группами.

Феодальное общество основывается на собственности
— на крупной собственности дворянства и церкви, на мелкой
трудовой собственности крестьян и ремесленников. Тем не
менее обладание собственностью никогда не получало на
протяжении средневековья безусловного оправдания и
одобрения — оно допускалось, но на определенных условиях
и с изрядными оговорками. Христианская религия
санкционировала феодальный строй, но ее отношение к
собственности было довольно противоречивым.
Отцы церкви многократно указывали на то, что
первые люди, будучи безгрешными и непосредственно
общаясь с Богом, не знали не только труда, но и
собственности. Сотворенная Господом земля, как и ее плоды
и все живые существа, были Им отданы во власть человека,
но Господь хотел, чтобы обладание ими было общим. Лишь
своекорыстие людей в состоянии грехопадения привело к
установлению частной собственности.
Следовательно, собственность и раздельное владение
— не от Бога, а результат корыстолюбия людей,
несовершенства их природы после изгнания из рая.
Подобный взгляд, связывавший частную собственность с
первородным грехом, был воспринят и средневековой
церковью. По Божьим установлениям, все вещи суть общие.
Лишь корысть создала «мое» и «твое». Христос не имел
никакого имущества и жил в полной бедности, и этому
примеру Сына Божия следовали Его ученики. «Не собирайте
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут, — гласило Евангелие от
Матфея (6: 19—21, 24), — но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не
подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше... Не можете служить Богу и маммоне».
Христос призывал не заботиться о пище и одежде и жить как
«птицы небесные», которые «ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы» (там же, 6: 26).
Средневековый христианин не мог не принимать
всерьез эти заповеди. Праведник мыслился бедным, ибо
бедность — добродетель, каковой ни в коем случае не могло
стать богатство. Имущество — воплощение земных
интересов, отвлекающее человека от мыслей о загробной
жизни и от забот о спасении души. Вера требует отрешения
от земных дел и интересов. Поэтому праведному
последователю Христа богатство должно внушать презрение.
«Презирай земные богатства, дабы ты мог приобрести
небесные», — говорил Бернард Клервоский. Собственность
— препятствие для любви к Богу и к людям, ибо она
порождает эгоистические чувства и борьбу за обладание,
вытесняя дружелюбие жадностью и враждою. «Поэтому
первое, основное условие для достижения совершенной
любви, — учил Фома Аквинский, — добровольная нищета»
(ST, II, 2, quaest. 186, art. 3).
В поучениях средневековых проповедников отречения
от собственности содержится изрядная доля риторики. Лишь

незначительная часть общества была склонна воспринимать
их не только для того, чтобы сокрушаться по поводу своего
несовершенства и неспособности наделе буквально
следовать христианским принципам бедности. Но для того
чтобы основная масса верующих могла примирить
категорические заповеди евангельской бедности с
обладанием имуществом, в обществе должны были
существовать люди, которые приняли бы на себя выполнение
обета добровольной бедности и, являя остальному обществу
пример, подражать коему оно оказывалось не в состоянии,
вместе с тем служили бы ему утешением: эти избранники
Божьи своим праведным поведением и отречением от
земных благ и интересов спасали род человеческий в целом.
В монашеских орденах заповедь бедности была
основополагающим принципом. Бенедиктинцы не только не
имели права владеть каким-либо имуществом, но им было
воспрещено даже употребление слов «мой» и «твой»: вместо
этого основатель ордена Бенедикт Нурсийский предписал
говорить «наш». «Понятие об общем владении перенесено
было даже на физическую личность монахов. По крайней
мере спорили о том, мог ли монах смотреть на члены своего
тела как наличную собственность и могли он говорить: моя
голова, мой язык, мои руки, или же он должен был говорить:
наша голова, наш язык, наши руки, подобно тому как
говорили: наш клобук, наша ряса. Средневековое отречение
от мира и от самого себя доведено в монашестве до
уничтожения индивидуальной личности» (91, 443 и сл.). В
позднее возникших орденах францисканцев и доминиканцев
запрещена была не только личная, но и общая собственность.
Монахи должны были существовать исключительно за счет
милостыни.
Для большинства же членов феодального общества
выполнение заповеди бедности было практически
невозможно. Это прекрасно понимало и духовенство. Для
существования общества как целого было необходимо
владение имуществом. «Было бы несправедливо сказать, что
человек не должен иметь никакой собственности», —
признавал Фома Аквинский (ST, II, 2, quaest. 66, art. 2),
полагавший, что грехопадение не только послужило
причиной возникновения частной собственности, но и
сделало ее сохранение неизбежным: в состоянии земной
греховности человек не может не заботиться о себе и своих
делах больше, чем о делах других, и поэтому трудится в
своем хозяйстве и на себя с особой тщательностью. Теологи
осуждали не столько самый принцип индивидуальной
собственности, сколько злоупотребление ею. Человек, по их
учению, должен владеть лишь тем, что ему действительно
необходимо для удовлетворения своих нужд. Как говорил
Августин, «обладающий излишним владеет чужим
имуществом». Раннехристианский идеал общины верующих,
отрешившихся от всякого владения и не заботящихся о своем
пропитании, средневековое христианство заменило идеалом
мелкой собственности, обладание которой дает возможность

удовлетворять необходимые потребности. Накопление сверх
этого минимума считалось греховным, ибо диктовалось
корыстолюбием. По определению Фомы Аквинского,
«корыстолюбие есть грех, в силу которого человек стремится
приобрести или сохранить больше богатства, чем ему
необходимо» ( ST, II, 2, quaest. 118, art. I, 2). Идя на эту
уступку, церковь признавала реальную общественную
потребность. В ее учении о допустимости мелкой
собственности как зла, которое приходится терпеть для того,
чтобы избежать большего зла, находили свое удовлетворение
идеалы мелких производителей и собственников —
материальной опоры средневекового общества.
Христианское осуждение собственности фактически
сводилось к осуждению стяжания и стремления к наживе;
критерием различия между допустимой и недопустимой
собственностью оказывались даже не самые ее размеры, а те
цели, которые преследовались собственниками, и средства,
употреблявшиеся для получения богатства. Главное
заключалось в помысле, в духовном состоянии человека.
Богатство, по утверждению Фомы Аквинского, не может
служить конечной целью, оно — лишь средство для
достижения иных целей, находящихся за пределами
хозяйственной сферы.
Крупнейший собственник в феодальном обществе,
множеством нитей связанный со светскими крупными
землевладельцами, церковь, разумеется, никогда не одобряла
попыток отменить институт частной собственности или
перераспределить имущество таким образом, чтобы
приблизиться к идеалу мелкой собственности, ограниченной
удовлетворением потребностей. Принцип «не укради»,
защищавший всякое владение, в классовом обществе
неизбежно стоял на страже прежде всего интересов имущих.
Единственное предписание церкви, направленное на
частичное перераспределение благ, сводилось к проповеди
подаяния нищим. Бедные и неимущие считались стоящими
ближе к Христу, чем собственники, в них видели образ
Самого Христа. Поэтому благотворительность в пользу
бедных всячески поощрялась. Государи и сеньоры обычно
содержали при своих дворах изрядное число нищих,
раздавали им деньги и кормили их. Нередко эти раздачи
принимали огромные размеры, богатые люди расходовали на
нищих значительные средства; в особенности усердствовали
знатные женщины, а некоторые царственные особы не
останавливались и перед пожертвованием нищим части
государственных доходов. На широкую ногу былo
поставлено содержание нищих и убогих в монастырях. В
Клюни, например, кормили в иные годы до семнадцати
тысяч бедняков.
Раздача милостыни принимала привычные для
средневекового общества ритуальные и кодифицированные
формы. В житии шотландской королевы Маргариты (конец
XI в.) рассказывается о том, как она пеклась о бедных.
Соответствующая процедура приурочивалась к большим

праздникам и распространялась на строго установленное
число нуждающихся. Сперва королева мыла ноги шестерым
нищим, затем происходил церемониал кормления девятерых
сирот, наконец, триста обездоленных допускались в
монаршие покои, где их обслуживала сама королевская чета
(240 151 и сл.). Строгая регламентированность и
подчеркнутая публичность всех этих актов заставляют
предполагать, что в основе подобной благотворительности
лежала не столько проповедуемая христианством любовь к
ближнему, сколько забота жертвователей о собственном
душевном благополучии. Посредством милостыни богатый
скорее мог спасти душу, о бедняках же, которым он уделял
долю своего имущества, он думал гораздо меньше. Это
доказывается тем, что средневековье не знало ни одной
серьезной попытки радикально избавить нищих от их
бедственного положения: предпочитали их подкармливать,
оставляя все в том же состоянии. В существовании богатства
и бедности церковь находила взаимную связь: «Богатые
люди созданы для спасения бедных, а бедные — для
спасения богатых». В подаянии нищим видели своего рода
источник «страхования» душ имущих. Алкуин писал, что
подаваемая беднякам милостыня позволяет дающим попасть
на небо. Материальные богатства, розданные бедным, вторил
ему Храбан Мавр, превращаются в вечные богатства.
Поэтому существование неимущих бездельников казалось
необходимым, и никто не помышлял о том, чтобы
ликвидировать нищенство, равно как и сами попрошайки
видели в себе избранников Божиих и вовсе не стремились
избавиться от нищеты. Наоборот, к нищете стремились как к
идеалу, и церковь дозволяла принятие обета нищенства всем,
кто стремился к нему «из смирения и для общей пользы, а не
из корысти или лености». Правда, папство, опасаясь
слишком широкого распространения антисобственнических
настроений, провозгласило, что бедность является не
всеобщей обязанностью, но призванием одних только
избранных. Бедность долго не воспринималась в этом
обществе как социальное зло, как показатель неустроенности
человеческих дел. Нищета была не вынужденным
состоянием, из которого желательно было бы выбраться, а
состоянием самоотречения и отвержения мира, и потому
нищенский промысел был неотъемлемым элементом
средневековой общественной практики. Не богатство, а
нищета, но прежде всего нищета духа, смирение — идеал
средневекового общества (211).
Каждое общество имеет своих героев, вырабатывает
тип идеального человека, которому следует подражать; во
всяком случае, этот идеальный образец играет определенную
роль в нравственном воспитании и поэтому сам может
служить отражением морального состояния общества.
Особенно это верно применительно к авторитарному
обществу с сильно выраженным дидактическим акцентом во
всей культуре, каким было общество средневековое.
Идеальный тип человека в таком обществе был

немаловажным ингредиентом его морального климата. Каков
же этот герой?
Идеальный человек античного полиса — всесторонне
развитый гражданин. Среди качеств гармонической личности
видное место занимала и физическая сторона: атлет,
чемпион, победитель олимпийских состязаний скорее всего
мог воплотить этот идеал. Идеал средневекового человека
бесконечно далек от представлений античности. Культ тела,
видимой красоты не имеет ничего общего с любованием
страданиями Бога, воплотившегося в оболочку бренного
человека. Если и можно говорить о физическом идеале
христианского средневековья, то им служило распятие:
мертвое тело со страшными следами пыток и мук,
перенесенных Спасителем во искупление рода
человеческого. Поклонялись не телесной силе и
гармонической развитости атлета, а убогому и гноящемуся
больному. Ухаживать за ним, обмывать его раны и видеть в
нем отражение Христово было богоугодным делом, так же
как и раздавать милостыню.
Идеал средневекового общества — монах, святой,
аскет, человек, максимально отрешившийся от земных
интересов, забот и соблазнов и потому более всех остальных
приблизившийся к Богу. Греческое слово Πσκησϊ значит
«упражнение», в особенности «гимнастическое
упражнение»; ΠσκηтΠ — атлет, борец. Этим же словом в
эпоху христианского средневековья обозначали человека,
пренебрегающего собственным телом, умерщвляющего
плоть, упражняющего свой дух. Ни в чем, пожалуй, так ясно
не выражается контраст духовных установок античности и
средних веков, как в трансформации смысла этого слова!
Идеал средневековья — не посюсторонний, земной и
практический, а трансцендентный и преодолевший земные
связи. Идеал святого был всеобщим, имевшим силу для всех
слоев общества. Конечно, у отдельных слоев и сословий
феодального общества были и свои идеалы. Так, можно
говорить о рьшарском идеале. Но и этот идеал долго был
подчинен универсальному аскетическому типу, ибо в рыцаре
достойными преклонения и подражания считались не только
физическая сила и боевой дух и даже не само по себе
сознание сословной чести и следование принятому кодексу
поведения, а подчинение этих качеств высшим, идеальным
целям; воинство должно было поставить свое оружие на
службу Богу и церкви. Крестовый поход — наиболее
возвышенный образ воинской практики, рыцарь — член
ордена (miles Christi) — таков идеальный тип рыцаря.
По идеалу нельзя судить обо всем обществе. Но он
служит показателем господствующих умонастроений,
нравственных норм, принятых в этом обществе, и отражает
систему ценностей, которой так или иначе руководствуются
его члены. Общественный идеал средневековья не
благоприятствовал накоплению материальных благ и был
несовместим с тщеславием и суетностью. Литература того
времени осуждает пышность одеяний. Женские моды —
