Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир
Подождите немного. Документ загружается.


носили. Жертва восьмого сына дала ему еще десять лет
жизни, но он уже не поднимался с постели. После
принесения девятой жертвы Аун жил, питаясь из рожка, как
младенец. У него оставался последний сын, но шведы
воспротивились этой жертве, и тогда Аун умер (62, гл. 25).
Едва ли нужно искать в этой легенде отражение мифа
о Кроносе, пожиравшем своих детей. Тема воздействия на
время и преодоления старости занимала скандинавов,
создавших миф о яблоке, которое хранилось у богини
Идунн: откусывая от него, асы возвращали себе молодость.
Любопытно, что в легенде об Ауне не возникает вопроса о
природе долголетия сыновей конунга, которые ведь тоже
должны были жить чрезвычайно долго (некоторые — более
ста лет), для того чтобы стать жертвами своего жадного до
жизни отца...
Воздействие на время есть определенная форма
отношения к будущему. О пророчествах и вещих снах речь
впереди, но уже сейчас нужно подчеркнуть, что
представление о способности видеть будущее, которой в
сагах наделены многие люди, обусловливалось особым
пониманием природы времени. Прошлое уже миновало, но
при восприятии времени как циклического считалось, что
когда-то оно возвратится вновь. Будущего еще нет, но
вместе с тем оно уже где-то таится, вследствие чего
провидцы способны его с уверенностью предрекать.
Время мыслилось подобным пространству: удаленное
во времени (в прошлое или в будущее) представлялось столь
же реальным, как и удаленное в пространстве. В этом
отношении к будущему, как бы расположенному рядом с
настоящим и прошлым, нет ничего специфичного для
исландских саг, ибо такое же представление о времени
лежит в основе понимания времени и судьбы многими
народами. Но, как мы далее убедимся, тема будущего и
способности прозревать его и предсказывать получает в
королевскик сагах новый смысл и выполняет важную роль в
структуре латентно заложенной в них исторической
концепции.
В «Круге Земном», как и в других сагах, множество
анахронизмов: отношения, сложившиеся явно в более
позднее время, переносятся в прошлое. Не останавливаясь на
рассмотрении этих ошибок, зададимся вопросом: чем
вызваны анахронизмы? Снорри знает, что история несет с
собой изменения, что жизнь человеческая неустойчива и
преходяща. Но перемены, затрагивающие людей, мало
касаются или вовсе не касаются хозяйства, быта, морали,
права, социальных отношений. Как и другие средневековые
историки, Снорри не замечает историчности всего
существующего. Время течет не во всех сферах жизни,
человеческая драма разыгрывается на относительно
неподвижном фоне; во всяком случае, эти декорации
меняются мало и лишь в деталях. Ведь для древних
скандинавов, как мы видели, время — это человеческая
жизнь, форма существования рода людского.

Тем не менее, опираясь в основном на то же
восприятие времени, которое присуще сагам об исландцах,
саги о конунгах несколько его изменяют в связи с
необходимостью изображения более сложного сюжета,
требующего новых хронологических рамок и большего
внимания ко времени. Время саг о конунгах уже не
«родовое» и не «местное» (касающееся событий в одной
части Исландии), а «государственное», историческое. На
протяжении периода, охваченного «Кругом Земным» (с IX в.
до 1177 г., если оставить в стороне предшествующий
легендарный период, описываемый в «Саге об Инглингах»),
не просто произошло несравненно больше событий, чем
описано в сагах об исландцах, но совершились необратимые
процессы огромной значимости — политическое
объединение Норвегии под властью одного короля и
христианизация ее населения. Естественно, что в сагах о
конунгах возрастает чуткость по отношению к ходу времени.
Вместе с тем время отчасти насыщается
христианскими реалиями. Длительность человеческой
жизни, по новым верованиям, определяется не судьбой,
многократно упоминаемой в «Круге Земном», а зависит от
Бога. Конунг Инги, отвергая совет своих приверженцев не
участвовать в битве с врагами и бежать, заявляет: «Пусть
Господь решит, сколько еще должна продлиться моя
жизнь...» (25, гл. 17). Прежние представления о времени
сочетаются с новыми, согласно которым время сотворено
Богом.
Что несет с собой время — прогресс или упадок? Это
один из коренных вопросов, ответ на который определяет во
многом характер всей культуры. «Круг Земной» был написан
в обществе, в котором далеко еще не разрешился конфликт
двух мировоззрений — языческого и христианского. Но этим
формам миропонимания присущи во многом несхожие
оценки течения времени. Языческое восприятие жизни
опирается на миф, миф же предполагает возможность
повторения изначального состояния, которому придается
особая значимость. Это изначальное время, когда был создан
мир и заложены образцы поведения человека, возвращается
при воспроизведении мифа, в моменты празднеств и
жертвоприношений. По сравнению с мифологическим
временем, в котором сливаются отдаленное прошлое и
вечность, текущее земное время представляется
несамостоятельным, несамоценным. Поэтому лучшее время
лежит в прошлом, нынешний же мир идет к упадку и концу.
Необычайно интенсивно выражено это миропонимание в
«Прорицании вёльвы» — самой замечательной из песней
«Старшей Эдцы», где сконцентрирована квинтэссенция
древне-скандинавской языческой философии. В
противоречии с пессимистическим взглядом на судьбы богов
и людей, обреченных на гибель, находится заключительная
часть этой песни, обещающая обновление и возрождение
мира, но это либо результат христианских влияний, либо
проявление циклической концепции.

Христианское понимание времени тоже отчасти
опирается на миф и тоже связан» с постоянным
воспроизведением сакрального времени в таинствах и
праздниках; и здесь земное время получает пониженную
оценку в сравнении с вечностью, находящейся у Бога. Но
христианский миф — это миф, существенно
преобразованный и насыщенный новыми элементами. Это
понимание времени исходит из эсхатологии: будущее, коней
света, несет с собой и расплату, и искупление. Поскольку
мир движется к слиянию с Богом, христианские историки
средних веков, рисуя историю человеческих бедствий и
страданий, нарастание зла в мире, вместе с тем исходили из
уверенности в том, что история человечества завершится
счастливым финалом — вторым пришествием Спасителя.
Пессимизм в отношении земной жизни сочетался у них с
трансцендентным оптимизмом — человеческое время в
конце концов растворится в божественной вечности.
Если языческое мировосприятие протекает под
знаком прошлого, поскольку мир осознается как вечное
повторение прежде бывшего, то в христианском
мировоззрении наряду с прошлым принципиальное значение
приобретает также и будущее, и время оказывается как бы
«распрямленным» между сакральным прошлым (творением
мира и искупительной жертвой Христа) и будущим (концом
света и вторым пришествием Спасителя).
Выше упоминалась периодизация ранней истории
Скандинавии, которая дана в «Прологе» к «Кругу Земному»:
«век кремаций» сменяется «веком курганов». Но нигде
Снорри не развивает другой периодизации, которая, казалось
бы, должна быть куда более существенной с точки зрения
христианина: время язычества и время торжества истиной
веры. Именно такова была историческая схема всей
средневековой церковной историографии, в особенности в
раннее средневековье (наряду с учениями о четырех
монархиях и о возрастах человечества). Разумеется, в сагах о
конунгах демонстрируется переход от язычества к
христианству и выделяется центральный эпизод в этом
развитии — правление и мученическая смерть Олава
Святого, при котором христианизация одержала основные
победы. И все же провиденциалистская концепция
христианской историографии не получает в «Круге Земном»
самостоятельного значения. Ее можно заметить в речах
отдельных персонажей, в ссылках на Божью волю и в
рассказах о чудесах святого Олава, которые должны
свидетельствовать о всемогуществе Господа и о
вмешательстве Его в человеческие дела. Но все
христианские эпизоды «Круга Земного» не включаются в
ткань повествования сколько-нибудь органически и вряд ли
определяют концепцию истории. Как мы далее увидим, в
этой концепции языческий миф переплетается со
своеобразно перетолкованными христианскими
представлениями.

В сагах широко используется мотив вещего сна и
прорицания. Эти сны и пророчества образуют важный
составной элемент саги и выполняют существенную
функцию в системе ее изобразительных средств. Прием
прорицания или вещего сна помимо занимательности
сообщал повествованию большую напряженность. Мотив
провидения в будущее непосредственно связан с идеей
правящей миром и человеческими жизнями судьбы, которой
никто не может избежать и которая обнаруживает себя
таким чудесным образом еще до того, как она реально
наступит. Идея судьбы в свою очередь ведет к постановке
коренных этических проблем: человек, знающий
собственную судьбу, неизбежно вырабатывает свое
отношение к ней, он должен смело встретить уготованную
ему участь, и это знание окрашивает все происходящее в
трагические тона.
Сны — это проявления судьбы. Они некоторым
образом ниспосылаются человеку таинственными силами.
Поэтому вещий сон герой саги видит обычно в критический
момент своей жизни, когда судьба «близка», и в
специфических условиях, благоприятствующих тому, чтобы
пришел такой сон.
Формы заглядывания в будущее в королевской саге
приобретают дополнительный смысл. В отличие от саг
родовых, где прорицания касаются индивидуальных судеб
или, самое большее, будущего той или иной семьи, в
королевских сагах они связаны с толкованием истории
целого государства. В них предрекаются судьбы династии и
королевства, а в отдельных случаях дается оценка
дальнейшего хода истории. Таким образом, в форме
предсказаний выявляется историческая концепция, лежащая
в основе королевской саги. Подобный способ осмысления
хода истории связан с присущей жанру саги
невозможностью прямого высказывания точки зрения
автора. Вещий сон содержит некий символ и намек, он
открывает путь для обобщения, указывает на сущность
происходящих и долженствующих произойти событий, что
позволяет понять, как мыслили историю автор саги и его
современники.
Оставляя в стороне вещие сны, связанные с личной
судьбой того или иного правителя (в этих снах общая
концепция истории могла и не раскрываться), обратимся к
снам, содержащим указания на судьбы страны. Таковы сны,
о которых рассказывал претендент на норвежский престол
Сверрир, возглавивший в последней четверти XII в.
движение против правящей династии. Сверриру посвящена
особая сага, которая была написана, как уже упоминалось
ранее «Круга Земного» (51). Первая часть этой саги была
составлена исландским аббатом по указанию самого
Сверрира, и естественно, что точка зрения узурпатора здесь
оказывала влияние на характер и окраску повествования в
«Саге о Сверрире». В отличие от саг «Круга Земного»,
рисующих историю Норвегии post factum (Снорри
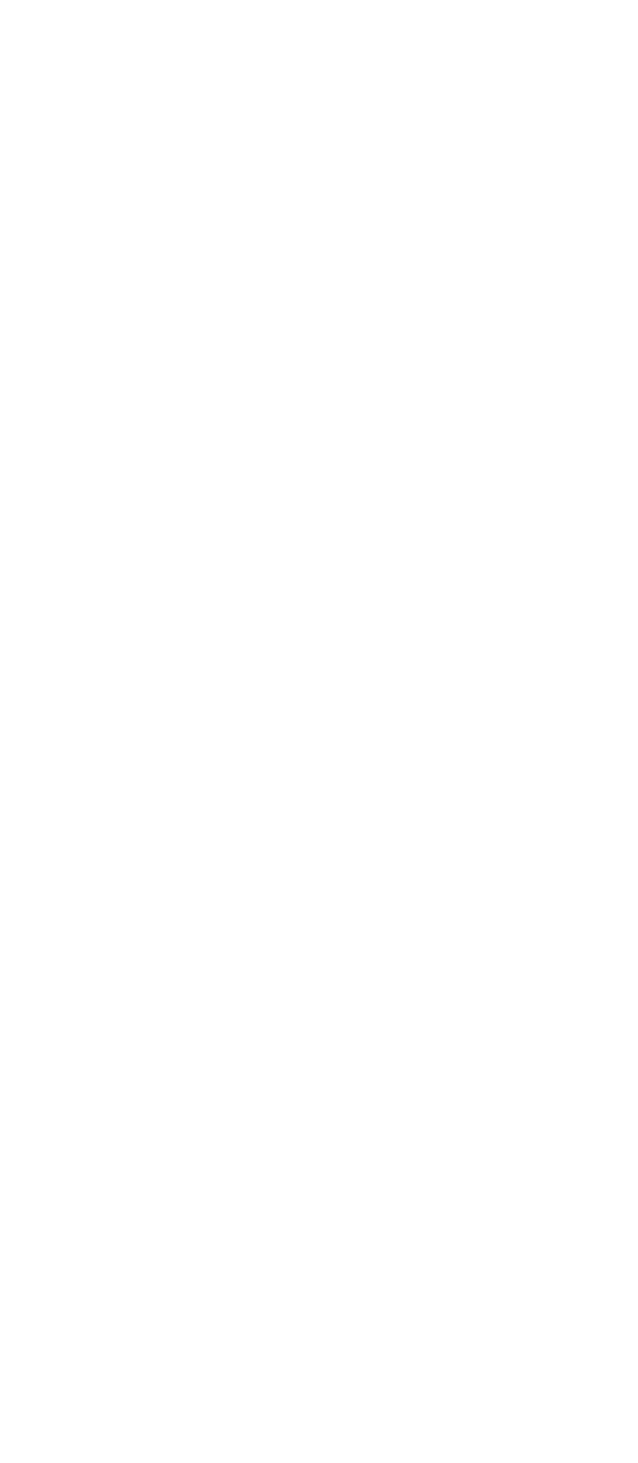
Стурлусон жил намного позднее описываемых им событий),
«Сага о Серрире» повествует о совсем недавних делах,
поэтому и тон в ней, и цели, которые преследовались при ее
сочинении, отчасти иные. Сверрир, безвестный выходец с
Фарерских островов, выдавал себя за незаконного сына
покойного норвежского конунга Сигурда Рот, и понятно, что
он нуждался в обосновании своих притязаний на престол.
Это обоснование и должны бьцщ дать его вещие сны, о
которых он сам и рассказал.
Главный аргумент в пользу «легитимности» его
власти не генеалогия. Сверрир видит во сне покойного
короля Олава Святого, «небесного патрона Норвегии», и тот
якобы вручает ему свой меч и боевой стяг, защищает
Сверрира своим щитом и дает ему имя Магнус (Магнусом
звали сына Олава, но вместе с тем magnus значило по-
латыни «великий»). Таким образом, притязания Сверрира, в
отличие от притязаний других претендентов, опираются не
на происхождение из рода конунгов (в этом отношении
противник Сверрира король Магнус Эрлингссон обладал
преимуществами), — они обоснованы тесной связью
Сверрира с наиболее авторитетный в глазах общества
святым королем-христианизатором Олавом, связью не
родовой, а мистической, сакральной.
Иной характер носят «династические» сны в «Круге
Земном». Снорри Стурлусон показывает, что в такого рода
снах использовался мотив древа, символизировавшего род
конунгов. Жене конунга Хальвдана Черного Рагнхильде
приснилось однажды, что она в саду отдирает от своего
платья колючку и эта колючка вырастает в ее руке в
большую ветвь, один конец которой касается земли и быстро
пускает корень, а другой вздымается высоко в небо. Вскоре
древо достигает таких размеров, что Рагнхильда едва может
рассмотреть его вершину, к тому же оно необыкновенно
толстое. Нижняя часть древа кроваво-красная, но чем выше
ствол, тем он светлее и зеленее, а ветви белы, как снег; на
нем множество ветвей. Это развесистое древо закрывает
собой всю Норвегию, простираясь даже за ее пределы. В
другой саге Снорри сообщает смысл этого видения: древо
символизировало конунга Харальда Прекрасноволосого,
сына Рагнхильды, — краски древа символизируют расцвет
его королевства; то, что сверху оно белоснежное, означает,
что Харальд доживет до седых волос, ветви же — его
многочисленное потомство, которому суждено
распространиться по всей стране (27, гл. 42). Подобный же
по смыслу сон приснился и отцу Харальда
Прекрасноволосого, Хальвдану Черному: ему приснилось,
что у него отросли длинные и кудрявые волосы, причем
один локон был самым прекрасным и длинным. Мудрец
истолковал конунгу сон: от него пойдет длинный ряд
потомков, они со славой будут править страной, но один из
его потомков будет наиболее великим и благородным. «И по
всеобщему мнению, — прибавляет Снорри, — этот локон
предвещал святого конунга Олава» (26, гл. 7).

В снах Рагнхильды и Хальвдана Черного можно
найти некоторые элементы исторической концепции Снорри.
Королевская династия, основанная Харальдом
Прекрасноволосым, первым объединителем Норвегии (конец
IX — начало X в.), и продолжавшая править страной и во
времена Снорри (поскольку Сверрир, дед Хакона
Хаконарсона, при котором писал Снорри, как мы знаем,
выдавал себя за отпрыска этой династии), выполняет
определенную историческую миссию. Она заключается
прежде всего в том, что потомки Хальвдана Черного
объединили впоследствии всю страну. Но главное, из этой
династии происходит святой конунг Олав, и поэтому, если
взглянуть на этот род королей ретроспективно, то
сакраментальное его предназначение состояло в рождении
«вечного короля Норвегии», небесного покровителя ее
конунгов, Олава Святого. История Норвегии и ее
королевского рода в «Круге Земном» отчетливо
расчленяется на три этапа: ее объединение
предшественниками Олава Святого, христианизация,
проведенная этим конунгом, история страны при его
преемниках. Центральный этап — правление Олава Святого
— явно образует кульминацию. Сны Рагахильды: и
Хальвдана Черного в какой-то мере предвещают дальнейший
ход истории и именно ее главный момент.
Тема «вечного короля Норвегии» поднимается и в
снах, упоминаемых в «Саге об Олаве Святом». Совершив
ряд подвигов на Западе, молодой викинг Олав Харальдсон в
ожидании попутного ветра для отплытия из Испании на
Ближний Восток видит чудесный сон: ему является
внушающий страх красивый человек, который запрещает
дальнейшие пиратские экспедиции: «Возвратись в свою
отчину, ибо ты навечно станешь конунгом над Норвегией».
Олав понял, что сон предвещает ему сделаться государем
Норвегии, а его потомкам — быть ее правителями надолго
после него (40, гл. 18). Но Олав еще не постигает смысла
предсказания о том, что ему суждено стать конунгом
Норвегии «навечно». Олав прибывает в Норвегию, и
начинается его эпопея: освобождение страны из-под власти
чужеземцев, христианизация ее населения, наведение в ней
порядка и законности, что вызвало противодействие части
знати и бондов и привело к изгнанию конунга, к
последовавшему затем его возвращению и, наконец, к
гибели его в битве при Стикластадире (1030 г.), в которой он
отстаивалдело Христово и обрел святость мученика. Вскоре
после смерти Олав был провозглашен церковью святым и
«вечным патроном Норвегии».
Подобный же смысл имели и некоторые другие сны и
видения Олава Харальдссона. Перед началом битвы при
Стикластадире ему привиделась высокая лестница, по
которой он поднялся так высоко, что открылись небеса. «Я
взошел на верхнюю ступеньку, когда ты меня разбудил», —
сказал пробудившийся Олав своему сподвижнику. Тот
отвечал, что ему этот сон нравится меньше, чем конунгу

(типичный для саги оборот: вместо того чтобы сказать «ему
этот сон совсем не понравился», сказано, что он «мало
понравился»), так как может означать, что Олава в
предстоящей битве ждет смерть (40, гл. 214). Однако
истинный смысл видения конунга иной: лестница, ведущая
на небеса, по которой он до конца поднялся (библейская
«лествица Иакова»), — признак грядущего вознесения Олава
в качестве святого и вечного короля Норвегии.
Не останавливаясь на других снах Олава Святого,
упомянем еще сон его сына Магнуса Доброго. Ему во сне
является отец и задает вопрос: что он предпочитает, пойти с
ним или стать самым могучим из конунгов, и жить долго, и
совершить такие дела, которые едва ли он сумеет искупить?
Магнус оставляет решение на волю отца, и ему подумалось,
что святой конунг ответил: «В таком случае иди со мной».
Вскоре Магнус скончался. Можно предположить, что
«неподобные дела», от свершения которых предостерегает
Магнуса Святой Олав, — это раздоры, вспыхнувшие в
Норвегии при последующих поколениях конунгов, и в такой
косвенной форме в саге выражено отношение к ним Снорри.
Но здесь выдвигается еще один существенный мотив:
подвергается сомнению ценность земной власти конунга, и
ей противопоставляется загробная жизнь, — ценность
первой относительна, и сама эта власть может послужить
источником несчастий и погибели души, ценность второй
абсолютна.
Вызванная христианством переоценка королевской
власти обнаруживается в «Круге Земном» не только в
данном сне. Величие Олава Святого раскрывается
полностью не в его земных делах и подвигах, а в его связи с
божественной силой; земное и скоропреходящее
противопоставляется небесному и вечному. Вследствие
этого дальнейшая борьба между претендентами и
конунгами, повествование о которой наполняет несколько
последних саг «Круга Земного», предстает как мелкая,
лишенная высоких этических достоинств и оправдания
свара, резко контрастирующая с величественным образом
святого Олава, время от времени творящего чудеса и тем
напоминающего погрязшим в земных дрязгах людям о
вечном и высшем.
То, что история норвежских конунгов после Олава
Харальдссона изображается как бы на фоне все более
раскрывающейся святости этого короля, придает
повествованию определенный смысл, которого оно не имело
в сагах, предшествующих «Саге об Олаве Святом». Там у
истории существовал, собственно, лишь один земной план, и
подвиги конунгов обладали самоценностью, ибо языческая
судьба не образовывала какого-либо другого уровня
реальности, но была имманентна деяниям людей.
Двуплановость и соответственно двусмысленность истории,
дихотомия земли и неба в «Круге Земном» обнаруживается
только с введением в нее темы святого Олава.
В упомянутом сне конунга Магнуса христианская

философия выступает уже достаточно заметно: судьба,
двигавшая поступками людей, казалась язычникам
неумолимой и неизбежной; между тем Олав, являющийся
Магнусу, предлагает ему выбор: либо последовать велению
судьбы, которая возвысит его, но и отяготит злодеяниями,
либо уклониться от нее и предпочесть небесную славу.
Следовательно, судьба сомнительна в этическом плане и не
неизбежна в общем устройстве мироздания, в системе
человеческих дсл. Свобода выбора, предлагаемая святым
Олавом Магнусу, имеет уже мало общего с язычеством: это
свобода, предполагаемая у каждого христианина и
заключающаяся в том, что он волен погубить или спасти
свою душу.
Как мы могли убедиться, в снах, о которых
повествуется в «Круге Земном» и которые должны были
пролить свет на ход и смысл истории, переплетаются
языческие мотивы с мотивами христианскими. Последние
становятся ощутимыми преимущественно в заключительных
сагах, хотя и в них далеко не торжествуют. Идея судьбы,
играющая немалую роль в историческом мышлении автора
саг о конунгах, имеет особую структуру.
Перейдем к ближайшему ее рассмотрению.
Какие силы движут людьми? Чем определяются их
поступки? Саги дают ответ и на эти вопросы. Деяния и самая
жизнь людей управляются судьбой. Судьба — всеобщая
детерминированность социальной жизни, настолько
недифференцированная, что она распространяется и на
природу, от которой жизнь людей не отделена достаточно
четко, которой она, во всяком случае, еще не
противопоставлена. Но судьба, в представлении скандинава,
не безличная сила, стоящая над миром, не слепой рок; до
какой-то степени она — внутреннее предназначение
человека. Термины, потребляемые в сагах в этой связи, —
hamingja, gaefa, heill, auðna — выражают разные оттенки
понятия: «судьба», «счастье», «удача», «участь», «доля».
Они обозначают качества отдельного человека или его
семьи, рода (V каждого индивида или рода своя судьба, своя
удача). Hamingja в этом отношении — термин наиболее
показательный: это и личная удача, везение и дух —
охранитель отдельного человека, покидающий его в момент
смерти и переходящий к потомку или близкому сородичу
умершего.
Удача выявляется в поступках человека, поэтому
активное, решительное действие — императив его
поведения. Нерешительность и излишняя рефлективность
расцениваются как признаки отсутствия счастья и
осуждаются. Кроме того, и это очень важно, «счастье»,
«удача» у скандинавов — не нечто столь неотъемлемое и
постоянно сопутствующее индивиду, чтобы он мог
позволить себе не подкреплять их систематически своими
поступками, не испытывать их в действии. От степени,
характера счастья, везения человека зависит благоприятный
исход его поступков, но лишь при постоянном напряжении

всех моральных и физических сил он может добиться
обнаружения своей удачи. В этом смысле представления
скандинавов о судьбе далеки от фатализма; здесь нет и следа
пассивной покорности и смирения перед высшей силой.
Напротив, знание своей судьбы из предсказаний, гаданий,
вещих снов побуждает человека с наибольшей энергией и
честью выполнить положенное, не страшиться даже
неблагоприятной участи, не пытаться от нее уклониться, но
гордо и мужественно ее принять.
С наибольшей силой эти героические установки
выражены в песнях «Старшей Эдды». Но они явственно
видны и в сагах. Один из героев «Саги о Гисли Сурссоне»,
возвращаясь домой, узнает о грозящей ему опасности, но не
сворачивает с пути: «Отсюда реки текут к югу в Дюрафьорд,
и я тоже туда поеду». Нельзя обратить вспять водный поток,
и так же неуклонно действует судьба. Поэтому нужно смело
идти ей навстречу. В сагах не слепой детерминизм, а именно
отношение к судьбе героев саги, их решимость встретить
достойно то, что им предназначено.
Разумеется, перед нами не суверенные личности,
напоминающие людей Возрождения, — они коренным
образом от них отличаются. Человек в средневековой
Скандинавии, по-видимому, вообще слабо осознавал свою
индивидуальность. Его личность не создана им самим, она
принадлежит роду, семье, воплощая определенные
коллективные качества. Поэтому, как явствует из саг об
исландцах и из «Круга Земного», от благородного и
Рожденного в браке человека ожидают такого поведения и
образа мыслей, какого нелепо было бы ожидать от
низкорожденного или внебрачного сына. Личные
склонности отступали на задний план перед требованиями
родовой морали, и привязанность к кровным родственникам
обязательнее и сильнее, чем любовь к жене или мужу. В
человеке действует некая сила, судьба, но она
индивидуализирована столь же мало, как и его собственное
«я», — это судьба рода, коллектива.
Но вопрос о личности однозначно не решается.
Достаточно вчитаться в «Сагу о Сверрире», чтобы увидеть
яркую и своеобычную личность этого конунга-узурпатора.
Сверриру, выходцу из низов, к тому же аутсайдеру-фарерцу,
было легче, чем многим другим, осознать свою
нестандартность и обособленность. Над телом повергнутого
врага, ярла Эрлинга, Сверрир отчетливо выражает как
необычность переживаемого исторического момента, так и
собственную исключительность: «Произошла удивительная
смена времен, когда один человек заступил место трех —
конунга ярла и архиепископа, — и человек этот — я» (51, гл.
38). Подобное утверждение своей личной самобытности и
неповторимости, значимости уникально. Сверрир и на
практике выступал в роли новатора: смело заменял знатных
противников своими приверженцами из простолюдинов —
биркебейнерами («березовоногими» — они обертывали
берестой ноги, так как износили обувь), ввел важные

изменения в боевом строе войска, предоставив больше
самостоятельности отдельным отрядам, и во флоте (боевые
корабли, которые, по традиции, связывали один с другим,
теперь могли действовать более маневренно и эффективно);
Сверрир пошел на прямой разрыв с католическими
прелатами и с самим папой, не побоявшись ни интердикта,
ни отлучения. Наконец, то, что он замыслил сагу о самом
себе, которая должна была обосновать его права на престол
и восславить его, тоже было симптомом нестандартности
этого конунга.
Однако вместе с тем и Сверрир, типичный
средневековый человек, сливает свое «я» с историческими
прототипами — с королем Олавом Святым, мистическим
сыном и подопечным которого он себя изображает (см. выше
о снах Сверрира), — и сближает себя с библейскими
персонажами (в частности, с царем Давидом). Таким
образом, и эта незаурядная личность не можег не искать
собственного обоснования вовне — в религиозной и
исторической традиции — и, уподобляя себя высшим
авторитетам, стремится растворить себя в них.
В представлениях скандинавов о судьбе и удаче
отражается их отношение к человеческой личности и,
следовательно, их самосознание: сознавая необходимость
активного действия, человек вместе с тем видит в его
результатах проявление силы, с ним связанной, но все же не
идентичной его личности. Эта сила поэтому нередко
представляется персонализованной в облике девы —
хранительницы удачи (такие девы — fylgja, hamingja —
фигурируют в скандинавской мифологии и в сагах об
исландцах). Для древних скандинавов вообще характерна
форма самосознания, при которой источником поступков,
мыслей, речей оказывается не сама человеческая личность, а
качества, существующие отчасти как бы помимо нее. Так,
человек не думает, но «ему думается», не он говорит, а «ему
говорится», не он завоевывает свое счастье или достигает
победы, но «ему посчастливилось», «ему выпала удача»,
«ему досталась победа» и т. д. Разумеется, было бы
опрометчиво буквально толковать соответствующие
обороты языка как непосредственное выражение
человеческой мысли и психологии — с такими же оборотами
мы встречаемся и в современных языках. Тем не менее
частота и постоянство, с какими в древнескандинавских
текстах встречаются безличные обороты, заставляют
предположить, что они в эпоху саг еше не превратились
окончательно в простые формы выражения, лишенные
специфического оттенка. В этом убеждает анализ понятия
«судьба»: судьба именно происходит, «случается» с
человеком, а не свободно им творится.
В «Саге о Гуннлауге Змеином Языке» рассказано о
том, как дочь знатного человека Торстейна, который перед
ее рождением велел матери «вынести» ее, т. е. обречь на
смерть (потому что он видел вещий сои, предрекавший
большие несчастья из-за девочки, когда она подрастет), была
