Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа)
Подождите немного. Документ загружается.

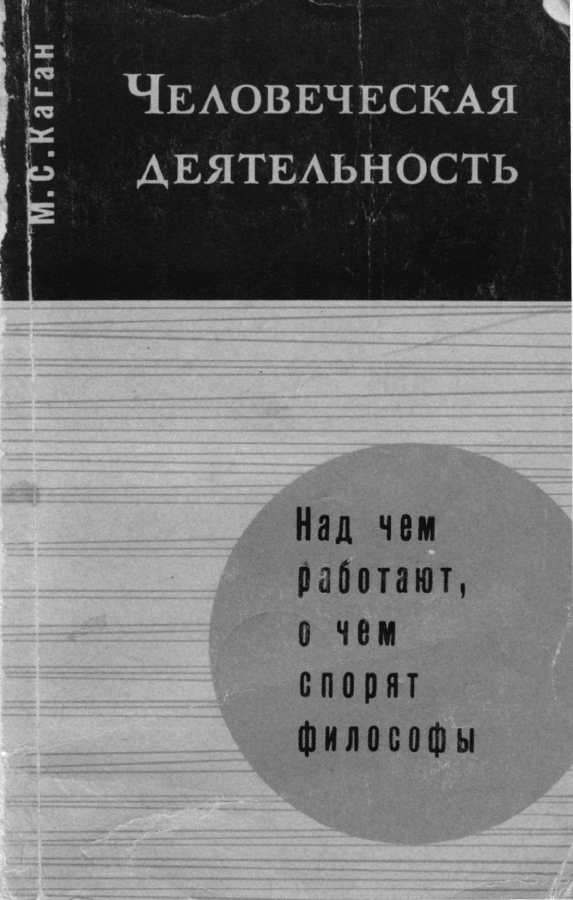
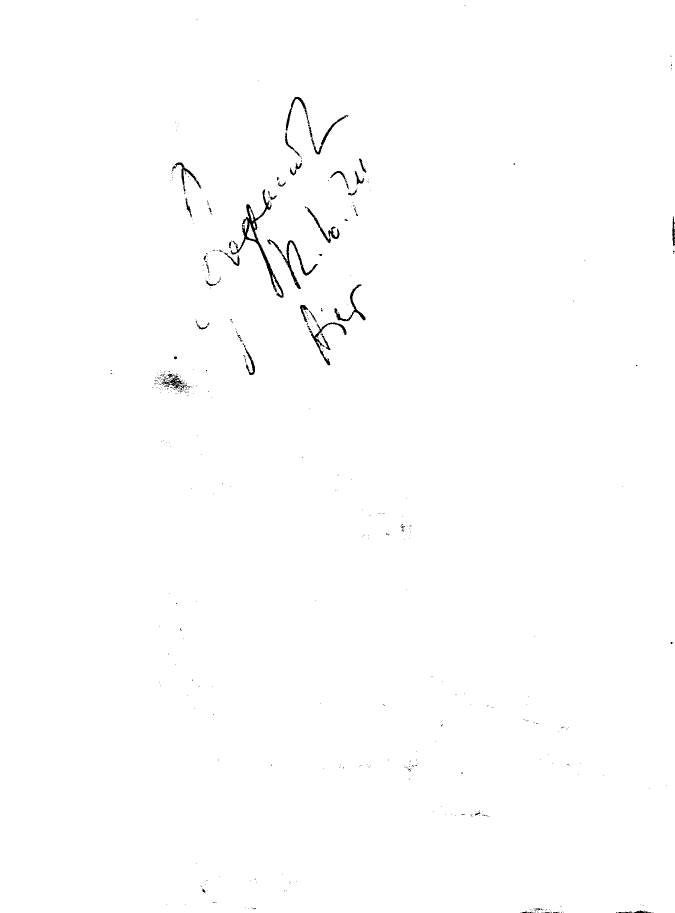
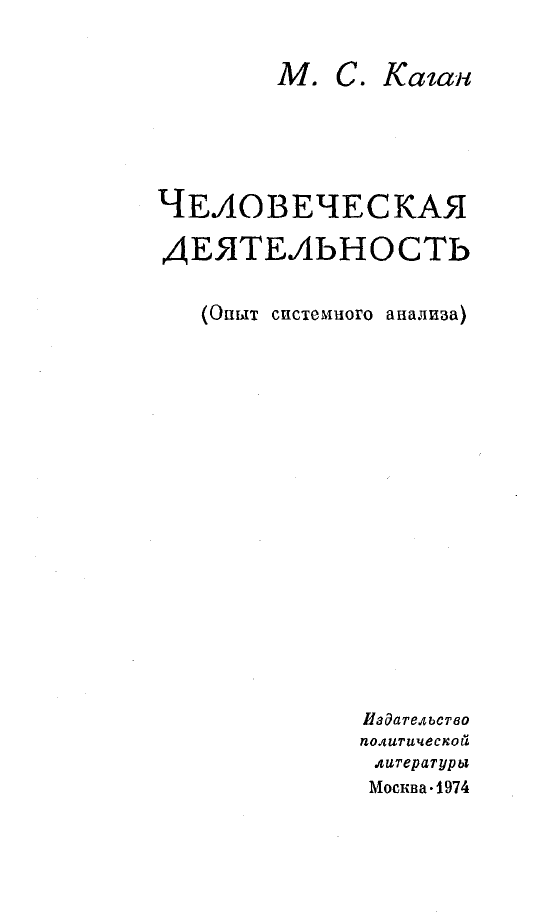
М. С.
Каган
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(Опыт системного анализа)
Издательство
политической
литературы
Москва-1974
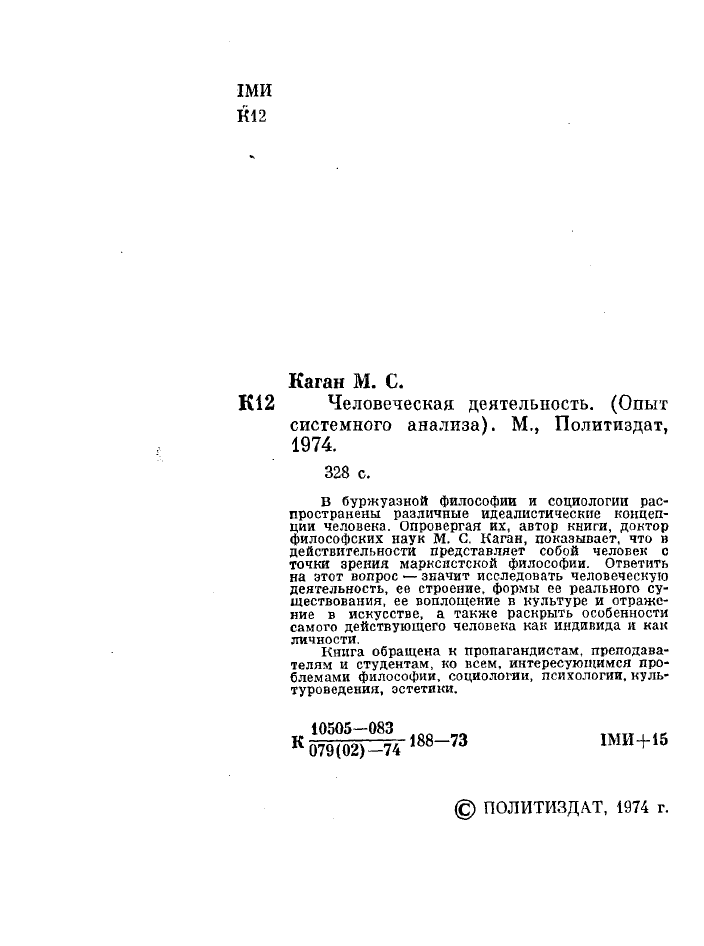
ши
К12
Каган М. С.
К12 Человеческая деятельность. (Опыт
системного анализа). М., Политиздат,
1974.
328 с.
В буржуазной философии и социологии рас-
пространены различные идеалистические концеп-
ции человека. Опровергая их, автор книги, доктор
философских наук М. С. Каган, показывает, что в
действительности представляет собой человек с
точки зрения марксистской философии. Ответить
на этот вопрос — значит исследовать человеческую
деятельность, ее строение, формы ее реального су-
ществования, ее воплощение в культуре и отраже-
ние в искусстве, а также раскрыть особенности
самого действующего человека как индивида и как
личности.
Книга обращена к пропагандистам, преподава-
телям и студентам, ко всем, интересующимся про-
блемами философии, социологии, психологии, куль-
туроведения, эстетики.
(Q) ПОЛИТИЗДАТ, 1974 г.
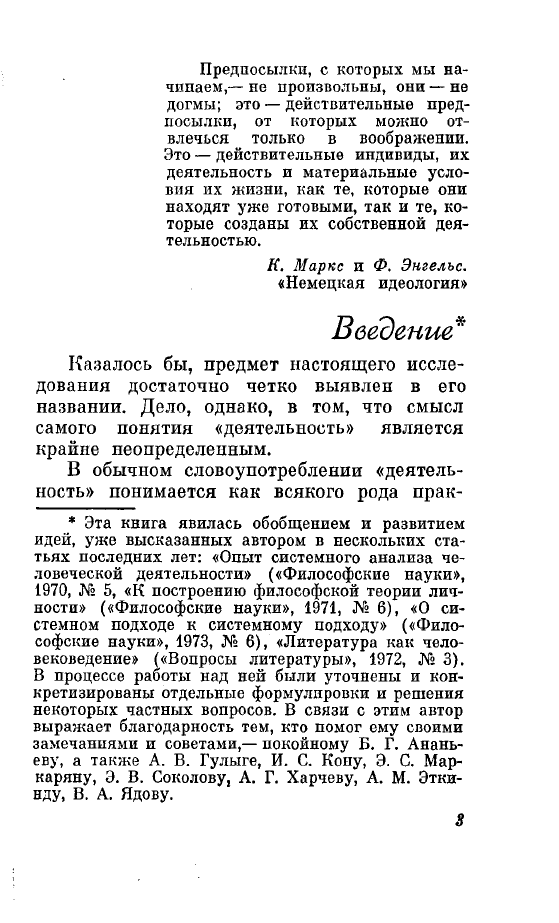
Предпосылки, с которых мы на-
чинаем,— не произвольны, они — не
догмы; это — действительные пред-
посылки, от которых можно от-
влечься только в воображении.
Это — действительные индивиды, их
деятельность и материальные усло-
вия их жизни, как те, которые они
находят уже готовыми, так и те, ко-
торые созданы их собственной дея-
тельностью.
К. Маркс и Ф. Энгельс.
«Немецкая идеология»
Введение*
Казалось бы, предмет настоящего иссле-
дования достаточно четко выявлен в его
названии. Дело, однако, в том, что смысл
самого понятия «деятельность» является
крайне неопределенным.
В обычном словоупотреблении «деятель-
ность» понимается как всякого рода прак-
* Эта книга явилась обобщением и развитием
идей,
уже высказанных автором в нескольких ста-
тьях последних лет: «Опыт системного анализа че-
ловеческой деятельности» («Философские науки»,
1970,
№ 5, «К построению философской теории лич-
ности» («Философские науки», 1971, № 6), «О си-
стемном подходе к системному подходу» («Фило-
софские науки», 1973, № 6), «Литература как чело-
вековедение» («Вопросы литературы», 1972, № 3).
В процессе работы над ней были уточнены и кон-
кретизированы отдельные формулировки и решения
некоторых частных вопросов. В связи с этим автор
выражает благодарность тем, кто помог ему своими
замечаниями и советами,— покойному Б. Г. Анань-
еву, а также А. В. Гулыге, И. С. Копу, Э. С. Мар-
каряну, Э. В. Соколову, А. Г. Харчеву, А. М. Этки-
нду, В. А. Ядову.
8
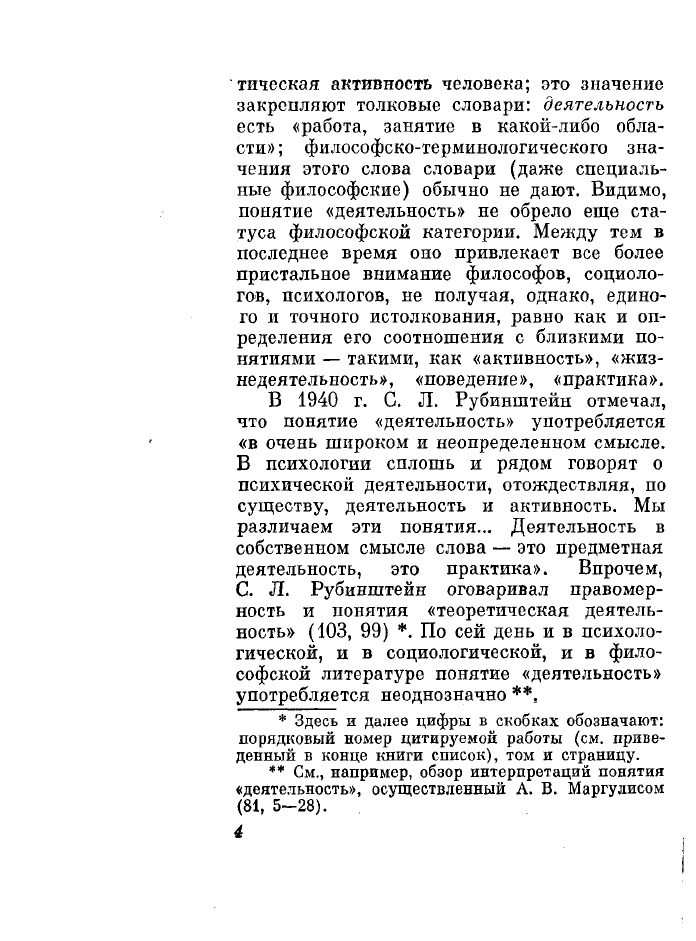
тическая активность человека; это значение
закрепляют толковые словари: деятельность
есть «работа, занятие в какой-либо обла-
сти»;
философско-терминологического зна-
чения этого слова словари (даже специаль-
ные философские) обычно не дают. Видимо,
понятие «деятельность» не обрело еще ста-
туса философской категории. Между тем в
последнее время оно привлекает все более
пристальное внимание философов, социоло-
гов,
психологов, не получая, однако, едино-
го и точного истолкования, равно как и оп-
ределения его соотношения с близкими по-
нятиями — такими, как «активность», «жиз-
недеятельность», «поведение», «практика».
В 1940 г. С. Л. Рубинштейн отмечал,
что понятие «деятельность» употребляется
«в очень широком и неопределенном смысле.
В психологии сплошь и рядом говорят о
психической деятельности, отождествляя, по
существу, деятельность и активность. Мы
различаем эти понятия... Деятельность в
собственном смысле слова — это предметная
деятельность, это практика». Впрочем,
С. Л. Рубинштейн оговаривал правомер-
ность и понятия «теоретическая деятель-
ность» (103, 99) *. По сей день и в психоло-
гической, и в социологической, и в фило-
софской литературе понятие «деятельность»
употребляется неоднозначно **,
* Здесь и далее цифры в скобках обозначают:
порядковый номер цитируемой работы (см. приве-
денный в конце книги список), том и страницу.
** См., например, обзор интерпретаций понятия
«деятельность», осуществленный А. В. Маргулисом
(81,
5-28).
4
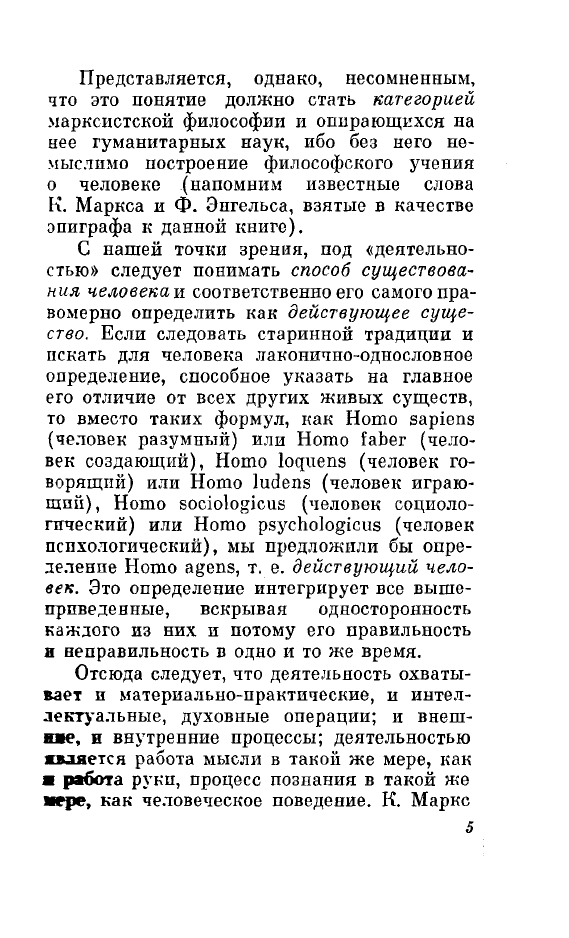
Представляется, однако, несомненным,
что это понятие должно стать категорией
марксистской философии и опирающихся на
нее гуманитарных наук, ибо без него не-
мыслимо построение философского учения
о человеке (напомним известные слова
К. Маркса и Ф. Энгельса, взятые в качестве
эпиграфа к данной книге).
С нашей точки зрения, под «деятельно-
стью» следует понимать способ существова-
ния человека и соответственно его самого пра-
вомерно определить как действующее суще-
ство. Если следовать старинной традиции и
искать для человека лаконично-однословное
определение, способное указать на главное
его отличие от всех других живых существ,
то вместо таких формул, как Homo sapiens
(человек разумный) или Homo faber (чело-
век создающий), Homo loquens (человек го-
ворящий) или Homo ludens (человек играю-
щий),
Homo sociologicus (человек социоло-
гический) или Homo psychologicus (человек
психологический), мы предложили бы опре-
деление Homo agens, т. е. действующий чело-
век.
Это определение интегрирует все выше-
приведенные, вскрывая односторонность
каждого из них и потому его правильность
и неправильность в одно и то же время.
Отсюда следует, что деятельность охваты-
вает и материально-практические, и интел-
лектуальные, духовные операции; и внеш-
нее, н внутренние процессы; деятельностью
жвляется работа мысли в такой же мере, как
• работа руки, процесс познания в такой же
игре,
как человеческое поведение. К. Маркс
5

писал, что подобно тому, как материальная
деятельность есть мое практическое самооп-
ределение и самоутверждение, так «.деятель-
ность моего всеобщего сознания как таковая
является моим теоретическим бытием как
общественного существа» (2, 590).
Таким образом, в деятельности человек
раскрывает свое особое место в мире и ут-
верждает себя в нем как существо общест-
венное. Поэтому ответить на вопрос: «Что
такое человеческая деятельность?» — значит
выяснить, что представляет собой сам чело-
век.
Решение этой задачи осуществляет
марксистская философия, в которой важное
место занимает учение о человеке. Дальней-
шая разработка этого учения становится
сейчас особенно важной. Ведь чем дальше
продвигается общество по пути социализма,
тем большее значение приобретает задача
формирования человека нового, коммунисти-
ческого типа, ибо человек, по удачному, на
наш взгляд, определению В. Г. Афанасьева,
«есть главный компонент социальной систе-
мы» (17, 45). Поэтому необходимо хорошо
знать не только природу и закономерности
экономических процессов, но п природу и за-
кономерности бытия человека. Именно так
ставится этот вопрос в Программе КПСС, в
решениях последних партийных съездов,
в выступлениях Л. И. Брежнева. Сложней-
шее дело воспитания человека зависит не
только от доброго желания и даже не только
от наличия необходимых для этого объектив-
ных условий, но и от уровня научного по-
знания человека и его деятельности. Марк-
6
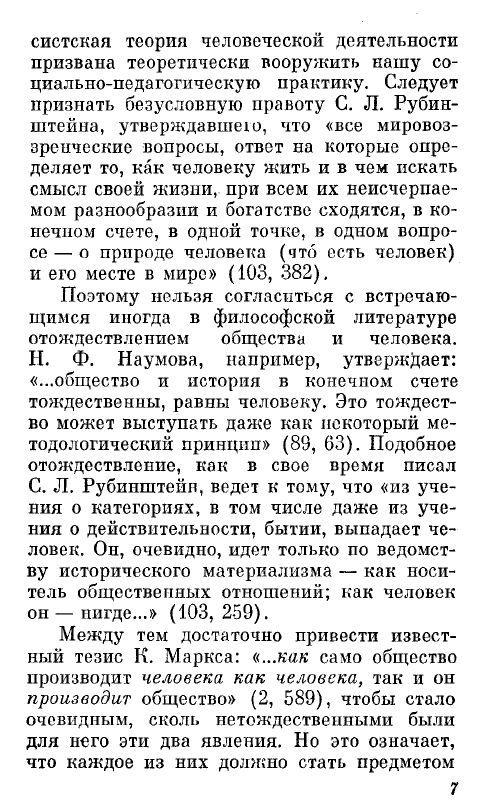
систская теория человеческой деятельности
призвана теоретически вооружить нашу со-
циально-педагогическую практику. Следует
признать безусловную правоту С. Л. Рубин-
штейна, утверждавшею, что «все мировоз-
зренческие вопросы, ответ на которые опре-
деляет то, как человеку жить и в чем искать
смысл своей жизни, при всем их неисчерпае-
мом разнообразии и богатстве сходятся, в ко-
нечном счете, в одной точке, в одном вопро-
се — о природе человека (что есть человек)
и его месте в мире» (103, 382).
Поэтому нельзя согласиться с встречаю-
щимся иногда в философской литературе
отождествлением общества и человека.
Н. Ф. Наумова, например, утверждает:
«...общество и история в конечном счете
тождественны, равны человеку. Это тождест-
во может выступать даже как некоторый ме-
тодологический принцип» (89, 63). Подобное
отождествление, как в свое время писал
С. Л. Рубинштейн, ведет к тому, что «из уче-
ния о категориях, в том числе даже из уче-
ния о действительности, бытии, выпадает че-
ловек. Он, очевидно, идет только по ведомст-
ву исторического материализма — как носи-
тель общественных отношений; как человек
он — нигде...» (103, 259).
Между тем достаточно привести извест-
ный тезис К. Маркса: «...как само общество
производит человека как человека, так и он
производит общество» (2, 589), чтобы стало
очевидным, сколь нетождественными были
для него эти два явления. Но это означает,
что каждое из них должно стать предметом
7
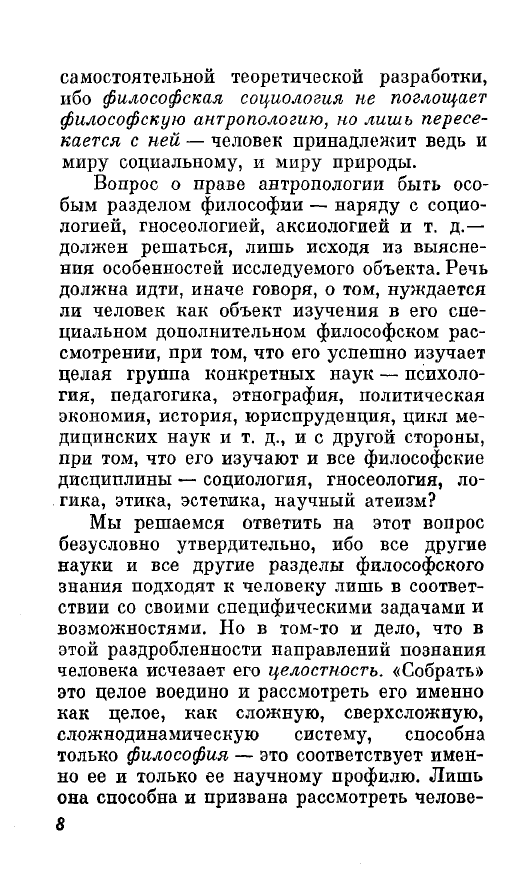
самостоятельной теоретической разработки,
ибо философская социология не поглощает
философскую антропологию, но лишь пересе-
кается с ней — человек принадленшт ведь и
миру социальному, и миру природы.
Вопрос о праве антропологии быть осо-
бым разделом философии — наряду с социо-
логией, гносеологией, аксиологией и т. д.—
должен решаться, лишь исходя из выясне-
ния особенностей исследуемого объекта. Речь
должна идти, иначе говоря, о том, нуждается
ли человек как объект изучения в его спе-
циальном дополнительном философском рас-
смотрении, при том, что его успешно изучает
целая группа конкретных наук — психоло-
гия,
педагогика, этнография, политическая
экономия, история, юриспруденция, цикл ме-
дицинских наук и т. д., и с другой стороны,
при том, что его изучают и все философские
дисциплины — социология, гносеология, ло-
гика, этика, эстетика, научный атеизм?
Мы решаемся ответить на этот вопрос
безусловно утвердительно, ибо все другие
науки и все другие разделы философского
знания подходят к человеку лишь в соответ-
ствии со своими специфическими задачами и
возможностями. Но в том-то и дело, что в
этой раздробленности направлений познания
человека исчезает его
целостность.
«Собрать»
это целое воедино и рассмотреть его именно
как целое, как сложную, сверхсложную,
сложнодинамическую систему, способна
только философия — это соответствует имен-
но ее и только ее научному профилю. Лишь
она способна и призвана рассмотреть челове-
8
