Категории жизни и смерти в славянской культуре. Сборник статей
Подождите немного. Документ загружается.


Аркадия пелопоннесская и Аркадия радзивилловская 131
Там она подстерегала весталок, принимая тихое поклонение, которого
нельзя было ей смело оказать» — любовный мотив присутствовал в Арка)
дии дискретно. В Пантеоне он соединялся с мотивом смерти, не только
благодаря наполнявшим ротонду предметам (рядом с алтарем в виде рим)
ской гробницы находился также саркофаг). Эта ротонда располагалась
в западной части храма, а именно на запад была ориентирована дорога
в потусторонний загробный мир. (Елисейские поля, впервые описанные
Геродотом, Страбон поместил в лежащей на европейском западе Испа)
нии.) Однако общее настроение в духе эпохи и масонских представлений
просветлял плафон работы Ж.)П. Норблена, на котором крылатая Эос
выводит коней Аполлона. Изображенная там же темная завеса с разор)
ванными очертаниями напоминала о Ночи, как бы постепенно исчезаю)
щей под лучами восходящего солнца. Лучи заходящего солнца вечером
отражались в зеркале, пронизывая благодаря этому весь интерьер Святи)
лища (их можно было видеть, также выйдя из Храма через открытые две)
ри восточного портика).
Различные завесы, наряду с освещением, служили в Аркадии демате)
риализации предметов, усиливая роль мотива прозрачности. Драпировки
из марокканского муслина спускались из купола Шатра рыцаря (возмож)
но именно поэтому данное восьмиугольное сооружение получило назва)
ние шатра). Ложе спальни в Святилище Дианы окружала драпировка из
японского перкаля, которая «сдвигалась ночью, чтобы своей полутенью
успокоить... возбужденное воображение». Другая драпировка, имитируя
шатер в Повонзках Чарторыской, окружала изображения этого парка, на)
писанные Норбленом. Их прикрывала «легкая занавесь из газа зеленого
цвета», которая «идеализирует вид, далеко переносит мысль и душу», —
говорилось в Путеводителе (Radziwiłł 1800).
Оформление интерьера садовыми и садоподобными ландшафтами
было традиционно для построек естественного парка, что соединяло их
с окружающей природой. Вместе с тем возникал текст о саде в тексте са)
да, вписанного в природу. В результате удвоение приобретало особый
смысл. Подобная игра природы и искусства нашла место в «Аркадии»
Санадзарро, где «получался как бы эффект поставленных друг против
друга и многократно отражающихся одно в другом зеркал: внутри романа
в аркадийскую природу вставлено искусство, а в нем опять видна арка)
дийская природа и т. д.» (Баткин 1984, 162). Так природа и культура,
соединяясь, создавали образ мира и в целом свидетельствовали об их
участии в его творении
5
.

132 И. И. Свирида
Следуя Путеводителю, через стеклянные двери спальни (на ее внеш)
ней стене располагался алтарь Пана) и «пышный ковер», выложенный из
цветов, можно было выйти к Храму Верховного жреца. «Его прекрасные
руины, украшенные рельефами, фонтанами, колоннадами, служат
приютом веселым стадам... Саркофаги, урны, перевернутые капители по)
крыты диким виноградом. Множество ползущих растений обвивает раз)
личными узорами две колонны, установленные по бокам двери». Под
сводами храма «аркадские пастухи... утвердили господство Золотого
века» (Radziwiłł 1800). Так возникал мотив мифологического времени.
Место, где «шаловливые пастухи» пасли стада, представляло «арка)
дийскую сцену», «пасторальную картину». Однако в Храме первосвящен)
ника «звон колокольчиков, повешенных на шеи овечек, веселым эхом
отража[лся] от их стен, среди которых недавно текла кровь приносимых
жертв» — так Аркадия еще раз предстала пограничьем двух миров.
В ее садах непосредственно выступил и мотив «Et in Arcadia ego». Эта
фраза была вырезана на кенотафе, который Х. Радзивилл сделала для себя.
Он находился на Тополином острове, как и гробница Руссо в Эрменон)
виле. В нише саркофага была помещена фигура усопшей св. Цецилии,
покровительницы музыки (копия П. Стаджи со скульптуры Стефано Ма)
дерно, называемой также «Аллегория счастливой смерти». 1599). Как го)
ворилось в Путеводителе, «в тени густых деревьев на черном мраморном
возвышении покоится женская фигура из белого мрамора... Очарование
места наполняет душу чувством глубокого покоя. Отсюда с сердцем,
наполненным сладкой меланхолией
6
, направляются к Гробнице Иллю)
зий, расположенной за островом среди зеленых трав
7
. Ее окружает река
Забвения... затененная плакучими вербами... Входят в эту часовню раз)
мышлений через саркофаг, поднятый на опорах» (Radziwiłł 1800).
По словам современника, пройдя под его крышкой, у него создава)
лось впечатление, что «расстаешься с жизнью и попадаешь в объятья
смерти» (Radziwiłł 1892, 148). Здесь были захоронены сердца трех дочерей
Х. Радзивилл. Здесь же хранились «утешающие», по ее словам, сочине)
ния, в том числе Э. Юнга, согласно которому, «блажен человек, который,
восчувствовав омерзение к ложным забавам мира ...осмеливается посе)
щать кладбища ... и в нощи среди гробов находит удовольствия» (Юнг
1787, 68). («С смертию дружа, дружишь ты нас с жизнью!» — писал
о Юнге Карамзин.) Поэтому «мысль о смерти не имеет здесь ничего
поражающего... отсюда следует направиться в сторону водопада, чтобы
под его тихий шум закончить размышления Юнга». В Гробнице иллюзий

Аркадия пелопоннесская и Аркадия радзивилловская 133
были изображения двух Гениев — Смерти (помещенная на двери автор)
ская реплика надгробья Елены Павловны в Павловске работы И. Марто)
са. Патинированная бронза. После 1806) и Славы (копия Я. Зейделмана
с картины А. Караччи на плафоне).
«Через Цирк покидают Аркадию». Так казалось бы умиротворенно
заканчивалось путешествие по парку. Однако оно имело скрытую конеч)
ную цель. Если ранее мотив времени проходил лишь в подтексте про)
граммы Аркадии, то в Цирке, а также Вратах времени и Обелиске (Х. Ит)
тар. Oк. 1800—1804) он выступил со всей определенностью. Цирк, со)
гласно римской традиции, получил форму прямоугольника. В Древнем
Риме подобные сооружения предназначались для конных соревнований,
а символически связывались с мыслью о беге жизни к смерти. В этом све)
те последняя фраза путеводителя по Аркадии приобретает танатологи)
ческий смысл. Вид мемориального комплекса имеет проектный рисунок
Иттара, в котором соединены изображения названных сооружений. Этот
архитектор был связан с авангардным течением европейской архитек)
туры, представленным Леду и Булле. Все его сооружения выходили за
рамки традиционных аркадийских садовых мотивов.
Последним их проявлением был Швейцарский домик (1810), окру)
женный двором, где бродили домашние животные. В его интерьер был
заключен «хрустальный дворец» (Piwkowski 2005, 149—150). Возможно,
это был бывший Шатер рыцаря, который стал теперь интерьером простой
хаты. Сооружения подобного типа с роскошными интерьерами, заклю)
ченными в пейзанскую оболочку, во множестве украшали естественные
сады, следуя деревушкам в Шантийи и садах Малого, и не относились
к собственно романтическим фольклорным интересам, вопреки выска)
занной в литературе точке зрения. Истоком швейцарских мотивов по)
служило стихотворение Галлера «Альпы» (1725), которое означало пере)
лом в восприятии гор в европейской культуре. Они перестали быть мес)
том только ужаса, что привело к их эстетизации, а также восприятию как
национального ландшафта (Woźniakowski 1995; Свирида 2007, 214—216).
С романтическими веяниями можно связать Жилище рыцаря (1814).
Оно было создано в Готическом домике в память о погибшем в войне
1812 г. Михале Гидеоне, сыне Хелены. Она собрала там предметы, связан)
ные с военной деятельностью этого наполеоновского генерала, что пре)
вратило домик в небольшой историко)военный музей. Над ним была
помещена надпись: «Доброму сыну, Чести и Родине». Так тема памяти
в Аркадии получила патриотическую окраску, в целом ей не свойственную.

134 И. И. Свирида
Аркадийская тема в поднеборовском парке была проведена с нети)
пичной для садовых программ последовательностью. Х. Радзивилл не
нарушала его цельность модными экзотическими павильонами, свойст)
венными в особенности садам рококо. Аркадия, несмотря на ее перво)
начально небольшой масштаб, не была таким. В ее программе и оформ)
лении преобладали античные и антикизирующие элементы, синкрети)
чески соединенные в главной постройке — Святилище Дианы. Другим
композиционно и семантически важным сооружением стал Акведук
с каскадом, соединявший основную часть парка с Елисейскими полями.
Связующим обстоятельством служил эзотерический подтекст программы.
Большую роль играла тема уединения, самопознания, а также мелан)
холии. В целом Делиль был прав, посвятив Аркадии в своей поэме сле)
дующие строки: «Поместью этому название дано / Аркадия: вполне
заслужено оно» (Делиль 1987, 21).
Хотя к созданию сада там были привлечены лучшие мастера, работав)
шие тогда в Польше — Норблен, Цуг, Иттар, молодые А. Орловский
и М. Плоньский, однако его общий облик был результатом влияния са)
мой владелицы. Она была цельной натурой и одержима мыслью о прехо)
дящести жизни, в чем ее убеждала смерть четырех из шести детей. Все
они оказались увековечены в Аркадии
8
. Основное действующее лицо
в парке и в «Guide d’Arcadie» — сама Хелена с ее радостями и горестями,
символически заключенными в тексте Аркадии. Она как чуткий вожатый
вводит паломника)посетителя в сокровенные смыслы своего парка. Хотя
рассказ ведется в неопределенно)личном наклонении, однако приводи)
мые в нем надписи, сделанные в парке, говорят от первого лица, в том
числе две, взятые из Горация и Петрарки
9
. Такие же Х. Радзивилл помес)
тила и на двух сторонах своего кенотафа: «Et in Arcadia ego» и «J’ai fait
Arcadie et j’y repose» — «Я создала Аркадию и я в ней покоюсь». Если
кенотафу на Тополином острове не было суждено стать гробницей
(Х. Радзивилл похоронена в костеле Неборова), то свою Аркадию она
несомненно создала, дав особый ход аркадийской идее — ее венчает
не смерть, а искусство.
Вопреки различным интерпретациям сакраментальной фразы об Ар)
кадии (Gavelle 1953), она во всех случаях неизбежно каждым проециру)
ется прежде всего на самого себя, о чем говорят и надписи на кенотафе.
В результате снимается двузначность концепта — оба прочтения, раскры)
тые Панофским, оказываются экзистенциально синонимичны. Главной
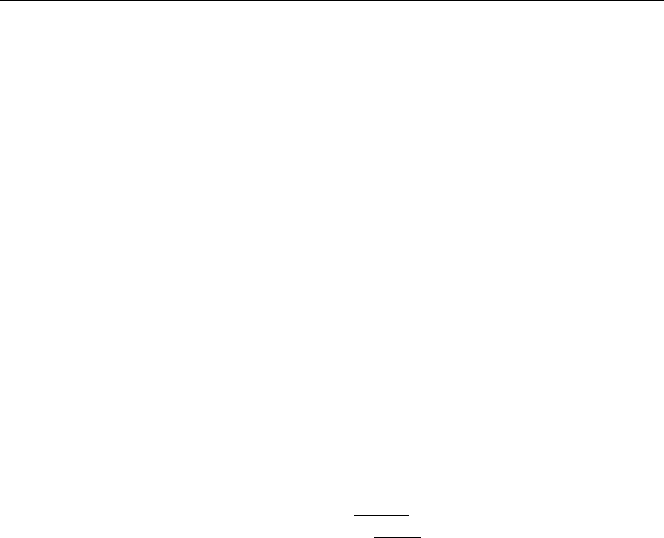
Аркадия пелопоннесская и Аркадия радзивилловская 135
персоной в том и другом случае выступает смерть. Начало ее изобра)
жению в прекрасном облике (даже превосходящем тот, который хотел
видеть де Линь) положил Ренессанс. От этого отошло барокко в своих
восходящих к Средневековью концептах, в которых драматично сопостав)
ляются жизнь и смерть
10
, но восстановил классицизм (поэтому вторая
«Аркадия» Пуссена так отличается от первого варианта, как и картины
Гверчино). Восемнадцатый век с его руссоизмом, культом естествен)
ности, склонностью к выражению сентименталистских эмоций, смягчал
трагизм смерти, мотив которой воспроизводился в идеализированном
«естественном» ландшафте. Если могильные камни в Аркадии расставля)
ло Провидение, то краеугольный камень в ее мифологизированный пре)
красный топос под звуки свирели Пана заложила Природа. Ее культ
в идеализированно)естественных формах заключал в себе как миф Арка)
дии пелопоннесской, так и образ Аркадии радзивилловской.
P. S. Под датой 29 мая 1829 г. в Памятную книгу Аркадии вписано сти)
хотворение Жуковского «Воспоминание» (1821). В нем дана еще одна
метаморфоза аркадийской темы:
О милых спутниках, которые нам свет
Своим сопутствием для нас животворили
Не говори с тоской: их нет
!
Но с благодарностию: были
!
Аркадия здесь не упоминается, от максимы «И я был в Аркадии»
остался лишь глагол быть (но в прошедшем времени и множественном
числе). Однако этого достаточно, чтобы почувствовать скрытую в этих
строках аркадийскую аллюзию, что и позволило вспомнить их после
посещения парка Хелены Радзивилл (Księga zwiedzających, 21)
11
. Кем и при
каких обстоятельствах была сделана эта не привлекавшая ранее вни)
мания запись, требует уточнения. Сличение ее с автографами Жуковско)
го позволяет предположить, что ее оставил сам автор.
Л и т е р а т у р а
Баткин 1984 — Баткин Л. М. Мотив «разнообразия» в «Аркадии» Санадзаро
и новый культурный смысл античного жанра // Античное наследие в культуре
возрождения. М., 1984.
Бодрийяр 2000 — Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
Делиль 1987 — Делиль Ж. Сады. Л., 1987.

136 И. И. Свирида
Линь 1809)1 — Линь Ш. Ж., де. О смерти // Письма, мысли и избранные тво)
рения принца де Линя. М., 1809. Т. 3. Ч. 6.
Линь 1809)2 — Линь Ш. Ж., де. Взор на сады // Письма, мысли и избранные
творения принца де Линя. М., 1809. Т. 4. Ч. 8.
Линь 1809)3 — Линь Ш. Ж., де. Изображение княгини Радзивилл Аркад)
ской // Письма, мысли и избранные творения принца де Линя. М., 1809. Т. 3.
Ч. 6.
Майкапар — Майкапар А. «Et in Arcadia Ego»: до и после Пуссена // http://
www.maykapar.ru/articles/arkadia.shtml.
Свирида 1994 — Свирида И. И. Сады Века философов в Польше. М., 1994.
Свирида 2004)1 — Свирида И. И. Между sacrum и profanum // Оппозиция сак)
ральное/светское в славянской культуре. М., 2004.
Свирида 2004)2 — Свирида И. И. От антитезы город — сад к городу)саду //
Культура и пространство. Славянский мир. 2004.
Свирида 2007 — Свирида И. И. Естественный ландшафт и сад в русском со)
знании: от игумена Даниила до Карамзина // Ландшафты культуры. Славянский
мир. М., 2007.
Соколов 2005 — Colonna F. Hypnerotomachia Poliphili.Venice. A. Manutius, 1499
/ Пер. Б. М. Соколова. Цит. по: Любовное борение во сне Полифила [Главы
XXI—XXIV. Путешествие на остров Киферу] в: Соколов Б. М. «Чистосердечный
читатель, рассказ о снах Полифила выслушай...» Архитектура, эрудиция и неоп)
латонизм в романе Франческо Колонны // Искусствознание. 2005. № 2.
Цивьян 1987 — Цивьян Т. В. К семиотической интерпретации мотива лестни)
цы)«лесенки» в античной вазописи (вокруг Адониса и Диониса) // Исследования
по структуре текста. М., 1987.
Юнг 1787 — Юнг Э. Бытие разумное. М., 1787.
Gavelle 1953 — Gavelle R. Et in Arcadia ego // Bulletin de la Société d’Études du
XVIIe siècle. 1953. № 18.
Kępińska 1978 — Kępińska A. Jan Piotr Norblin. Wrocław etc., 1978.
Księga zwiedzających — Księga zwiedzających. Аркадия. Рукоп. отд.
Ligne — Ligne Ch. J. de. Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires, à mon refuge
sur le Leopoldberg près de Vienne et se vend à Dresde chez les Frères Walther. 1795—
1811. Vol. 1—34.
Matté — Matté C., Matté J. L. Iconographie de la cornemuse. Inventaire des represen-
tations conserves en France // http://jeanluc.matte.free.fr/contred/contre49
.
Mikocki 1995 — Mikocki T. Collection de la Princesse Radziwiłł. Les monuments
antiques et antiquisants d'Arcadie et du chateau de Nieborów. Wrocław—Warszawa, 1995.
Panofski 1955 — Panofski E. Et in Arcadia ego. Poussin and the Elegiac Tradition //
Panofski E. Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History. New York, 1955.
Piwkowski 1987 — Piwkowski W. Et in Arcadia ego. Program Arkadii nieborowskiej na
przełomie XVIII/XIX wieku i dzisiaj // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. 1987.
XXXI.

Аркадия пелопоннесская и Аркадия радзивилловская 137
Piwkowski 1995 — Piwkowski W. Arkadia. Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłło-
wej. Warszawa, 1995.
Piwkowski 2005 — Piwkowski W. Nieborów. Warszawa, 2005.
Radziwiłł 1800 — [Radziwill H.] Guide d’Arcadie. Berlin, 1800.
Radziwiłł 1892 — [Radziwiłł M. P.] X. M. R. Ostatnia wojewodzina wileńska (Helena
z Przeździeckich Radziwiłłowa). Lwów, 1892.
Przewodnik Arkadii 1848 — S. Ż. Przewodnik Arkadii // Album literckie. T. 1. Warsza-
wa, 1848.
Swirida 1993 — Swirida I. W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stu-
lecia a wolnomularstwo // Ars Regia. 1993. Vol. II.
Szafrańska 1985 — Szafrańska M. La nostalgie retrouvée // Les Cahier de Varsovie.
1985. № 12.
Woźniakowski 1995 — Woźniakowski J. Góry niewzruszone: o różnych wyobrażeniach
przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków, 1995.
П р и м е ч а н и я
1
Сад жизни и сад смерти разделились и у Пушкина как воплощающие живот)
ворящую силу плодородия и образ недвижной, навечно застывшей природы
(«Вертоград моей сестры»).
2
Оркестровые партии этого контрданса недавно обнаружены в архиве (Matté).
3
Заложена в 1782 г. Шимоном Богумилом Цугом (1733—1807), создателем
значительных классицистических сооружений. В 1770—1780)х годов он разбил
наиболее известные польские естественные парки — Повонзки И. Чарторыской,
Мокотув И. Любомирской, Солец, На Ксенженцем и На Гуже К. Понятовского.
В оформлении Аркадии участвовали также связанные с Х. Радзивилл художники.
Об Аркадии см.: (Piwkowski 1987); подробнее о фигурирующих в статье польских
садах и илл. см.: Свирида 2004)1.
4
Постройки по образцу римского Пантеона сооружались во многих садах Ев)
ропы, начиная с Чизика лорда Барлингтона. В радзивилловской Аркадии так на)
зывалась ротонда в западной части Святилища Дианы.
5
Эффект подобного удвоения (а точнее мультиплицирования) можно ощу)
тить на переплете дореволюционной «Детской энциклопедии» Ю. Н. Вагнера,
где изображен мальчик, который, глядя вдаль, держит раскрытый том этой
энциклопедии. На его переплете изображена та же картинка, на которой вновь
изображен мальчик, держащий книгу с этой картинкой. Это можно представить
в непрерывном повторении, что создает образ бесконечно углубляющегося мира,
вызывая желание все же действительно заглянуть в этот далекий мир, т. е. читать
Энциклопедию.
6
Как «уголок меланхолии» этот фрагмент парка изобразил Норблен (Нац. му)
зей в Кракове). Реконструкция саркофага в: Piwkowski 2005, 305.

138 И. И. Свирида
7
В один из 16 известных проектов Гробницы иллюзий включены заказанные
в Петербурге копии фрагментов двух статуй И. Прокофьева из Египетского вес)
тибюля Павловского дворца (Piwkowski 2005, 146). Автор проекта Хенрык Иттар
(1773—1850), по предположению воспитанник Французской академии в Риме.
8
Х. Радзивилл была творчески одаренной натурой, передав художественные
способности своим потомкам, среди которых наиболее известен сын Антони,
талантливый композитор, первый автор музыки к «Фаусту» Гёте, а также чело)
век, в доме которого играл Шопен. Благодаря рисовальным талантам детей
и внуков оказались запечатлены несохранившиеся виды Аркадии, среди них
Вход в парк и Шалаш отшельника, крытый соломой и примостившийся к Гроту
Сивиллы (К. Радзивилл, 1796), а также события семейной жизни, в том числе
Шопен, играющий в Антонине (Познанское воеводство), и портрет композитора
(два рисунка Е. Радзивилл. 1829). Репр. в: Piwkowski 2005.
9
Такое представление аркадийского мотива от первого лица дано Батюшко)
вым в стихотворении «Надпись на гробе пастушки» (широко известно по либрет)
то «Пиковой дамы» Чайковского):
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой,
И я, на утре дней, в сих рощах и лугах
Минуты радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастие сулила:
Но что ж досталось мне в сих радостных местах? —
Могила!
10
Фраза «Et in Arcadia ego» не встречается у античных авторов и приписывает)
ся папе Клименту IX (Джулио Роспильози), покровителю выдающегося барочно)
го скульптора Бернини.
11
Подчеркивания в тексте, сделанные в этой Книге, заменяют курсив в ори)
гинале Жуковского.
О. Ю. Тарасов
Эпитафия в творчестве
Василия Васильевича Верещагина
Отклонение от правил всегда вызывает повышенное внимание зрителя.
Учитывая это, известный русский художник В. В. Верещагин использо)
вал в своих знаменитых экспозициях древний как мир принцип серии
изображений — принцип рассказа средствами живописи. Эту особенность
своего творчества он считал новаторской, указывая в письме к В. В. Ста)
сову, что «перешагнул» через «рутинное» правило, по которому живопи)
сец должен довольствоваться моментом и предоставлять «дальнейшее
развитие этого момента литературе». Сближение живописи и литературы
означало, что свои серии Верещагин называл «поэмами», картины в них —
«главами», а этюды к ним — «фактами» (Переписка 1963, 14). Известно,
что появление на раме карточки с именем художника и названием кар)
тины — исторический факт определенного развития концепции автора
и его социального статуса. Художники Возрождения, рисуя такие таблич)
ки прямо на холсте, помещали на них свое имя и дату создания картины,
иногда текст)обращение представленного персонажа к зрителю (Wazbin-
ski 1963, 278—283). Таков образец подписи на портретах и картинах
Антонелло да Мессино — «Антонелло Месинец меня написал». Итальян)
ские и фламандские живописцы XV в. часто писали на раме различные
тексты, включая прямую речь своих персонажей. В XIX в. их рамы при)
влекли внимание назарейцев и прерафаэлитов, которые стали помещать
на раму не только свое имя, но и всевозможные стихи, цитаты из литера)
турных сочинений, а также надписи от первого лица изображенных на
картине персонажей. Таковы, например, рамы Д. Россетти, В. Ханта,
Ф. Брауна и других художников. В творчестве Верещагина все эти прие)
мы использования рамы для усиления воздействия самой картины соеди)
нились с поэтикой русского романтизма. В связи с этим особое значение
для него приобретает название картины, надпись на раме, а также сло)
весный комментарий, который помещается в каталог выставки.
Центральное место в экспозиции Туркестанской серии (1874) прина)
длежало «героической поэме» «Варвары» — циклу из семи картин, по)

140 О. Ю. Тарасов
вествующих о гибели русского отряда в столкновении со среднеазиат)
ским войском. Это «Нападают врасплох» (1871, ГТГ), «Торжествуют»
(1872, ГТГ), «Представляют трофеи» (1872, ГТГ), «У гробницы святого —
благодарят Всевышнего» (1873, ГТГ) и др. Однако под первым номером
значилась картина «Смертельно раненый», открывавшая всю экспози)
цию и написанная в Мюнхене спустя пять лет после того, как художник
видел данную сцену во время обороны самаркандской крепости. На кар)
тине был изображен смертельно раненый и падающий на бегу солдат; по
замыслу — это миг между жизнью и смертью, который художник «под)
глядел» в реальности. Автор и герой, художник и солдат — оба они перед
лицом смерти, — вот что должен был зритель не только увидеть, но эмо)
ционально почувствовать. И именно это ощущение трагизма подчеркива)
ла монументальная рама со стеклом, уподоблявшая картину
погребальной
стеле
. Она содержала черное паспарту со строгим золотым орнаментом,
которое, с одной стороны, сближало картину с надгробием (придавая ей
мемориальный характер), с другой — отсылало к рамке фотографии.
Перед глазами зрителя представал как бы фотографический кадр, мето)
нимический характер которого усиливался вынесенным на раму пред)
смертным восклицанием солдата: «Ой, убили братцы!.. Убили! Ой,
смерть моя пришла!» Это своего рода
говорящая эпитафия, которую
обычно помещали на могилах и стелах. То есть стремление к жизнеподо)
бию и иллюзионистичности заставило художника применить древнюю
эпиграфическую формулу — поместить на раму надпись от первого лица,
в которой издавна реализовалась идея говорящего надгробия. Более того,
в этой же надписи усматривалась и традиция
посвятительной эпиграм*
мы
. Используя речь изображения, эпиграмма, подобно эпитафии, также
воплощала отношение к картине или статуе как живой и говорящей
1
.
Именно такую стихотворную эпиграмму художник составил на картину
«Забытый» (1871), на которой был изображен оставленный своими това)
рищами убитый солдат:
Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене;
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать мать сыра земля... (Каталог 1874),
— рама с данной надписью сохранилась в фондах Третьяковской галереи.
Возможно, она была приобретена П. М. Третьяковым после уничто)
жения картины художником и служила для показа сделанной с нее фото)
графии.
