Лотман Ю.М., Живов В.М., Аверинцев С.С., Панченко А.М. и др. Из истории русской культуры. Том IV (XVIII - начало XIX века)
Подождите немного. Документ загружается.


устроить амазонскую роту из вооруженных женщин». Бе командиром сделали Елену Сар-
данову, жену ротного капитана; «сто дам собрались под ее начальство».
Балаклавским амазонкам придумали маскарадный наряд: «юпки из малинового бархата,
обшитые золотым галуном и золотою бахромою, курточки зеленого бархата, обшитые
также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и
блестками, с белыми страусовыми перьями». Из даже вооружили — дали по ружью и по
три холостых патрона. Недалеко от Балаклавы императрица в сопровождении Иосифа II
делала смотр амазонкам. «Тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная
лимонами и апельсинами» и т. д. Это штрих характерный, но мелкий и в нашей теме
ничего не проясняющий.
Среди потемкинских зрелищ было много и таких, которые дают интересный материал для
истории развлечений XVIII в., истории придворного быта и придворного поведения.
Таковы, прежде всего, иллюминации и фейерверки. В Каневе вечером 7 мая, при отъезде
польского короля Станислава-Августа «с императорской яхты ему
690
салютовали пушками с флотилии, как утром. Иллюминация обелиска с вензелем
императрицы была весьма удачна, так же милы были жирандоль с букетом, в четыре
тысячи ракет, и огненная гора, которая казалась лавою» (Дневник... 30—31)
4
.
Особенно большое впечатление произвел фейерверк в Севастополе. Принц Карл-
Генрих Нас-сау-Зиген, состоявший в русской службе, так описывает восторженную
реакцию «графа Фалькенштейна»: «Император говорит, что он никогда не видел
ничего подобного. Сноп состоял из 20 тысяч больших ракет. Император призывал
фейерверкера и расспрашивал его, сколько было ракет, „на случай, — говорил он, —
чтобы знать, что именно заказать, ежели придется сжечь хороший фейерверк". Я видел
повторение иллюминации, бывшей в день фейерверка; все горы были увенчаны
вензелями императрицы, составленными из 55-ти тысяч плошек. Сады тоже были
иллюминированы; я никогда не видел такого великолепия!» (В. В. Т. 1893, 298) Столь
же роскошные и расточительные иллюминации были в Бахчисарае и других городах.
Конечно, многое, очень многое в задуманной Потемкиным феерии имело чисто
развлекательные цели. Конечно, на это ушла уйма казенных денег, миллионы и
миллионы, которым нужно и должно было найти лучшее, полезное стране
применение. В этом отношении, пожалуй, прав был граф де Людольф, заметивший,
что «для разорения России надобно не особенно много таких путешествий и таких
расходов» (Людольф 1892, 183). Но вот что важно: Потемкин действительно
декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации.
Сохранились десятки описаний путешествия по Новорос-сии и Тавриде. Ни в одном из
этих описаний, сделанных по горячим следам событий, нет и намека на «потемкинские
деревни», хотя о декорировании упоминается неод-
4
Здесь, между прочим, подчеркнута разница между скромными приемами П. А. Румянцева и
блистательными — Потемкина (там же, 26).
691
нократно. Вот характерный пример из записок графа Се-гюра: «Города, деревни,
усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными деко-
рациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они
представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками,
великолепными садами» (Сепор 1907, 233).
Важно и другое: потемкинская феерия была так блестяща, так разнообразна и
непрерывна, что не всякий наблюдатель был в состоянии отличить развлечения от идей
— в высшей степени серьезных, поистине государственного масштаба. Если
пользоваться принятой ныне терминологией, то можно сказать, что некоторые из потем-
кинских «чудес» обладали повышенной знаковостью. Обозревая путешествие
Екатерины II внимательно и день за днем, мы в силах отделить плевелы от зерен,

выявить сквозные мотивы, на которых делался постоянный акцент.
Прежде всего, это флот. Тема флота — первая из звучащих в описаниях тем. Она
начинается уже с Киева, когда Потемкин перенял от П. А. Румянцева попечение над
державной гостьей. Екатерина со спутниками отплыла вниз по Днепру на галерах. Они
были построены в римском стиле, отличались колоссальными размерами (на галере
«Десна» была даже особая обеденная зала) и богатейшим декорумом. Окруженные
малыми судами, шлюпками и лодками, галеры возглавляли целую флотилию, которая и
правда представляла собою величественную картину. . • -
Быть может, это просто-напросто «царский поезд», роскошное средство передвижения?
Ничуть не бывало. Галеры были вооружены, производили маневры, салюты и т. д. Вот
как готовилась встреча польского короля: «Ему будет оказана церемониальная встреча;
все галеры выстроятся в боевом порядке и будут салютовать из орудий. Все катера
поедут за ним, с высшими придворными чинами» (В. В. Т. 1893, 289). Покуда это
выглядит как развлечение или нечто подобное, но тема флота продол-
692
жается и звучит все громче и громче — ив переносном смысле и в буквальном,
поскольку становится все мощнее гром корабельных пушек.
Последние дни мая 1787 г., Херсон. Иосиф II, он же «граф Фалькенштейн», уже
присоединился к русской царице. Предоставляем слово графу де Людольфу: «26-го я
присутствовал при самом великолепном в мире зрелище, так как в этот день был
назначен спуск военных кораблей. По моем приезде в Херсон (сколько можно судить,
автор прибыл туда ровно за две недели до описываемого торжества, 12 мая, — А. П.) я не
мог себе представить того, чтоб эти суда могли быть готовы к прибытию императрицы,
но работали так усердно, что к назначенному сроку все было готово... Все сделано
только на скорую руку. Тем не менее я был поражен прилагаемою ко всему дея-
тельностью. Это страна вещей удивительных, и я их всегда сравниваю с тепличными
произведениями, только уж не знаю, будут ли они долговечны» (Людольф 1892, 180).
Далее описывается спуск на воду трех кораблей, одному из которых из любезности по
отношению к австрийскому императору было дано название «Иосиф II». В только что
приведенной цитате восхищение перемешано со скепсисом. Это вообще свойственно
отзывам иностранцев
5
, как видно хотя бы из такой сцены, зафиксированной де
Людольфом: «Император Иосиф и весь двор поздравляли императрицу с таким успехом,
государыня спросила у императора по-немецки о том, что, он думает об ее хозяйстве. Но
он ограничился тем, что ответил ей глубоким безмолвным поклоном, предоставив
зрителям истолковывать по своему усмотрению это весьма двусмысленное выражение
того, что он думает!» (там же, 181). Европейцы оставались неисправимо самодовольны:
всякий русский успех казался им нонсенсом: «Строитель — русский и никогда не выез-
5
Иногда их наблюдения совершенно курьезны. Таково, например, изумление де Людольфа по поводу
парных бань, заставляющее вспомнить известную легенду об апостоле Андрее в «Повести временных
лет» (Людольф 1892, 192).
693
жал из своего отечества, но, по-видимому, он хорошо знает свое дело, потому что знатоки
говорят, что корабли эти очень хорошо сделаны» (там же). Главный сюрприз, однако, был
еще впереди.
Апофеоз флотской темы — посещение Севастополя. Нет нужды описывать знаменитый
парадный обед в Ин-керманском дворце, из окон которого открывался великолепный вид
на севастопольский рейд. По знаку, данному Потемкиным, занавеси были отдернуты и
стоявший на рейде черноморский флот салютовал Екатерине и ее гостям. Нет нужды
описывать также объезд кораблей (Отрывки... 40—41; ср.: 44). Впрочем, одну деталь
стоит упомянуть, поскольку она «маркирована», поскольку ей придана «повышенная
знаковость»: Екатерина объезжала суда на катере, который был точной копией
султанского.
Чрезвычайно интересна реакция иностранцев, присутствовавших на обеде в
Инкерманском дворце. «Император был поражен, увидев... прекрасные боевые суда,

созданные как бы по волшебству... Это было великолепно... Первой нашей мыслию было
аплодировать» (В. В. Т. 1893, 294— 296); на прогулке граф Сегюр говорил «графу
Фалькен-штейну»: «Мне... кажется... что это страница из „Тысячи и одной ночи", что меня
зовут Джаффаром и что прогуливаюсь с калифом Гаруном-аль-Рашидом, по обыкновению
его переодетым» (Сегюр 1907, 249). Иначе говоря, Потемкин добился своего. Мысль о
флоте, о черноморской эскадре, прочно укоренилась в умах путешественников.
Следующий из сквозных мотивов — мотив армии. «Переехав через Борисфен, мы увидели
детей знатнейших татар, собравшихся тут, чтобы приветствовать императрицу. Поговорив
с ними, мы двинулись к каменному мосту, до которого оставалось более 30 верст... Тут
ожидало нас до трех тысяч донских казаков со своим атаманом. Мы проехали вдоль их
фронта, весьма растянутого, так как они строятся в одну линию. Когда мы их миновали,
вся эта трехтысячная ватага пустилась вскачь, мимо нашей кареты, со своим обычным
гиканьем. Равнина мгновенно
694
покрылась солдатами и представляла воинственную картину, способную всякого
воодушевить» (В. В. Т. 1893, 291).
«Воодушевление» охватывало участников путешествия и в других местах. В
Кременчуге состоялись большие маневры («блистательный смотр войск» — Сегюр
1907, 240); татарская конница сопровождала Екатерину (в качестве почетной
охраны) от Перекопа; демонстрировалось как регулярное, так и иррегулярное
войско, в частности калмыцкие полки и т. д.
Третий мотив, который, подобно флоту и армии, воплощался зримо и наглядно, —
это мотив цивилизации. Все знали, что Новороссия совсем недавно была присое-
динена к империи Екатерины II; что это пустынная степь, без городов, дорог, без
оседлого населения. Целью Потемкина было продемонстрировать, что этот
обширный край уже практически цивилизован или, по крайней мере, энергично
цивилизуется.
«Признаюсь, что я был поражен всем, что видел, — писал граф де Людольф, — мне
казалось, что я вижу волшебную палочку феи, которая всюду создает дворцы и
города. Палочка князя Потемкина могущественна, но она ложится тяжелым гнетом
на Россию... Вы без сомнения думаете, друг мой, что Херсон пустыня, что мы живем
под землей; разуверьтесь. Я составил себе об этом городе такое плохое понятие,
особенно при мысли, что еще восемь лет тому назад здесь не было никакого жилья,
что я был крайне поражен всем, что видел... Князь Потемкин... бросил на
учреждение здесь города семь миллионов рублей». И далее следуют похвалы
«кремлю», домам, планировке улиц, «саду императрицы» («в нем 80 тысяч
всевозможных плодовых деревьев, которые процветают» — Людольф 1892, 170, 172,
175), построенному для императрицы дворцу, верфи и т. д.
Даже упомянутый выше Иоанн-Альберт Эренстрем, апологет мифа о «потемкинских
деревнях», вынужден был сделать оговорку, которая свела на нет все его инвективы
по адресу новороссийского наместника. От инвектив
695
автор переходит к похвалам «более существенных предметов для глаз» (Эренстрем
1893, 12) — триумфальных ворот в городах, арсеналов, красивых каменных и дере-
вянных домов и дворцов, крепостей и т. п.
Символом цивилизаторских усилий стала закладка Бкатеринослава; это произошло
тотчас же по приезде императора Иосифа II, на другой день. Не все в этой церемонии
удалось Потемкину так, как он задумал. В частности, не успела прибыть из Берлина
гигантская статуя Екатерины. Но грандиозность планов Потемкина и без того
поражала воображение. После того как в походной церкви (т. е. в шатре, раскинутом
на берегу Днепра) отслужили молебен, два монарха заложили первый камень в
основу екатеринославского собора.
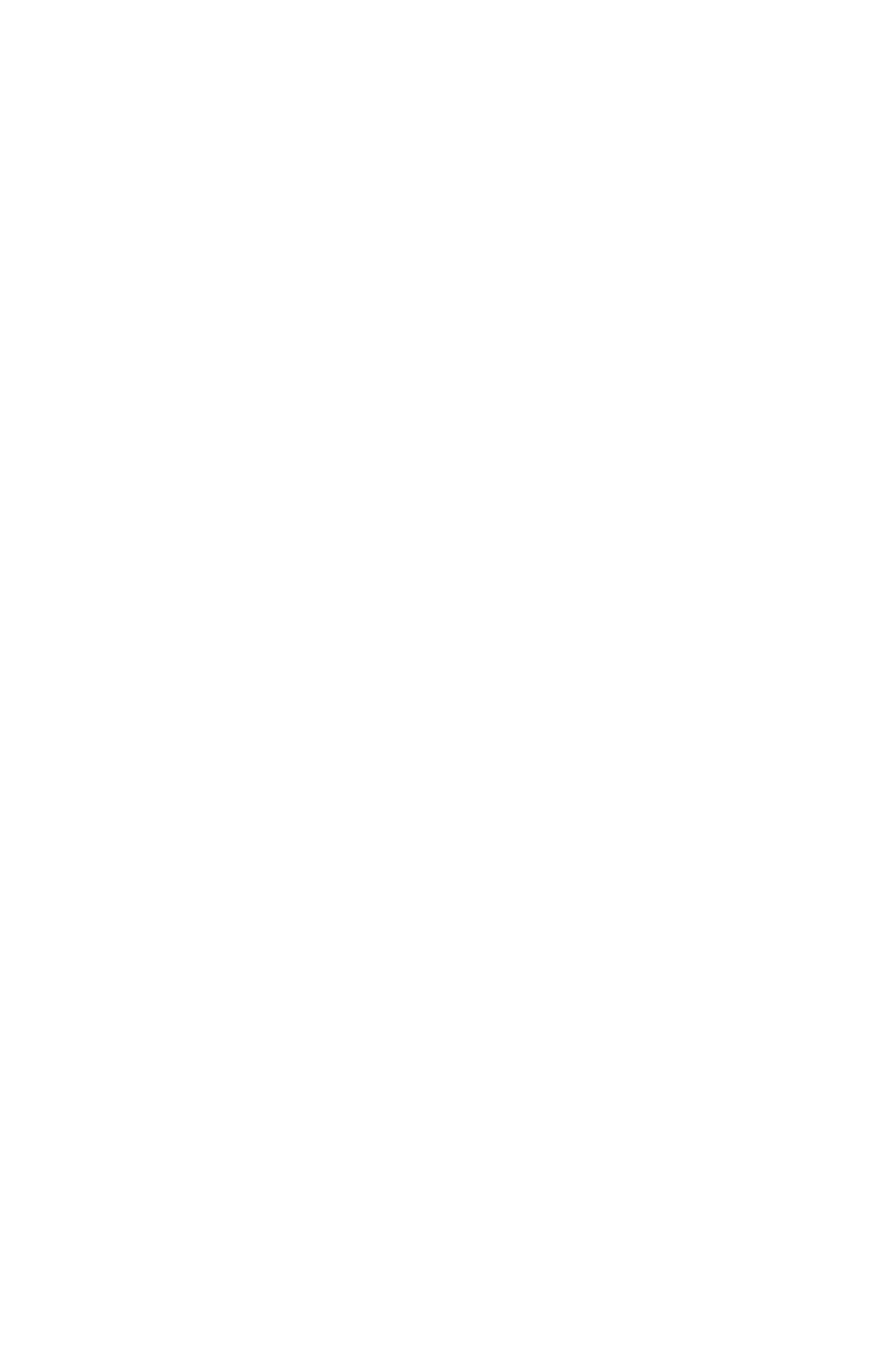
Согласно проекту, он должен был походить на собор св. Петра в Риме. Существуют
достоверные рассказы, что Потемкин приказал архитектору превзойти эту главную
святыню католического мира, «пустить на аршинчик длиннее, чем собор в Риме»
6
.
Пусть «граф Фалькенштейн» в разговорах с Сегюром и де Линем смеялся над Потем-
киным; пусть грандиозная постройка так и не осуществилась (возвели только
фундамент, обошедшийся в семьдесят тысяч рублей; впоследствии, когда
Екатеринослав из проекта превратился в реальный город, церковь все же была
выстроена — но такая обыкновенная и скромная, что фундамент стал ее оградой). Но
нас занимает не только реальность, но также идея, также планы Потемкина. Они были
грандиозны до фантастичности.
Екатеринослав предполагали сделать столицей Ново-россии. Все было предусмотрено
— не забыта даже музыкальная академия, которой предназначалось заведовать
знаменитому Сарти. Если и позволительно говорить о «потемкинских деревнях», то к
ним относился один Екатеринослав — город-мираж на днепровском берегу. Пара-
доксальность ситуации состоит в том, что Потемкин более
6
Русский архив, 1865, с. 870.
696
всего потряс путешественников не тем, что он им показал, а тем, что они могли увидеть
только на планах. Здесь мы вступаем в мир идей — и это, вне всякого сомнения, самое
интересное в новороссийском путешествии.
Над ним как бы витал дух истории. И русские, и иностранцы, сколько можно судить по
запискам, коррес-понденциям и мемуарам, все время о ней думали и разговаривали. Когда
после встречи со Станиславом-Августом царица послала ему знаки и ленту ордена Андрея
Первозванного, она сопроводила этот жест грамотой, в которой упоминалось легендарное
путешествие апостола Андрея по Днепру, из «Грек в Варяги» (ведь встреча с польским
королем произошла на Днепре). Граф де Людольф на археологические темы: «При
раскопках в развалинах Хер-сонеса найдено множество монет Александра Великого,
некоторых римских императоров и Владимира Первого, явившегося сюда в 988 году,
чтобы креститься. Он женился на дочери константинопольского императора Анне»
(Людольф 1892, 157).
Не будем уличать автора в недостаточном знании истории (это проявилось бы, если бы
цитата была продолжена). Важнее то, что он очертил некоторые исторические вехи,
которые присутствовали в сознании путешественников, идею преемства от Греции прежде
всего. Эту идею подтверждает такой красноречивый и беспристрастный источник, как
топонимика: отнюдь не случайно возникавшие в Новороссии и Тавриде города получали
греческие названия. Не случайно столицей Крыма не был оставлен Бахчисарай. Его
должен был заместить Симферополь, ибо в глазах Потемкина и Екатерины это был уже не
татарский Крым, а именно Таврида.
Вторая веха обозначена именем Владимира I Святославовича. Каждому было ясно, что
речь идет о законных и стародавних правах России на новые земли. И, наконец, третья —
и главнейшая веха. Она связана с именем и делом Петра I.
697
Приведем в высшей степени характерный разговор графа Сегюра с Екатериной II:
«Ваше величество загладили тяжкое воспоминание о Прутском мире... Основанием
Севастополя вы довершили на Юге то, что Петр начал на Севере» (Сегюр 1907, 580).
Тема Петра отмечена и А. В. Храповицким, передавшим слова, сказанные импе-
ратрицей в Кременчуге: «Жаль, что не тут построен Петербург; ибо, проезжая сии
места, воображаются времена Владимира I, в кои много было обитателей в здешних
странах». Другая запись — спустя две недели: «Говорено с жаром о Тавриде.
Приобретение сие важно.: предки дорого заплатили бы за то; но есть люди мнения
противного, которые жалеют еще о бородах, Петром I выбритых» (Храповицкий 1902,
20 [4 мая], 21 [21 мая]). Даже в побочных, факультативных аналогиях явственно

звучит петровская тема: так, Херсон однажды был сопоставлен с Воронежем (там
Петр, как известно, выстроил корабли для азовского похода; это был первый русский
флот). В другой раз Херсон. сопоставлен с Амстердамом: там Петр учился
корабельному делу.
На этом фоне особое значение приобретает закладка Екатеринослава, становится
понятной потемкинская мегаломания. Екатеринослав призван был стать соперником
Петербурга. Это вполне русская традиция; чтобы ее понять, приведем несколько
исторических справок.
Еще со времен Московской Руси идея приемства и государственного развития
символизировалась «обновлением» столиц и патрональных храмов. Иван Грозный
противопоставляет Москве Александровскую слободу и Вологду. Первая — это
личная резиденция царя (иностранцам твердят, что царь уехал туда для «прохладу», т.
е. для отдыха, развлечений), зато вторая призвана быть столицей новой России. В
Вологде Иван Грозный строит Успенский собор (называемый также Софийским) по
образцу московского, который в свою очередь через владимирский Успенский собор
преемственно связан с киевской Софией.
698
При Петре I роль Александровской слободы играет Преображенское, роль Вологды —
Петербург. Он, по словам Феофана Прокоповича, олицетворяет новую, «златую» Россию,
которая рассматривается как противовес и противоположность Московской Руси, России
«древяной» (Феофан 1760,1, 113).
Та же линия очевидна в деятельности Екатерины II и Потемкина. Присоединенные к
империи земли прямо именуются «Новороссией». Екатеринослав по названию своему
прямо ассоциируется с Петербургом, «городом Петра». Что касается задуманного
екатеринославского собора, то мысль сделать его «на аршинчик длиннее» собора Св.
Петра в Риме — это мысль конкурентная. Как некогда соперничали Константинополь и
Рим, так ныне Екатеринослав, столица наместничества, включающего Тавриду (т. е.
перенимающего ответственность за греческое и византийское наследство), бросает вызов
Европе. Если Петр «прорубил окно в Европу» на Балтике, если он там создал флот, то
Екатерина добилась выхода к другому морю, Черному (что в свое время не удалось
Петру). Гром пушек севастопольской эскадры, который так потряс присутствовавших на
парадном обеде в Инкерман-ском дворце, призван был еще раз напомнить о том, что
Екатерина — счастливая продолжательница дела Петра. Петр — первый, до него никто из
русских монархов не «нумеровал» себя, непременно именуясь «по отчеству». Такое
наименование подчеркивало эволюционность престолонаследия, мысль о традиции, о
верности заветам старины. Назвав себя Первым, чему в русской истории не было
прецедента и что вызвало прямо-таки апокалипсический ужас старомосковской партии,
Петр тем самым подчеркнул, что Россия при нем решительно и бесповоротно
преобразуется.
Екатерина именовалась Второй; с чисто легитимной точки зрения она соотносилась с
Екатериной I. Но с точки зрения культурологической, Второй она была по от-
699
ношению к Петру Первому; именно таков смысл надписи на Медном Всаднике.
Понимали эти «прожекты» иностранцы или не понимали? Если и нет, им, по всей
видимости, постарались это разъяснить. Впрочем, в записках путешественников то и
дело встречаются темы проектов и планов. Об этом все время рассуждал граф Сегюр:
он думает, что цель Екатерины II — «не покорение Константинополя, но создание
Греческой державы из покоренных областей, с присоединением Молдавии и Валахии
для того, чтобы возвести на новый престол великого князя Константина». Если
отвлечься от частностей, надо признать, что граф Сегюр обладал глубоким и метким
умом. Он высмеял европейские слухи о том, что про путешествие «везде будут думать,
будто они (Екатерина II, — А. П.) с императором хотят завоевать Турцию, Персию,

может быть, даже Индию и Японию».
Среди иностранных гостей ходило много толков о русских прожектах: «В этой стране
ежедневно появляются новые планы; они могут быть лишь вредными, если они не
выполняются с мудростью и если они не представляют собой никакой действительной
пользы; но я замечаю, что в данную минуту это есть наиболее обильная проектами в
мире страна» (граф де Людольф).
Следовательно, Иосиф II и посланники европейских держав превосходно поняли, с
какой целью взяла их в путешествие Екатерина. Их скепсис был скорее маской. За нею
скрывался страх, что Россия сумеет осуществить свои грандиозные планы. В этой
среде и появился миф о «потемкинских деревнях» (конечно, нельзя забывать и о
русских подголосках — о них речь шла выше; их позиция — это позиция конкурентов
Потемкина, их поползновения были прежде всего карьеристскими).
Заметим, что уже во время путешествия и особенно сразу после него буквально все
иностранные наблюдатели пишут о неизбежной и близкой войне России с Турцией.
Известно, что не только Франция и Англия, не только
700
Пруссия, но даже союзная внешне Австрия буквально толкали Турцию на открытый
конфликт. Коль скоро в Новороссии и Тавриде нет «существенного», нет хорошего
войска, нет хорошего флота, коль скоро там есть только «потемкинские деревни», —
значит, победа Турции возможна, значит, Крым снова будет ей принадлежать.
Турции пришлось убедиться, что миф о «потемкинских деревнях» — это действительно
миф.
Литература
Брнкнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891.
В. В. Т. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. // Русская старина. 1893. Ноябрь.
Гарновский М. А. Записки Михаила Гарновского: двор императрицы Екатерины II // Русская
старина. 1876. Т. 15 № 1, с. 9—38; Т. 16 № 2, с. 237—265.
Дневник... Дневник, веденный во время пребывания императрицы Екатерины II в Киеве и Каневе
одною из придворных дам короля Станислава-Августа // Сын отечества, 1843. Кн. 3.
Дуси. [Г. Дуси.] Записка об амазонской роте // Москвитянин, 1844, ч. 1, № 1.
Людольф де. Письма о Крыме // Русское обозрение. 1892. Март.
Отрывки... Отрывки из записок севастопольского старожила // Морской сборник. 1852.
Сепор Л. Ф. Пять лет в России при Екатерине Великой. Записки графа Л. Ф. Сегюра (1785—
1789)// Русский архив, 1907, М 10.
Словарь... Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1960. Т. X.
Феофан. Феофан Прокопович. Слова и речи. СПб., 1760, ч. I. Храповяцкнй А. В. Дневник.
1782—1793. М., 1902. Щербатов М. М. ЧОИДР т. 1. 1860.
Эренстрем И.-А. Из исторических записок Иоанна-Альберта Эренстрема. Сообщил Г. Ф.
Сюннерберг // Русская старина. 1893. Июль.
В. М. Живов
КОЩУНСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ В СИСТЕМЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦА XVIII —
НАЧАЛА XIX ВЕКА
I. Кощунство в восточной и западной культурных традициях
Как кажется, ни в какой другой период развития русской поэзии мы не сталкиваемся с
таким широким распространением обыгрывания в поэзии текстов Св. Писания и
богослужения, эпизодов св. истории, элементов церковного обряда и т. д., как в последние
два десятилетия XVIII и первые три десятилетия XIX века. Дельвиг пишет (Дельвиг 1934,
395 [нач. 20-х годов]):
Что ж Соломону вопреки Глупцы вино бранят? Простить им можно: дураки Не знают, что творят.
Подтекстом этих строк, которые взяты из прославляющей вино песни, изобилующей
библейскими реминисценциями (см. примечания Б. Томашевского, там же, 495), являются

слова Христа на Голгофе: «Отче отпусти имъ: не водить бо, что творятъ» (Лк. 23.34). Это
кощунственное употребление слов Христа в контексте вакхической песни несомненно
мыслится как комическое цитирование, сообщающее стихам особое вольнодумное остро-
умие. Тот же прием применен для создания эпиграмма-
702
тического эффекта в стихах Державина «Заповедь» (Державин 1933, 372):
Любите и врагов,
О люди добрые! любите,
Хотя ослов и псов
И им добро творите:
Похвальные стихи пищите.
В этих стихах пародийно используется текст Мф. 5.44. Примеры такого обыгрывания
можно привести во множестве (см. ниже), поэтому представляется существенным
выяснить его функциональный смысл
1
.
Прежде всего, следует иметь в виду, что в традиционной («допетровской») системе
православной культуры всякая игра с сакральными текстами или с церковным
обрядом не может не восприниматься как кощунство; священные тексты могут
появляться лишь в сакральном контексте, причем эта взаимосвязь настолько сильна,
что предметы и лица, попадающие в сакральный контекст, сами по себе
сакрализуются.
Иная ситуация наблюдается на Западе. Начиная по крайней мере с трубадуров,
сакральные образы употребляются здесь в любовной лирике. Как отмечает М. Шапиро
(Schapiro 1973, 34), «на протяжении средних веков пове-
1
При этом следует иметь-в виду, что соотнесенность с библейско-литургическими текстами
ощущается в этот период и там, где мы, видимо, не были бы склонны ее находить. Поэтому
совокупность примеров «каламбурного» использования таких текстов значительно больше, чем
это представляется на первый взгляд. Так, в «Благонамеренном» за 1823 г. было напечатано
направленное против П. А. Катенина «Объявление о стихотворениях моего приятеля NN» — «В
Москве, в Петербурге не знают приятеля моего. Ни его баллад, ни его песен, ни его комедий, ни
его трагедий». В письме А. Е. Измайлова, рассказывающем о прохождении этого объявления через
цензуру, говорится: «Не вымарано ничего, только местоимение его переставлено с зада на перед,
чтобы неблагомыслящие не сочли за пародию X заповеди: ни вола его, ни осла е г о, ни рабыни е г
о и пр.» (см. Левкович 1978, 157, 191). Для соотнесения, таким образом, оказывается достаточной
постпозиция местоимения.
703
ствовательные книги Ветхого Завета читались с мирской точки зрения как эпические
сказания о иудейских героях и героинях, совершенных в своем мужестве, мудрости и
красоте. Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Соломон, Иудифь и другие часто упоминались в
куртуазной литературе как образцы благородства рядом с персонажами из греческой или
римской истории». При этом средневековая католическая Европа вырабатывает
специфическое отношение к сакральным текстам, обнаруживающееся как в поведении
(карнавальные традиции), так и в литературе. «Клирики, — пишет Э. Ильвонен (llvonen
1914, 42), — обращались со священными предметами как с привычными и интимными,
неприемлемым для современного сознания образом. Эта черта характерна для всей
церковной литературы средних веков. Лишь после эпохи Реформации церковные авторы
усвоили в этом отношении более сдержанный подход. К концу XII в. голиарды ввели в
употребление особый литературный жанр, основывавшийся на систематической вставке в
их латинские или французские светские стихи сакральных текстов, которые они приспо-
сабливали к какому угодно предмету. В течение XIII в. они в этих пародиях обращались
прежде всего к эротическим и бурлескным мотивам. С XIV по XVI.вв. на передний план
выступили темы политические. И позднее о светских предметах продолжали писать в
форме молитв или церковных гимнов. Этот жанр известен народной поэзии вплоть до
наших дней» (ср. еще Lehmann 1963). Существенно отметить, что эти кощунства остаются
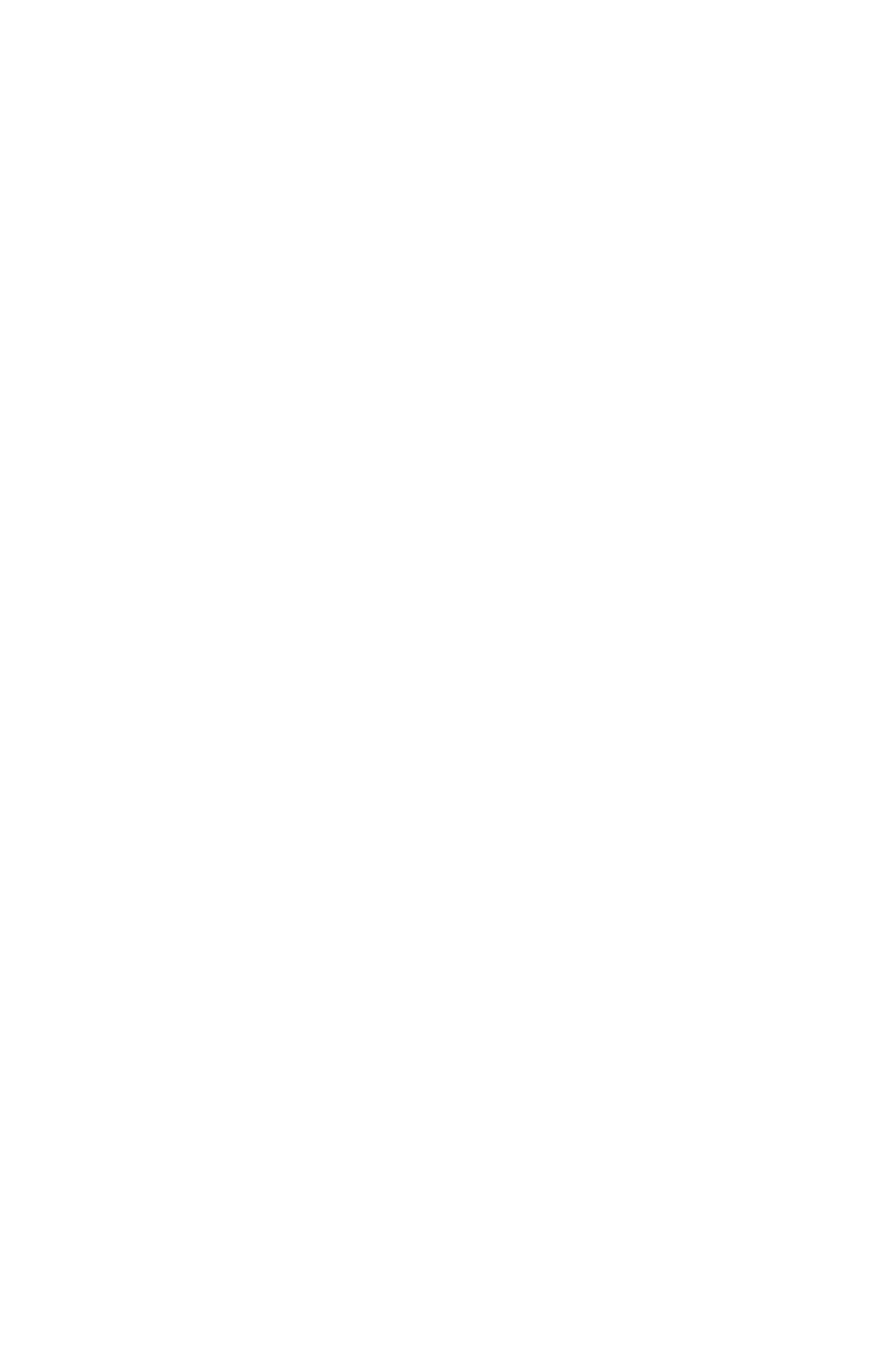
— по крайней мере, отчасти — нейтральными с религиозной точки зрения (ср. Алексеев
1972, 316). Действуя на совсем иных основаниях, свою лепту вносит сюда и Реформация,
которая создает целую традицию рассмотрения актуальных событий — от исторических
до бытовых — через призму св. истории.
Нельзя, конечно, утверждать, что традиционно православный взгляд на вещи (см. о нем в
интересующем нас аспекте: Лотман и Успенский 1976) целиком сохранился
704
в России вплоть до занимающего нас периода; тем более нельзя утверждать, что он был в
равной мере присущ всем культурным группам русского общества, столь кар* динально
различным в своей духовности. Усвоение элементов западноевропейской образованности
русским дворянством, чрезвычайный наплыв юго-западнорусского духовенства и
его.влияние, широкие народные контакты с той же юго-западнорусской культурой,
переход от элементарного общенародного к сословно-профессиональному образованию и
многое другое изменяло — но изменяло по-разному — мироощущение большинства этих
культурных групп. Тем не менее, нельзя думать, что для конца XVIII — нач. XIX в.
традиционно-православная культура утратила все свое значение. Во многих своих
элементах эта традиционная система остается культурной нормой
2
, так что даже для тех,
которые ее не принимают, она мыслится своего рода эталоном, отклонением от которого
определяется степень независимости и оригинальности. Для нас особенно существенно,
что заданность сознанию этого эталона сообщает актуальное ощущение кощунства
всякому автору разбираемого периода, использующему сакральные, выражения для
каламбура или пародии
3
.
2
Можно даже думать, что с середины XVIII в. начинается некоторое движение возвращения к этой
норме — сначала довольно слабое, выразившееся в практическом отказе от крайностей Духовного
Регламента и иных нововведений Прокоповича и его единомышленников, а к середине XIX в. уже
вполне ярко сказавшееся в деятельности, например, преосв. Игнатия Брянчанинова и монахов Оптикой
пустыни. Существованием этой нормы объясняется, на наш взгляд, и процесс сакрализации личности
монарха, осуществляющийся 'в ХУШ — нач. XIX вв. Отнесение к правящему монарху всей библей-
ской и экклезиологической символики царства, чрезвычайно характерное Для проповеди, оды,
похвального и приветственного слова этого времени, воспринимается в рамках данной нормы не как
конвенциональное, а как безусловное, т. е. отождествляющее монарха с Христом и ветхозаветными
святыми, Христа прообразующими.
8
Ниже будет указан ряд исключений из этого положения, связанных с пародированием штампов
поэтического языка высокого стиля, имеющих в основании библейские или литургические выражения.
705
Это доказывается, в частности, тем фактом, что целый ряд острот того времени не могут
иметь ровно никакого смысла, если не имеют смысла кощунственного — этот же
последний и указывает на существование упомянутого эталона. Так, Пушкин в письме
Вяземскому от 14 октября 1823 г., сопоставляя «упоительные мечты» своего «Кавказского
Пленника» с «упоительными мечтаньями» «Послания Давыдову» Вяземского, пишет:
«твоя от твоих» (XIII, 69). Это выражение взято из завершающего анамнезис возгласа
священника на литургии: «Твоя отъ твоихъ те&Ь при-носяще, о всгЬхъ и за вся».
Поскольку чин литургии явно не входит в число источников литературных цитат (как, на-
пример, классические авторы), это обыгрывание богослужебного текста имеет смысл
только как кощунственная вольность, возможная лишь в достаточно узком кругу еди-
номысленных друзей и — как таковая — сообщающая письму одновременно вольный и
интимный оттенок.
Данный пример лишь показывает, что норма православной культуры продолжает
мыслиться, тогда как объяснение рассмотренного кощунства, в сущности, не столько
отвечает на вопрос, почему Пушкин кощунствует, сколько демонстрирует всю сложность
этого вопроса. В самом деле, если кощунственная вольность возможна лишь в узком
кругу, встает вопрос, каков этот круг; если мы утверждаем его единомыслие, то следует
понять, в чем именно он единомыслен.
Трудно считать, что это единомыслие состоит в вольнодумстве или атеизме.

Действительно, если эти качества можно еще приписать Пушкину и Вяземскому, то В. В.
Капнисту и Г. Р. Державину они явно не свойственны
4
. Однако в письме Капниста и
Хемницера Державину от 5 марта 1781 г. с разбором державинской «Оды на новый год»
мы находим явную параллель к приведенному выше примеру.
4
Ср. многочисленные религиозные стихи Державина или описание религиозного восторга, пережитого
им при написании оды «Бог» (Державин III, 594). Ср. также обширную переписку Капниста с женой,
исполненную глубокого пиетизма (Капнист I960).
706
Говоря об излишней детализации державинской оды, они пишут: «Не раздробляй, да не
раздробишася. См. послание свят. Боало к пиитам» (Капнист 1960, 258). Пародируются,
видимо, слова диакона из чина литургии «раздроби, влады-ко», следующие за ними слова
священника («раздробляемый и неразделяемый» и т. д.) и синтаксическая структура
гомилетических сентенций.
Никакой ясности не приносит и предположение о генетической связи русских
литературных кощунств с французской антиклерикальной литературой. Даже в тех
случаях, где эта связь очевидна (как, например, при переводе), остается вопрос о функции
этих текстов в русской ситуации. В самом деле, вполне понятно, какой цели отвечают они
во Франции. Там мы находим влиятельное духовенство и католические монашеские
ордена, обладающие собственной политической концепцией и с определенным успехом
проводящие собственную культурную политику. Их деятельность распространяется не
только на «культурную» сферу (науку, литературу, искусство), но и на всю общественную
и политическую жизнь. Эти притязания клира на доминирующее положение во всех
сферах вызывали естественный отпор у тех, чьи политические, научные или культурные
воззрения не совпадали с санкционированными Римом
6
.
В интересующий нас период в России подобные явления полностью отсутствуют, и
поэтому антиклерикализм не имеет никакой реальной почвы. В общественной жизни, а
тем более в политике духовенству отведена явно второстепенная роль. Вплоть до
николаевского царствования продолжаются разборы духовенства, при которых
5
И здесь западный антиклерикализм опирается на длительную традицию — от гиббелинов до
французских противников ультрамонтанства. Отметим для сравнения', что в Англии, где подобные
проблемы относительно англиканской церкви не стоят (до начала XIX в., когда защита Высокой церкви
соединяется с торийской политикой), нет ни традиции антиклерикальной литературы (есть специально
антипапистская и специально антипуританская), ни традиции литературного кощунства.
707
лишние члены духовного сословия либо отдаются в солдаты, либо записываются в
экономические крестьяне
6
. Возраст и состояние лиц, поступающих в монастырь,
строго контролируются синодом и светской властью, так что часто пострижение
обеспечивается лишь подкупом ряда должностных лиц. И в культурной, и даже в
собственно религиозной сфере иерархия только выполняет приказания светской
власти
7
(в частности, во время реакции начала 90-х годов, когда она даже приходит в
растерянность от возложенных на нее задач, например, духовной цензуры). Синод, в
30-е и 40-е годы еще боровшийся за равноправие с сенатом, постепенно превращается
даже не в одну из коллегий, а в один из департаментов, что практически и
осуществляется в 1817 г. при образовании Министерства духовных дел и народного
просвещения (министр — кн. А. Н. Голицын — одновременно и обер-прокурор
синода). Такая ситуация сохраняется до 1824 г., когда деятельность (общественная)
митр. Серафима и арх. Фо-тия приводит к отставке Голицына, закрытию Библейского
Общества и к некоторой независимости (или, вернее, прецеденту независимости)
духовенства
8
.
Возможно, конечно, что при доминирующем влиянии французской культуры
некоторая часть литературных кощунств переносится на русскую почву почти меха-
6
Впрочем, есть случаи (см. Владимирский-Буданов 1874, 232), когда лица духовного сословия
сами просят о переводе их в экономические крестьяне, что еще раз показывает, сколь незавидным

было положение духовенства.
7
Характерно, например, что для заведенных Екатериной народных училищ учебники Закона
Божиего пишутся светским лицом (Янковичем), и светские же лица Закон Божий в этих училищах
преподают — см. Толстой 1886, 102.
8
Основание для антиклерикализма дает, естественно, и положение церкви в рамках позднейшей
теории «самодержавия, православия, народности». Характерно, однако, что император Николай в
своем стремлении к консолидации всех общественных групп империи находит необходимым
обзавестись подобной теорией. Ретроспективно это означает, что до николаевских преобразований
православие было лишь второстепенным атрибутом самодержавной системы, не дающим
основания для политического антиклерикализма.
708
нически и субъективно воспринимается как свидетельство политического вольнодумства
(антиклерикализма). Таковы некоторые стихи кн. Горчакова, «Ноэль» Вяземского,
«Монах», «Бова», «Гавриилиада» Пушкина и т. д. Однако и здесь — при отсутствии
реальных оснований для антиклерикализма — мы находим лишь холостую (в плане
конкретной политической направленности) деятельность. Такая деятельность должна,
видимо, пониматься как характеристика литературной (и специфически литературной)
позы или как средство социокультурного обособления. Это особенно ясно в случае с кн.
Горчаковым, начало антицерковных выступлений которого приходится еще на период
официального вольтерьянства Екатерининского царствования: поскольку князь отнюдь не
выступает глашатаем официозных мнений, а скорее ставит себя в оппозицию к ним, он
явно сражается с им самим выдуманным призраком (или, возможно, как истинный
европеец, с европейскими, т. е. западными «клерикалами»). Последующие события
исказили в глазах позднейших критиков расстановку сил, очевидную для современников,
и на идеологические споры интересующего нас периода была наложена привычная схема
противостояния клерикализма и антиклерикализма; одним из результатов было и
возникновение рубрики антиклерикальной поэзии
9
.
Итак, литературные кощунства в России не могут быть объяснены (политическим,
общественным) антиклерикализмом. Следовательно, причину их мы должны искать в
области культуры, в культурной (а не политической или общественной) позиции
определенного круга лиц. Каков круг этих лиц и какова их культурная позиция, нам и
предстоит выяснить (мы уже видели, что свести эту позицию к религиозному
вольнодумству не удает-
9
Так, уже П. В. Анненков полагает, что «Гавриилиада» была написана «в виде ответа на корыстное
ханжество клерикальной партии» (Анненков 1874, 146), причем одним из главных деятелей этой
партии оказывается кн. А. Н. Голицын. Как хорошо известно, этот схематизирующий подход получил в
дальнейшем широкое развитие.
709
ся). Представляется, что для решения этих вопросов следует изучить характер
произведений, в которых обнаруживаются кощунства (обыгрывание священных текстов).
II. Жанровые ограничения кощунственных текстов. Кощунство в пародии
Жанровый характер поэтического мышления XVIII в. (см. о нем, например, Гуковский
1927) не был вполне разрушен и в интересующий нас период, поэтому вопрос о характере
произведений, допускающих кощунства, разумно поставить как вопрос о жанровых
признаках, сочетающихся с обыгрыванием сакральных текстов.
Можно сразу же отметить, что кощунство невозможно в жанрах высокого стиля: оде,
кантате, героической поэме, трагедии и т. д. Существенно, что оно не встречается и в
рамках реформированной Державиным оды, даже в таких ее типах, как державинское «На
счастие» и многочисленные ему подражания
10
.
В жанрах не высокого стиля наблюдается большое разнообразие. Редко встречаются
кощунства (как и вообще библейско-литургические реминисценции) в лирике,
выражающей «частные» чувства, и в стихотворениях антологического характера, т. е. в
элегии, идиллии, буколике, героиде, любовном послании и пр. В частности, мы почти не
наблюдаем кощунств в любовной лирике
11
, если
