Лотман Ю.М., Живов В.М., Аверинцев С.С., Панченко А.М. и др. Из истории русской культуры. Том IV (XVIII - начало XIX века)
Подождите немного. Документ загружается.

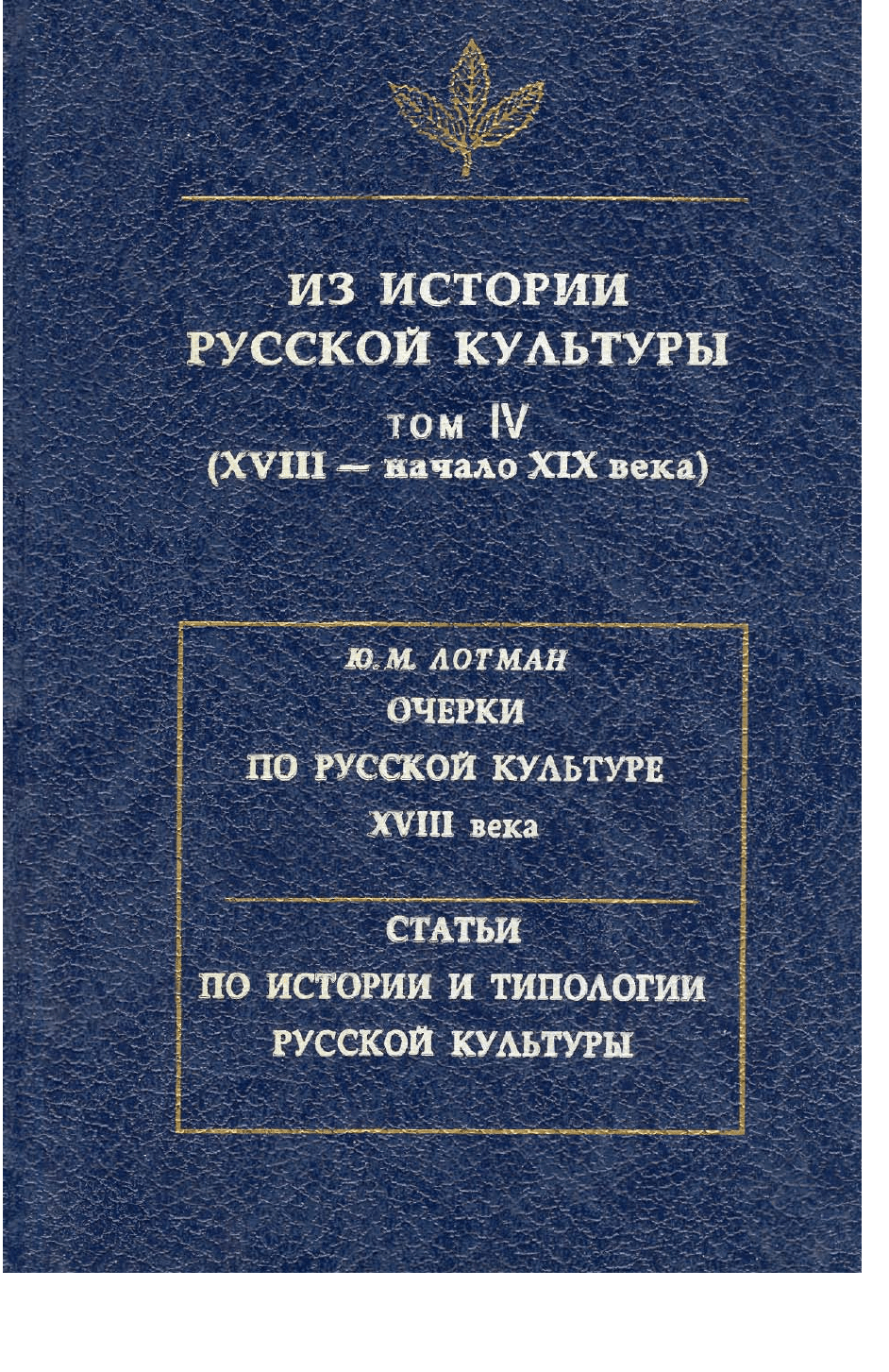
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
том IV

(XVIII — начало XIX века)
Школа «ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1996
СОДЕРЖАНИЕ
От составителя.............................................................9
Часть первая Ю. М. ЛОТМАН
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА
ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................13
ГЛАВА I. ИДЕИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ..............................27
1.1. Две концепции происхождения власти
в Древней Руси (договор и награда)....................27
1.2. Природа государственной власти глазами теоретика и читателя XVIII века........................39
1.3. Природа государственности в теории Просвещения....................................................59
ГЛАВА II. ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ XVIII ВЕКА.............................83
2.1. Роль и место литературы в сознании эпохи.........84
2.2. О жизни, которая не умещалась в литературу,
и литературе, которая становилась жизнью..........94
2.3. Литература и читатель: жизнь по книге.............106
2.4. Классицизм: термин и (или) реальность.............123
2.5. Жизнь текста в пространстве между кистью художника и зрением аудитории.......................148
ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО XVIII —
НАЧАЛА XIX ВЕКА..................................161
3.1. Люди и чины..................................................161
3.1.1. «Трудитца о ползе и прибытке общем...» .....162
3.1.2. Табель о рангах.........................................167
3.1.3. Мундиры, ордена, титулы...........................184
3.1.4. Эволюция петровской концепции службы ....195
3.2. Женщина в культуре XVIII века.......................204
3.2.1. «Женский взгляд» на жизнь и культуру......204
3.2.2. Женский мир............................................205
6
3.2.3. Женские характеры в литературе
и жизни....................................................233
3.2.4. Женское образование в XVIII — начале XIX века.........................................................247
3.3. Стереотипы бытового поведения и восприятия
жизни.............................................................265
3.3.1. Сватовство. Брак. Развод............................265
3.3.2. Итог пути.................................................295
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................327
ЛИТЕРАТУРА..........................................................337
Часть вторая
СТАТЬИ ПО ТИПОЛОГИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
ПРОТ. Г. ФЛОРОВСКИЙ
Петербургский переворот............................349
Ю. М. ЛОТМАН, Б. А. УСПЕНСКИЙ
К семиотической типологии русской
культуры XVIII века........................•..........425
В. М. ЖИВОВ, Б. А. УСПЕНСКИЙ
Метаморфозы античного язычества
в истории русской культуры
XVII—XVIII века.......................................449
Ю. М. ЛОТМАН
Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века...................................537

A. М. ПАНЧЕНКО
Князь Кантемир и князь Курбский (Профессиональный «диалект» и проблемы
стиля).......................................................575
B. Н. ТОПОРОВ
У истоков русского поэтического перевода
(«Езда в остров любви» Тредиаковского и
«Le voyage de 1'issle d'Amour» Талемана)......589
Ю. М. ЛОТМАН
Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова....637
В. М. ЖИВОВ
Государственный миф в эпоху просвещения
и его разрушение в России конца
XVIII века................................................657
A. М. ПАНЧЕНКО
«Потемкинские деревни»
как культурный миф.................................685
B. М. ЖИВОВ
Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца ХVIII — начала XIX века.....701
Ю. М, ЛОТМАН
Несколько слов о статье В. М. Живова [«Кощунственная поэзия...»].......................755
C. С. АВЕРИНЦЕВ
Поэзия Державина.....................................763
Б. А. УСПЕНСКИЙ
Язык Державина.......................................781
Ю. М. ЛОТМАН
О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковнославянской
традиции.................................807
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ............................................811
ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ ПУБЛИКУЕМЫХ РАБОТ...........830
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ......................................... 831
От составителя
Выпуском четвертого тома (подготовленного первым) начинается издание пятитомного сборника
работ (далее просто «Сборника») по русской культуре под общим названием «Из истории русской
культуры»: первый том - Киевская Русь; второй том - Московская Русь; третий том - XVII - начало
XVIII-ro века; четвертый том - XVIII - начало XIX-го века; пятый том - XIX век.
Цель предпринимаемого издания - отразить те представления о русской культуре и ее динамике,
которые сформированы трудами наших современников - филологов, историков, культурологов.
Хронологически - это работы трех последних десятилетий. Редкие исключения из этой хроноло-
гии сделаны для работ, сыгравших ключевую роль в развитии современного понимания
отечественной культуры, в частности, для книги Г. В. Фло-ровского «Пути русского богословия»,
некоторые главы из которой включены в тома «Сборника».
Структура тома. Каждый том составляется из двух примерно равных частей: хронологической и
тематической. Хронологическая часть — это единый текст, дающий целостное изложение истории
культуры соответствующего периода. Он самодостаточен (для его понимания не требуется
обращения к другим источникам, основные понятия и термины подробно поясняются, дается
указатель имен) и ориентирован на широкие читательские круги. Тематическую часть составляют
как новые, так и ранее публиковавшиеся статьи разных авторов, посвященные отдельным темам
рассматриваемого периода культуры. Они носят, как правило, более специальный характер и
рассчитаны на более подготовленного читателя.
Назначение издания. «Сборник» адресован как широким читательским кругам - старшим
школьникам, студентам, просто любознательным читателям, интересующимся историей русской
культуры, но не обладающим систематическими знаниями в этой области, так и более подготов-
ленным читателям - студентам, аспирантам и преподавателям специализированных кафедр и
факультетов по истории культуры.
Благодарности. В заключение этого общего предисловия составитель хотел бы выразить свою
искреннюю признательность всем тем, чье доброжелательное участие и помощь в разработке
концепции, структуры и содержания «Сборника» способствовали выходу четвертого тома и

приблизили издание остальных томов. Особая роль здесь принадлежит В. Я. Пет-рухину, в
беседах с которым многие самые общие соображения составителя уточнялись и наполнялись
конкретным содержанием. Чрезвычайно полезными были также беседы о содержании «Сборника»
с В. С. Баев-ским, Б. Ф. Егоровым, В. М. Живовым, В. Н. Топоровым и Б. А. Успенским, а в более
поздний период - с Н. И. Толстым и С. М. Толстой. В осуществлении проекта неоценимы советы и
дружеское участие М. И. Козлова.
Подготовка данного тома к печати вряд ли была бы возможна без деятельного участия Т. Д.
Кузовкиной и В. И. Гехтман.
Предлагаемый вниманию читателя том «Сборника» открывается работой Ю. М. ЛОТМАНА
«Очерки по русской культуре XVIII-ro века». Кажется уместным изложить здесь кратко историю
ее создания. В конце 1992 года я обратился к Юрию Михайловичу с просьбой принять участие в
томах «Сборника», в частности, в формировании тома по XVIII-му веку. Живо откликнувшись на
это предложение, он разрешил включить ряд своих статей в тематическую часть тома и прислал
неопубликованную рукопись для хронологической части. В сопроводительном письме (от 13
февраля 1993 г.) он писал: «В соответствии с Вашей просьбой и нашей договоренностью
посылаю Вам экземпляр книги „Литература в контексте русской культуры XVIII-го века". Эта
книга была полностью подготовлена к изданию, но я разошелся с редакцией издательства в своем
представлении о ее смысле и задачах. Редакция требовала „обыкновенную" историю литературы
в традиционном смысле. Я, со своей стороны, не видел никакого смысла в таком издании и
стремился представить литературу XVIII-го века как момент в развитии культуры. Последнее я
понимал совсем не в том, чтобы украсить литературу вставными главами, посвященными
другим искусствам, так как представляю себе культуру не в образе механически соположенных
различных видов искусства, науки и т. д., а как некое органическое целое, если угодно, некоторое
живое существо, сложно соотнесенное как со своим окружением, так и со своим прошедшим и
будущим. Вопрос усложняется еще и тем, что входящие в культуру элементы, (различные
искусства, духовные движения и т. д.) не заключены в ней как какие-то предметы в мешке, а,
скорее, напоминают органы единого организма, связанные и конфликтующие одновременно. Та-
ков был замысел, насколько он получился, мне судить трудно...».
В ответном письме, после слов благодарности, я спрашивал, нельзя ли расширить этот текст,
например, путем присоединения к нему (с необходимыми редакционными переделками)
некоторых фрагментов из «Бесед о русской культуре» - текста, подготовленного к публикации в
другом издательстве - и написать для получившегося текста Введение и Заключение? Привожу
фрагмент письма Юрия Михайловича (от 17 июня 1993 г.), присланного вместе с расширенным
текстом: «Несмотря на то, что в настоящее время я себя очень плохо чувствую, тройными
усилиями (Таня, Влада <Т. Д. Кузовкина, В. И. Гехтман> - А. К.) мы постарались максимально
удовлетворить Ваши пожелания. Это облегчалось для нас тем, что в подавляющем большинстве
это совпадало с нашими собственными мнениями. Мы написали Введение и Заключение, а также
внесли ряд частных изменений. В таком виде текст представляется для нас подготовленным для
дальнейшего издательского прохождения<...>
P. S. Посылаю материал с оказией, потому что почта заставляет вспомнить слова гоголевского
Акакия Акакиевича, что „чиновники - народ - того, не надежный"».
А. Д. Кошелев 28 октября 1996 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Ю. М. Лотман
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА
Эта часть книги составлена из текстов, написанных Ю. М. Лотманом в разное время. Первая и
вторая части готовились в середине 80-х годов для серийного издания Мое* ко веко го
университета «Очерки по русской культуре», но не были напечатаны.
Не вышел в свет и очередной сборник «Статей по типологии культуры», куда включил этот текст
Ю. М. Лотман в 1990 году.
Последняя авторская редакция текста осуществлена летом 1992 года при подготовке данного

издания. Также были внесены дополнения и исправления в те главы из «Бесед по русской
культуре», которые вошли в эту книгу.
Т. Д. Кузовкина
Тексты Ю. М. Лотмана подготовлены Т. Д. Кузовкиной и В. И. Гехтман
ПРЕДИСЛОВИЕ
История XVIII века давно уже сделалась своеобразным полигоном, на котором
испытываются те или иные вооружения, включаемые исторической наукой в свой ар-
сенал. XVIII век проносит перед глазами историка и разнообразные формы исторической
динамики, и их последствия; он показывает нам сначала теоретическую модель, а потом
практическую ее реализацию. И, что особенно существенно, в своих противоречиях он не
только раскрывает перед потомством сущность определенных идей от момента их
зарождения до исторической исчерпанности, но и позволяет увидеть, что в принципе
делается с теорией, когда она превращается в практику, и как трансформируется практика,
возведенная в теорию. Известное положение стороннего зрителя позволило Радищеву в
стихотворении «Семнадцатое столетие» глубоко проникнуть в сущность переплетения
безумия и мудрости той эпохи, расцвет и исчерпанность которой ему пришлось пережить.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро.
Будешь проклято во век, в век удивлением всех. Крови — в твоей колыбели, припевание — громы
сраженьев;
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь-во гроб <...>
(Радищев!, 127).
Радищеву как герою пушкинского послания к Юсупову («К вельможе») довелось
наблюдать исторический взрыв, одновременно исполняя двойную роль и созерцателя, и
участника.
Всё изменилося. Ты видел вихорь бури, Падение всего, союз ума и фурий, Свободой грозною
воздвигнутый закон, Под гильотиною Версаль и Трианон
14
И мрачным ужасом
1
смененные забавы. Преобразился мир при громах новой славы
2
(Пушкин III, 219).
Реализация исторических конфликтов XVIII века одновременно в их французском,
немецком, английском (а также американском) вариантах вводила русского наблюда-
теля действительно в то исторически исключительное положение, которое позволило
позже Тютчеву сказать:
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые — Его призвали всеблагие, Как собеседника на
пир; Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был, И заживо, как небожитель, Из чаши
их бессмертье пил!
(Тютчев 1939, 49).
Русскому наблюдателю, «примерявшему» все пути исторического развития, которые
открыл Великий Взрыв XVIII века, было естественно почувствовать, что, говоря
словами поэта, «на чужой манер хлеб русский не родится». Осознание своего как
«своего» требует предварительного знания чужого и осознание его как «чужого».
Отсюда вытекает несколько неожиданный вывод: стремление к самобытности
органически зарождалось именно в русском западничестве; в этом убеждает нас
исторический пример Чаадаева и Пушкина, Лермонтова и Тютчева.
Различные потоки культуры неравномерно развиваются на всем ее протяжении.
Период взрывов плодотворен для успехов теоретического знания, капитальных на-
1
Ужас — калька термина «террор». Используется здесь Пушкиным для исторически точного
описания и, следовательно, не несет авторской эмоциональной окраски, а представляет собой «чужое
слово».
2
«Гром новой славы» — имеется в виду Наполеон.
15
учных открытий, а относительно плавное, постепенное движение выдвигает на первый
план успехи техники, практических достижений, массовые и относительно предсказуемые
явления. Следуя уже сложившейся терминологии, в этом случае цивилизация обгоняет

культуру. Однако для истории России это вторичный, перевернутый вариант. В исходном,
первичном, русская история многократно демонстрирует, что культура пророчески
обгоняет цивилизацию. Именно этот случай воспринимается мировым процессом как
«типично русский», и именно в этой своей ипостаси Россия наиболее активно влияет на
мировое развитие. Не изобретатели и банкиры, а Толстой и Достоевский, народовольцы и
эсеры — вот что в первую очередь вспоминается при слове «Россия». Примечательно,
однако, что это представление было выработано первоначально не русским, а
западноевропейским сознанием. Верная традиции усваивать достижения мировой мысли,
русская культура органически воспринимает их, доводит до предела и превращает в
порождение собственной мысли. Если заранее оговориться, что эта метафора не точна, как
любая метафора, такую позицию можно было бы назвать ролью женского начала в
дуализме мирового зачатия. Можно предположить (не забывая, однако, сколь непрочны
все предсказания в данной сфере), что мы сейчас вступили в полосу цивилизации и что
историческая стрелка прогресса устремлена на пространство плавных, постепенных, пред-
сказуемых, прогрессивных движений, то есть указывает на Европу, а не на взрывы,
которые свойственны русскому процессу, о котором, кажется, нельзя сказать точнее, чем
это сделал Блок в стихотворении «Художник»:
Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого — нет.
Интересно, что эти строки описывают у Блока не русский исторический процесс, а нечто
совершенно иное: момент поэтического вдохновения, когда сознание поэта дина-
16
мично и бесформенно одновременно. Такая динамическая бесформенность содержит в
себе все возможности формы. Готовая же форма, по Блоку, уже в рождении своем со-
держит застылость смерти:
И, наконец, у предела зачатия Новой души, неизведанных сил, — Душу сражает, как громом,
проклятие: Творческий разум осилил — убил.
Победа разума (заметим, творческого) для Блока — это момент, когда поток
пламенной магмы превращается в нечто пойманное, оформленное, наделенное лишь
ограниченным движением, то, что у Блока вызывает образ птицы, посаженной в
клетку:
Вот моя птица, когда-то веселая, Обруч качает, поет на окне.
Крылья подрезаны, песни заучены. (Блок III, 145-146).
Историческое соседство русской культуры с великими цивилизациями Запада и
Востока, осуществлявшими на ее глазах циклы своего исторического развития,
сопричастность им и одновременно неслиянность с ними, постоянная возможность
взглянуть на каждую из них как на свою и чужую одновременно — все это создавало
возможность оценивать собственную культуру и как глубоко интимное «свое», и как
до враждебности далекое «чужое». Так возникает та любовь-ненависть, которая
составляет лейтмотив русского отношения к Европе. Противоречие, однако,
усложняется тем, что этот взгляд внешнего наблюдателя на Россию мгновенно
осваивается русской культурой, включаясь в общий поток того «чужого», которое она
тотчас же превращает в «свое».
Тургенев в «Записках охотника», описывая умственную цепкость, деловитость и
умение перенять все новое,
17
если оно полезно, в характере крестьянина Хоря, писал, что, глядя на него, он убедился,
что Петр I был истинно русский человек. Эти слова автора «Записок охотника» имели,
конечно, полемический характер и направлены были против славянофилов, однако свести
их значение только к полемике нельзя: Тургенев был глубоко убежден, что путь России —
путь прогресса и европеизации. С этой позиции он воспринимал и XVIII век, но для него
не было секретом и то, что именно в XVIII веке сложилось русское крепостное право,
надолго отбросившее Россию от Европы. На позиции признания органичности пути, на

который встала Россия в XVIII веке, стоял и Островский — автор таких произведений, как
«Комик XVII-ro столетия». Мнение Островского, глубокого знатока истории русской
культуры, счастливо избежавшего односторонности и славянофилов, и западников,
особенно показательно.
Жизненность путей, на которые встала Россия в XVIII веке, подтверждается, в частности,
тем, что прения вокруг этой эпохи не кончились* до сих пор. Если, например, невозможно
себе представить современное французское общество страстно дискутирующим об оценке
Генриха IV или даже Французской революции и Наполеона, то любой спор вокруг
вопросов XVIII века в России до сих пор немедленно приобретает актуальный и отнюдь
не академический характер. Это свидетельствует, что эпоха XVIII века для нас еще не
кончилась, и мы смотрим на нее глазами заинтересованных современников. Точки над «i»
еще не расставлены. Это вытекает, как уже было сказано, из того, что историческая
динамика этого периода еще не исчерпана. Однако для этого есть и гораздо более
прозаические причины: несмотря на то, что сводные издания, посвященные культуре
XVIII века, с завидным постоянством повторяют, как правило, один и тот же список
наименований, которые мы также встречаем в учебниках и справочниках, его далеко еще
нельзя считать исчерпанным. Не случайно, начиная с Г. А. Гуковского и
18
П. Н. Беркова и до наших дней, любое серьезное исследование культуры XVIII века
вводит в оборот новые имена и неизученные тексты. Мы еще далеки от того, чтобы
сказать, что культурное пространство XVIII века достаточно подробно отражено в
наших изданиях.
Таким образом, перед исследователем XVIII века по-прежнему стоят первоначальные
задачи: обнаружения, публикации, комментирования. Однако одновременно
невозможно откладывать и создание современной концепции XVIII века, века Петра I
и стрелецких восстаний, Державина и Радищева; не освоив значения и смысла на-
родных движений, мы не можем даже приблизиться к пониманию переживаемой нами
эпохи. Наконец, невозможно сказать, что тема «Россия и Запад» потеряла свою акту-
альность, а она в значительной мере тоже опирается на XVIII век. Нельзя закрыть
глаза и на то, что мы являемся несколько неожиданно свидетелями обострения
отношений России и Украины, заставляющих вспомнить эпоху Кочубея и Мазепы,
Екатерины II и Потемкина. В определенном смысле можно сказать, что XVIII век для
русской культуры еще не ушел в спокойное академическое прошлое, он продолжает
бурлить и вызывает страсти.
Мы поймем единство и противоречия XVIII века, если вспомним, что он вдохновил не
только Ломоносова и Державина, но и Мусоргского, Сурикова и «Мир искусства», что
он отразился в пушкинской «Капитанской дочке» и в пушкинской же «Истории
Пугачева» и что, начатый Петром, он завершился 1812 годом. После сказанного нас не
удивит уже, что каждая новая страница русской истории открывает для нас новый
XVIII век.
Выводя культуру XVIII века в отдельную замкнутую проблему, мы следуем уже
сложившейся исторической традиции. Традиция эта тем более имеет право на сохра-
нение авторитетности, что количество новых подкрепляющих ее фактов все еще не
иссякло. Она может в равной мере опереться и на мнения современников, и на кон-
цепции ученых. Однако основанное на ней суммарное рас-
19
смотрение истории культуры — от Феофана Прокоповича до Карамзина и от отражений
войны с Карлом XII до патриотической поэзии 1812 года — наглядно убеждает нас в
опасности недифференцированного подхода к этим хронологически не столь уж далеким
периодам. Недаром XVIII век, казавшийся «мирискусникам» эпохой фарфоровых
статуэток и чинных менуэтов
3
, в процитированных стихах Радищева был назван

«столетьем безумным и мудрым». Разговоры, начатые в клубах и будуарах, завершались
на эшафоте и на полях сражений.
На рубеже двух столетий русский XVIII век поднес к своим глазам два зеркала:
«Семнадцатое столетие» Радищева и «Записку о древней и новой России» Карамзина. Оба
произведения, несмотря на противоположность позиций их авторов, отличаются одной
роднящей их чертой, особенно бросающейся в глаза на фоне общей тенденции
мыслителей XVIII века: искать обоснование своих идей не в истории, а в теории. История
в их сочинениях могла привлекать внимание лишь в двух своих формах: как иллюстрация
норм теории (в этом случае она оценивается положительно) или же как зрелище
заблуждений непросвещенного разума:
Иль в зеркало времен, качая головой,
На страсти, на дела зрю древних, новых веков,
8
Впрочем, не только «мирискусникам». Чайковский, перенеся действие «Пиковой дамы», вопреки
Пушкину, в эпоху Екатерины, и восприняв мнения автора либретто, украсившего текст оперы стихами
Державина и эпизодами, решительно невозможными в пушкинском контексте, создал свою особую
«Пиковую даму». Слияние этих двух столь различных произведений, носящих одно и то же название,
— повести и оперы, многократно уже было источником искаженного понимания как одного
произведения, так и другого. Впрочем, необходимо предостеречь и от противоположного:
безусловного разрыва и противопоставления этих двух версий. Если искусственно подтягивать
Пушкина «под Чайковского» было бы ошибочным, то задача увидеть в произведении композитора од-
ну из версий пушкинского замысла и на этом строить театральное воплощение оперы не может вызвать
никаких возражений.
20
Не видя ничего, кроме любви одной К себе и драки человеков
(Державин 1957, 328)
4
.
Записка «О древней и новой России», созданная на рубеже двух великих эпох (она
была написана в конце 1810 г., то есть незадолго до вторжения Наполеона, ставшего
для России одной из границ между XVIII и XIX веками: Наполеон подвел черту под
оптимистическими надеждами эпохи Просвещения), отразила переломный момент в
настроениях Карамзина: поклонник и пропагандист первого консула Бонапарта, каким
проявлял себя Карамзин в «Вестнике Европы», теперь он увидел в императоре
опасного врага России. Не случайно, что отправив в начале войны семью в безопасные
места, Карамзин поселился в Москве в доме Растопчина, сЧкоторым неожиданно для
себя обнаружил близость взглядов. Незадолго перед этими событиями Карамзин
получил от Великой княгини Екатерины Павловны предложение изложить лично для
государя свои взгляды на политику правительства. Предложение было несколько
провокационным: Великая княгиня находилась в явной оппозиции к своему
державному брату, и, втягивая в свой спор с ним Карамзина, она заставляла
последнего высказаться по очень щекотливым вопросам. Этим Карамзину бросался
вызов: осмелится ли он открыть императору те критические замечания, которые он не
скрывал в доверительной беседе с Великой княгиней. Карамзин вызов принял: сама
избранная им для себя роль историка, по его понятиям, требовала гражданского
мужества, откровенности и бес-
4
Не следует, однако, упрощать дороги, по которым шла идея историзма в трудах мыслителей
XVIII века: если бы исторические труды и концепции не накапливали бы спонтанно материала, не
укладывающегося в жесткую схему общественного договора, взрыв историзма, свидетелями
которого мы становимся в начале следующего этапа, был бы невозможен. Дело сводится к
различию между реальным течением мысли и ее же самосознанием, высвечивающим одни
реальные тенденции и вычеркивающим другие.
21
страшия. Свою роль он понимал как роль провозвестника мнений потомства. Не случайно
несколько позже, в одном из последних писем к императору (сам Карамзин считал, что
это последнее письмо) он подчеркнул, что не боится никакой власти, кроме суда
потомства, и то, что он говорит Александру, он сказал бы и его отцу. Карамзин не мог не
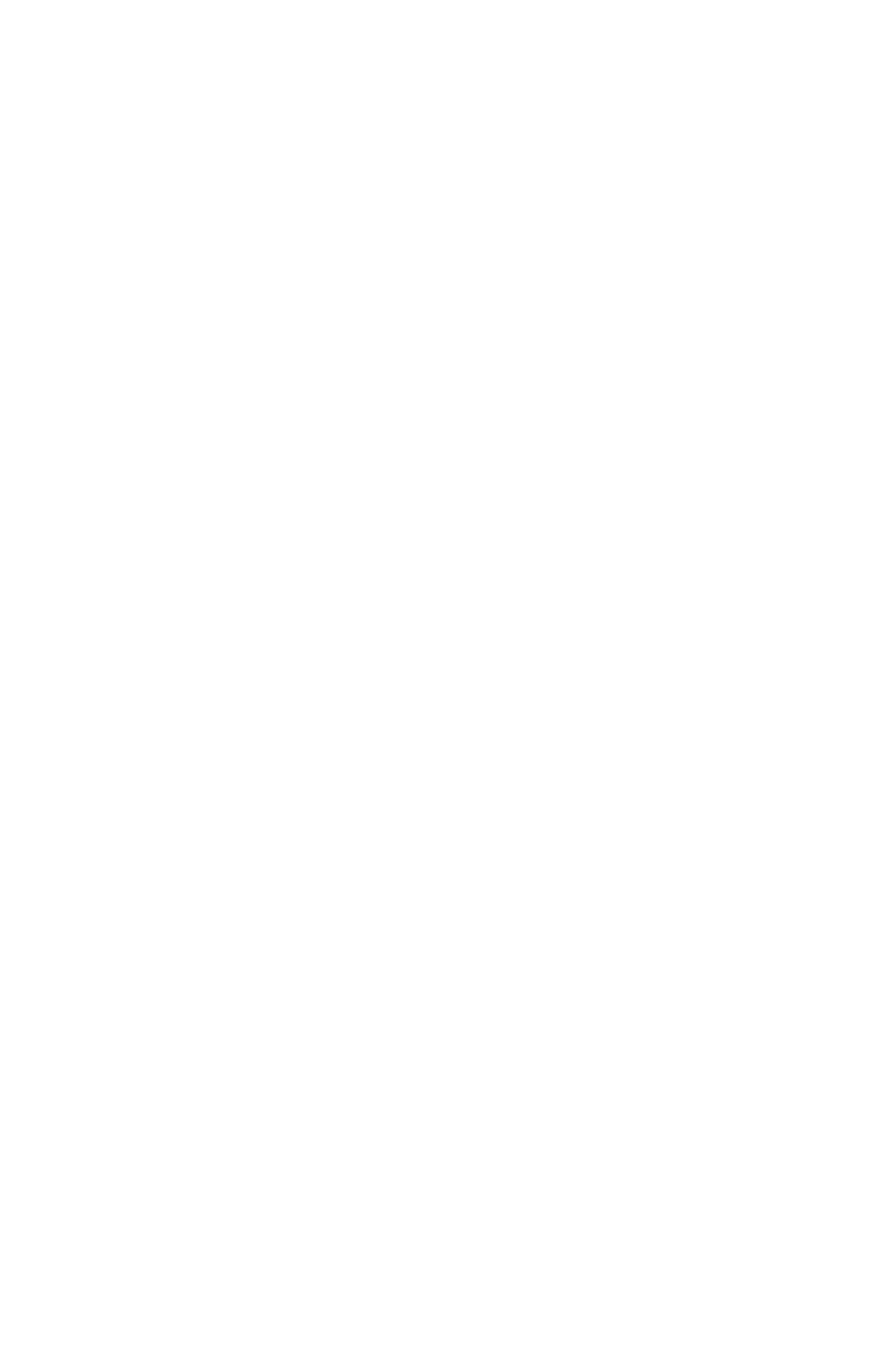
видеть недостатков русского правительственного курса, смятения, которое в этот период
переживал Александр I. Боязнь за судьбу России, по мнению Карамзина, требовала от
историка беспристрастно открыть перед государем не только слабые стороны в
подготовке его страны к приближающимся грозным событиям, но и личные недостатки
самого монарха. Когда-то Радищев изобразил, как явившаяся царю Истина снимает с его
глаз бельма, мешающие ему видеть все «в настоящем свете». Карамзин возложил на себя
именно эту функцию. Истина же представлялась ему в облике Голоса Потомства.
Карамзин брал на себя смелость сконструировать то, что, по его глубокому убеждению,
скажет об Александре будущий историк. Если Пастернак сочувственно процитировал,
приписав Гегелю, слова Шлегеля об историке как «пророке, предсказывающем назад», то
Карамзин позволил себе позицию предсказателя того, что скажет будущий историк о
переживаемой им и Александром I эпохе. Это позволяло ему излагать свое мнение «без
гнева и пристрастия» как нелицеприятный голос потомства.
Записка «О древней и новой России» обычно истолковывается как критика с реакционной
точки зрения либеральных начинаний Александра I. При этом историки, как правило,
сами стоявшие на либеральных позициях, явно сочувствовали политической платформе
Александра I, истолковывая Карамзина как адепта реакционных идей. Однако такая
позиция представляется спорной. Карамзин в этом произведении — враг либерального
прожектерства. Он критически оценивает политику Александра и его «молодого»
окружения. Как он и предсказывал, все эти эффектные жесты, впечатляющие обещания,
так сильно
22
воздействующие на некоторых современников, были стрельбой холостыми патронами.
Карамзин, уже мыслящий как историк, искал в правительственных действиях не эф-
фектности, а эффективности, не мечтаний, а анализа реальной жизни. Ясное осознание
того, что Россия стоит перед лицом серьезных исторических испытаний, заставляло
его пытаться раскрыть глаза правительству на недопустимость государственных игр в
момент приближения великой исторической катастрофы. Роль Карамзина напоминала
трагическую судьбу пророчицы Кассандры: ему дано было видеть, но не дано было
быть услышанным. Этим, в частности, объясняется и та горечь, которой, начиная с 9-
го тома, наполняется «История государства Российского», и то, что фактически бросив
ее неоконченной, Карамзин в самом конце своей жизни вдруг задумал начать какой-то
совершенно новый жизненный этап, строил (фактически уже у порога гроба)
несбыточные планы отъезда на дипломатическую службу в Америку. В Новом Свете
его, видимо, привлекало именно то, что он — Новый. Так, исключительно аккуратный
в оформлении своих бумаг Александр Блок говаривал тем, кто в этом усматривал
влияние его «немецкой» крови: «Если терять, то все сразу». Это была не немецкая, а
именно русская точка зрения: все тот же максимализм, который тем ярче проявляется,
чем глубже его пытаются спрятать. Карамзин, как и Блок, пытался «умеренностью и
аккуратностью» обуздать в себе стихии, но ни строго соблюдаемый распорядок дня,
ни тщательная организация быта, ни, наконец, позиция историка «без гнева и
пристрастия» не могли изгнать из Карамзина человека XVIII века — «столетья
безумна и мудра», утописта, который стал скептиком, и скептика, который не мог
заставить себя перестать быть утопистом.
Еще при жизни Карамзина движение исторической мысли в России как бы
разделилось на два потока. С одной стороны, Геттингенская историческая школа
Шлеце-ра, основанная на критическом изучении русских летопи-
23
сей, с другой — школа Карамзина. Первое направление сосредоточивало внимание на
анализе и критической проверке источников, второе — на синтезе и создании широко
обобщенной исторической концепции. С позиции гет-тингенцев, Карамзин оставался

более писателем, чем критическим историком. Такая оценка была несправедливой:
осведомленность автора «Истории Государства Российского» в документальных
источниках была исключительно широкой и для своего времени поразительной. Однако
Карамзин был чужд того недоверия по отношению к летописцам, которое составляло
основу «критической» школы. Оба направления имели свои сильные стороны. Но оба
были склонны отбрасывать достижения противоположного лагеря. В результате Карамзин
оказал широкое влияние на русское читающее общество и на литературу и искусство.
Шлецер дал мощный импульс развитию университетской академической науки. Бели,
бросив взгляд на дальнейшее движение исторической науки, мы увидим, с одной стороны,
Ключевского, а с другой — Соловьева, то нам станет ясно, что действие этих импульсов
было долговременным.
Таким образом, движение исторической мысли в России пошло по двум
противоположным дорогам, но размышляя о будущей возможности их синтеза, мы, как
неоднократно делали это по другим поводам, обращаемся к имени Пушкина. Гений
Пушкина гармонически синтезировал критическое и творческое направление мысли. Это
позволило ему соединить правоту архивиста с правотой «памяти народной».
Вообще, рассматривая традицию художественного перевоплощения XVIII века в романе,
на драматической и оперной сцене и в трудах историков, расширявших круг источников и
вводивших новые теоретические концепции, мы можем отметить одну существенную
особенность. Корни наиболее плодотворных идей уходят в творчество Пушкина. Дело
здесь не только в бесспорной гениальности автора «Истории Пугачева» и «Капитанской
дочки».
24
но и в исключительной синтетической ориентированности его мысли. Можно сказать,
что основа пушкинской исторической мысли — сила синтеза разнообразных проявле-
ний культуры. Движения государственных идей и человеческих судеб под пером
Пушкина сливаются в единую, нерасчлененную картину. Пушкин — историк, мысля-
щий как художник, и художник, вооруженный всеми средствами исторической мысли.
Это конфликтное единство мы можем почувствовать, сопоставив Пугачева в «Истории
Пугачева» и в «Капитанской дочке». Поверхностному взгляду может показаться, что
идеальная фигура мужицкого царя, который в полном соответствии с народно-
поэтической этикой говорит: «Казнить, так казнить, а миловать, так миловать», и
Пугачев из приложения к «Истории Пугачева» не складываются в единую целостную
фигуру. Видимо, именно так прочитал пушкинские тексты Есенин, который в своей
поэтической драме о народном восстании, явно рассчитанной на то, что в памяти
аудитории хранится пушкинский замысел, создал характер, исполненный
противоречий, близкий к «Истории Пугачева». Однако пушкинский Пугачев, столь
различный, казалось бы, в его художественном и историческом обличий, на самом
деле един. Ключом к образу представляется народная легенда об орле и вороне,
которую в «Капитанской дочке» Пугачев рассказывает Гриневу. Реальность фольклора
и фольклорность реальности сливают воедино два облика Пугачева в прозе Пушкина.
Два образа главы народного восстания, вышедшие из-под пера Пушкина, не
исключают друг друга, а сливаются вместе в единстве исторической науки и народной
поэзии.
XVIII век в русской культуре был эпохой наибольшего приближения к западным
нормам. Окно в Европу сделалось как бы обобщенным знаком этой эпохи. Учитывая
именно такую специфику этого периода, внешние наблюдатели оценивали Россию
Петра и Екатерины то восторженно-положительно, то безусловно отрицательно. Одна
из отличительных особенностей русского XVIII века —
25
то, что он не вызывал нейтральных оценок. Между тем, сопоставляя русский XVIII век
