Микешина Л.А. Эпистемология ценностей
Подождите немного. Документ загружается.

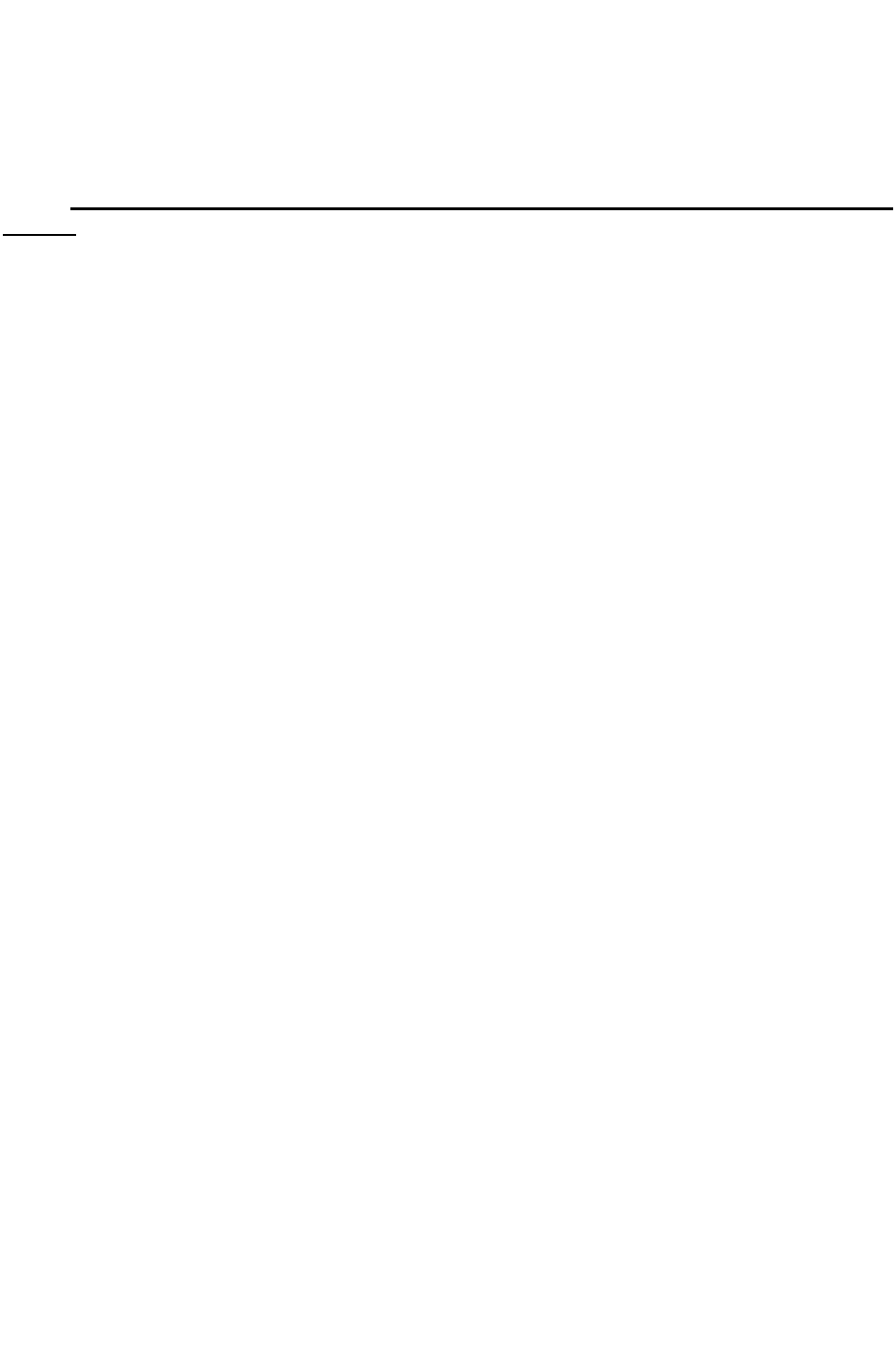
мест, исторических условий, в полной мере отражало стремление средневековой
литературы, преимущественно церковной, «найти общее, абсолютное и вечное в частном,
конкретном и временном, невещественное в вещественном, христианские истины во всех
явлениях жизни»
106
. Такие приемы позволяли разрушить конкретность и материальность
мира, поднять события жизни действующих лиц над обыденностью, рассматривать их под
знаком вечности (и тем самым перевести, по существу, на трансцендентальный уровень).
368
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
Эти же задачи, обязательные для любого гуманитарного исследования, лежат в
основе другого приема абстрагирования — повторяемости образов, сочетания сходных
сравнений, метафор, эпитетов, использования трафаретных, традиционных сочетаний, в
которых отражаются сложившиеся богословские представления, указания на религиозную
трактовку сущности явлений. При использовании этих приемов к отвлеченности
богословской мысли добавляется отвлеченность чувств, поскольку в результате повторов,
трафаретов стираются все ощутимые признаки и сохраняется лишь общее эмоционально-
возвышенное описание
107
.
Особенно интересны приемы, с помощью которых удается достичь чисто
мировоззренческих, философско-богословских результатов — утверждения примата
духовного над материальным, а также глубины, таинственности и невыразимости
духовного. Определенный эмоциональный настрой, впечатление мистической
значительности текста, затрудненности описания и выражения в словах и текстах
духовных, божественных явлений обеспечиваются применением тавтологии,
нагромождением однокоренных слов, нарочитым усложнением текста для его
мистической значительности. Таким образом, «зыбкость всего материального и телесного
при повторяемости и извечности всех духовных явлений — таков мировоззренческий
принцип, становящийся одновременно и принципом стилистическим»'
08
.
Влияние религиозно-мировоззренческих канонов сказалось, как полагает
Д.Лихачев, и на известной парадоксальности самого стиля, характерного для
древнерусской литературы «второго южнославянского влияния». Парадоксальность
состоит в том, что для содержательных предпосылок этого стиля характерны новое
отношение к человеку, п ризнание ценности его индивидуальных переживаний, в целом
смена статичности описаний крайним динамизмом, однако сам стиль при этом остается
абстрагирующим. Это проявляется в том, что изображение человека в литературе XIV—
XV вв. остается на уровне «абстрактного психологизма», наиболее соответствующего
религиозному миросозерцанию. Описываются лишь отдельные, как бы самостоятельно
существующие психологические состояния, причем однотипные: молитвенный экстаз,
духовная радость или зависть, гнев, страсти, но в целостный характер, личность они не
складываются и по существу являются определенным художественным приемом для
выражения религиозных чувств и состояний.
Анализ неявных предпосылок и оснований применения абстракций в
древнерусской литературе позволил Д.Лихачеву сделать общий, методологически
значимый вывод: «Абстрагирующие приемы стиля конца XIV—XV вв. лежат в тесной
связи с теми задачами, которые ставили себе писатели того времени, находятся в строгой
зависимости от их мировоззрения...»
109
, т.е. от системы ценностей.
369
Глава 5
Прежде всего обнаруживается определенная аналогия тенденций,
характеризующих изменения в литературоведении как одной из конкретных
гуманитарных наук и в общей эпистемологии. Она усматривается в том, что абстрактно-
гносеологические, нормативно-рациональные подходы сегодня переосмысливаются и
существенно дополняются ценностными, социокультурными и историческими аспектами.
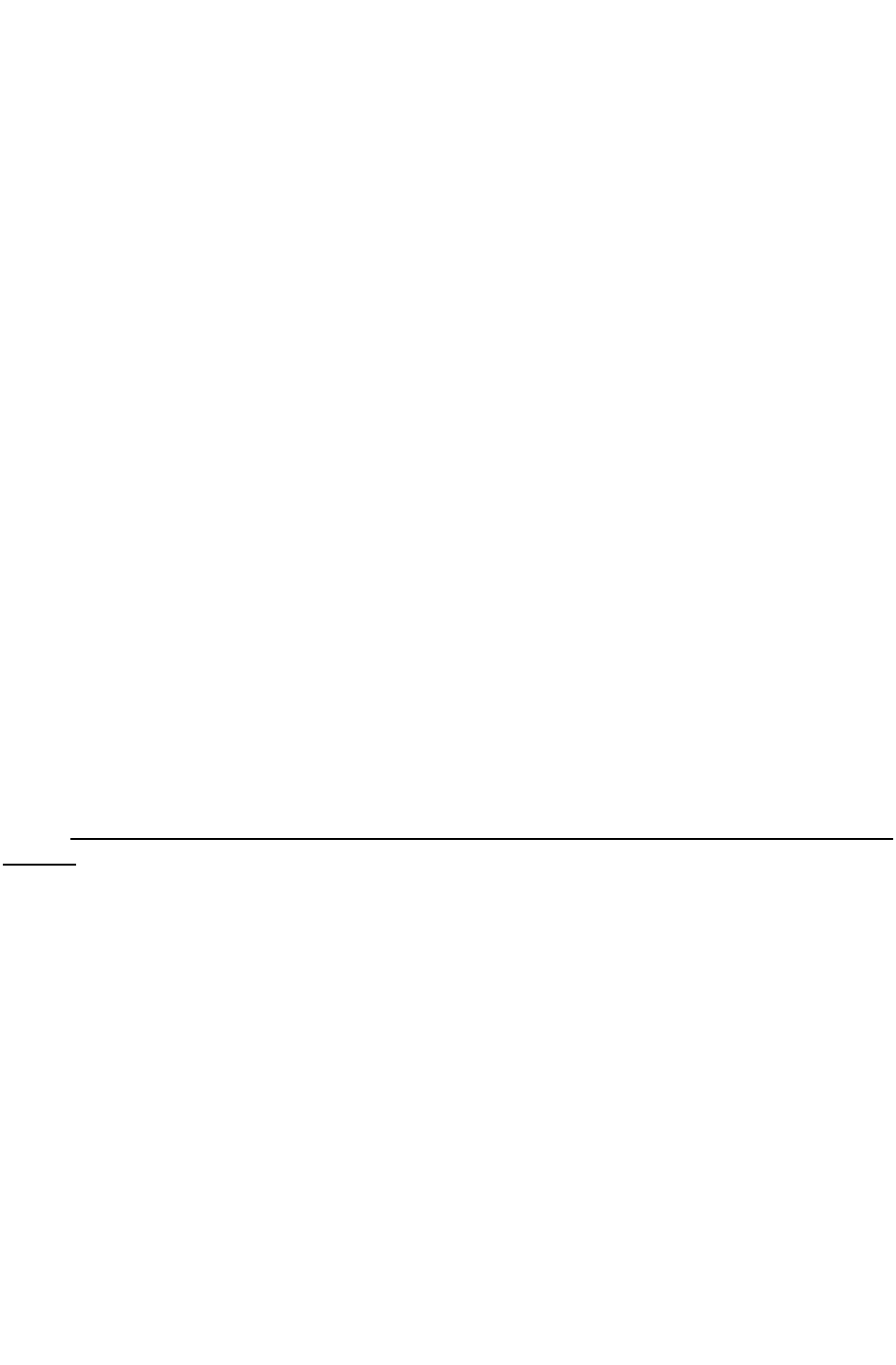
В литературоведении — это движение от узколингвистического подхода к дополнению
его философско-эстетическими, мировоззренческими и культурно-историческими
сущностными факторами. В эпистемологии — это стремление преодолеть предельную
абстрактность субъекта и логико-гносеологического анализа, разработать понятийный
аппарат для учета социокультурных, вообще ценностных предпосылок познания.
Однако методологические трудности, возникающие при этом, носят в
определенном смысле противоположный характер, что особенно п роявляется в
становлении и выборе абстракций. Литературоведение опасается «завысить» уровень
абстракций, поскольку, «в отличие от холодноватой универсальности философских
формулировок, понятия, выработанные тут, как правило, отражают конкретное,
неповторимое лицо явлений...»
110
. Эпистемология, в свою очередь, должна избегать
неоправданного «снижения» уровня абстракции, приводящего к психологизму,
растворению в конкретных свойствах эмпирического субъекта познания, к опасности
утраты всеобщего. Итак, проблема состоит в нахождении грани, меры, формы синтеза
абстрактного и чувственно-конкретного, обоснования «интервала» абстракции.
Эта тема фундаментальна и вечна, хотя проблематизируется по-разному, что
подтверждается приведенными выше исследованиями. Трудности и даже опасности
существуют всегда, когда мыслитель и его взгляды предстают в жесткой матрице
предельных абстракций и схем, например, в оппозиции «рациональное - иррациональное»,
«логическое— интуитивное», при этом утрачиваются индивидуально-типические,
культурно-исторические, ценностные элементы и особенности. Очевидно, что для
преодоления схематизма и вульгаризации необходимы как более многообразный
понятийный аппарат, так и существенное расширение самих приемов абстрагирования и
его диапазонов.
Это создает условия, при которых принципы историзма, ценностного подхода и
социокультурной обусловленности не просто декларируются, но вводятся в основные
специально выбранные или созданные абстракции. Опыт гуманитарного знания как раз и
подсказывает эпистемологу, каким образом это можно корректно осуществить. В
философских текстах, создаваемых на основе идеалов естествознания, часто упускается из
виду, что создание абстракций возможно не
370
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
только формально-логическими средствами, но и с помощью различных
используемых в гуманитарных науках средств: метафор, аналогий, повторов или
умолчаний, аллегорий, символов, «возвышения» стиля, применения установки-
стереотипа, создания эмоционального настроя с помощью самого построения текста,
способа изложения и т.п. Все эти и близкие к ним гуманитарные средства широко
используются в герменевтике, феноменологических, экзистенциалистских текстах и
должны быть освоены в философии познания.
Одно из важных следствий рассмотренного опыта литературоведов —
необходимость усвоения высокой культуры работы с текстами, сложившейся в
гуманитарных науках. В той мере, в какой эпистемология, философия познания в целом
имеют дело с вербальными текстами, к ним относится мысль М.Бахтина о том, что текст
является «первичной данностью» для «всего гуманитарно-филологического мышления (в
том числе даже богословского и философского мышления в его истоках)»"
1
.
Для гносеологического исследования прежде всего важны такие принципы работы
с текстам, как целостность и историзм. Целостность предполагает рассмотрение
фрагментов, тех или иных структурных единиц текста только в связи с целым. Сам текст
должен рассматриваться в единстве с контекстом и подтекстом (подразумеваемым
текстом, по Бахтину); отдельный авторский текст необходимо соотносить с другими его
текстами, а также текстами других авторов того же направления и т.д. Эти на первый

взгляд в полне тривиальные требования (наиболее бесспорное из которых — «Не
вырывайте цитату из текста!») имеют еще и глубинный смысл. Целостный подход дает
возможность предположить, а затем выявить и учесть имплицитные компоненты текста,
среди которых важнейшие — фило-софско-мировоззренческие предпосылки и основания,
а также неявные требования и регулятивы, порождаемые коммуникативной (диалоговой)
природой текста. Этот уровень предполагает, как это и показано учеными-филологами,
осознание еще более важной целостности — включенности текста в социально-
исторические условия, культуру общества в целом.
В этом случае можно ожидать изменения методологии исследования, поскольку
рефлексия как эпистемологическая процедура выявления скрытых ценностных или иных
предпосылок и оснований становится, по существу, одной из главных процедур, а
выявленные неявные компоненты кардинально изменяют содержательную интерпретацию
текста, заключенного в нем знания. Вместе с тем меняется и представление о структуре и
функциях текста, так как он осваивается как феномен, «живущий» в культуре, несущий на
себе отпечатки такого способа существования. Рассмотренный опыт ученых-филологов
дает нам образцы именно такого подхода к тексту.
371
Глава 5
Очевидно, что философ также обязан учитывать как атрибут текста его
диалогичность, вообще коммуникативную природу. Это высветит, в частности для
эпистемолога, генезис многих познавательных форм и методов, их диалоговую природу,
как, например, в случае объяснения, понимания, аргументации, даст возможность понять,
что стандарты, формализации, вообще нормативы объективированного знания, имеют
двуединую природу - логическую и коммуникативную.
Когнитивная практика гуманитарных наук дает возможность не только изучить
формы рефлексии ценностных компонентов, но одновременно увидеть, как текст
независимо от содержания предстает пусть косвенным, но объективным «свидетелем»,
выразителем менталитета эпохи, реального положения самого человека. Тем самым
принцип историзма не просто предпосылается, но обретает методологические,
эвристические функции в исследовании и объяснении. Это возможно в силу особенностей
поэтики произведений как «системы всего мировоззрения и мироповедения»,
позволяющей тексту соотноситься с социальными и политическими реалиями истории,
причем непосредственно через человека, его «самоощущение внутри истории». В таком
случае (напомним мысль САверинцева) «все формы непрозрачности и несвободы
литературного слова» становятся «знаком несвободы самого человека и закрытости его
внутренней жизни». Такая социокультурная интерпретация текста ставит проблему не
только его существования как феномена культуры, но и отображения в нем социальных
реалий. На первый план выступает не лингвистическая и не художественная, но
эпистемологическая характеристика текста. На это свойство текста обратил особое
внимание М.Бахтин, рассматривавший в парадигме отражения «текст как субъективное
отражение объективного мира, текст — выражение сознания, чего-то отражающего. Когда
текст становится объектом нашего познания, мы можем говорить об отражении
отражения. Понимание текста и есть правильное отражение отражения. Через чужое
отражение к отраженному объекту»
112
.
Итак, выявлен важный для эпистемолога момент: текст как особый результат
когнитивной деятельности одновременно синтезирует разные уровни и формы
отображения действительности. Это, во-первых, содержательное описание некоторых
явлений и отношение субъекта-автора к ним; во-вторых, через поэтику, контекст и
подтекст отображение философско-эстетических, культурно-исторических ценностей
автора и через них — менталитета эпохи; в-третьих, присутствующий в тексте диалог
«двух сознаний» и, соответственно, объективно возможных его интерпретаций другим
сознанием и даже другой культурой. Но именно этот аспект выводит на авансцену

семантические смыслы текста — его открытость и многозначность,
372
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
авторский, читательский и объективные смыслы, а значит — герменевтические
проблемы понимания и интерпретации.
5.4.2. Некоторые методологические проблемы филологических дисциплин:
ценностные аспекты
Рассмотренные ранее фундаментальные черты социально-гуманитарных наук в
полной мере представлены в филологии как совокупности, «содружестве гуманитарных
дисциплин — языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения,
палеографии и др., изучающих духовную культуру человечества через языковой и
стилистический анализ письменных текстов». Это определение С.С.Аверинцева в
энциклопедии «Русский язык» (1979) достаточно широко и синкретично отражает такую
особенность, как существование множества наук вокруг языка и текста, во многом
сходных по особенностям своей методологии и эпистемологии. К этим общим
особенностям можно отнести отмеченное еще в XIX в. немецким ученым А.Беком
понимание филологии как «познания познанного», «реконструкции прошлых
человеческих культур», произведений человеческого духа. Тем самым фиксируется
момент историчности, производности от изучаемых текстов, которые для филологических
наук, как и для всего гуманитарного знания в целом, выступают первичной реальностью.
Главное для филологических дисциплин, по выражению Аверин-цева, - «служба
при тексте», рефлексия над словом и речью, которая не только конкретна и точна, но
одновременно и универсальна, «вбирает в себя всю ширину и глубину человеческого
бытия». За эту глубину и объемность знания назначена непомерно высокая плата —
невозможность формализации и применения математики, разве что в отдельных частных
областях. Человеческие смыслы здесь присутствуют во всем как интуиция, житейская
мудрость, здравый смысл, знание многих людей, без чего невозможно искусство
понимания как основа «познания познанного», всего сказанного и написанного. Как найти
способ понимать другого, его культуру, эпоху, тексты, не «исчисляя» его, но и не
приписывая ему своего видения и понимания; как описать этот способ, в каких терминах и
формах и что будет представлять собой результат — теоретическое знание? В какой
степени эти способы и формы носят логико-методологический характер, каков характер
определений, употребляемых в филологии? Ответы на эти вопросы требуют обращения к
конкретным исследованиям, например, к такому базовому вопросу, как характер
абстракций и особенности их формирования.
Крупнейший исследователь проблемы изображения действительности в
гуманитарном знании Э.Ауэрбах, размышляя над природой
373
Глава 5
понятий и категорий в этой области, приходит к следующим выводам. «Подобные
понятия схватывают явления в их движении, динамике; признаки явлений
прослеживаются поначалу в их возникновении, в их спорадическом проявлении, в их
накапливании и сгущении, наконец, в их постепенном отступлении, отливе,
преобразовании и исчезновении; для всех подобных понятий как раз и характерно то, что
идея становления, изменения, превращения заложена в них с самого начала»
113
. Очевидно,
что при таком богатстве «динамического» содержания они содержат и ценностную
составляющую. По сравнению с ними понятия, например, политики или морали - «это
априорные модели представлений, смысл которых твердо установлен», и все историки,
начиная с Дж.Вико, «пытаются взломать их статичность», чтобы достичь «осязательного»
образа вещи. Сам Ауэрбах осуществлял этот процесс виртуозно, применяя «метод
радикальной конкретизации» и сознательного «релятивизма», в отличие от
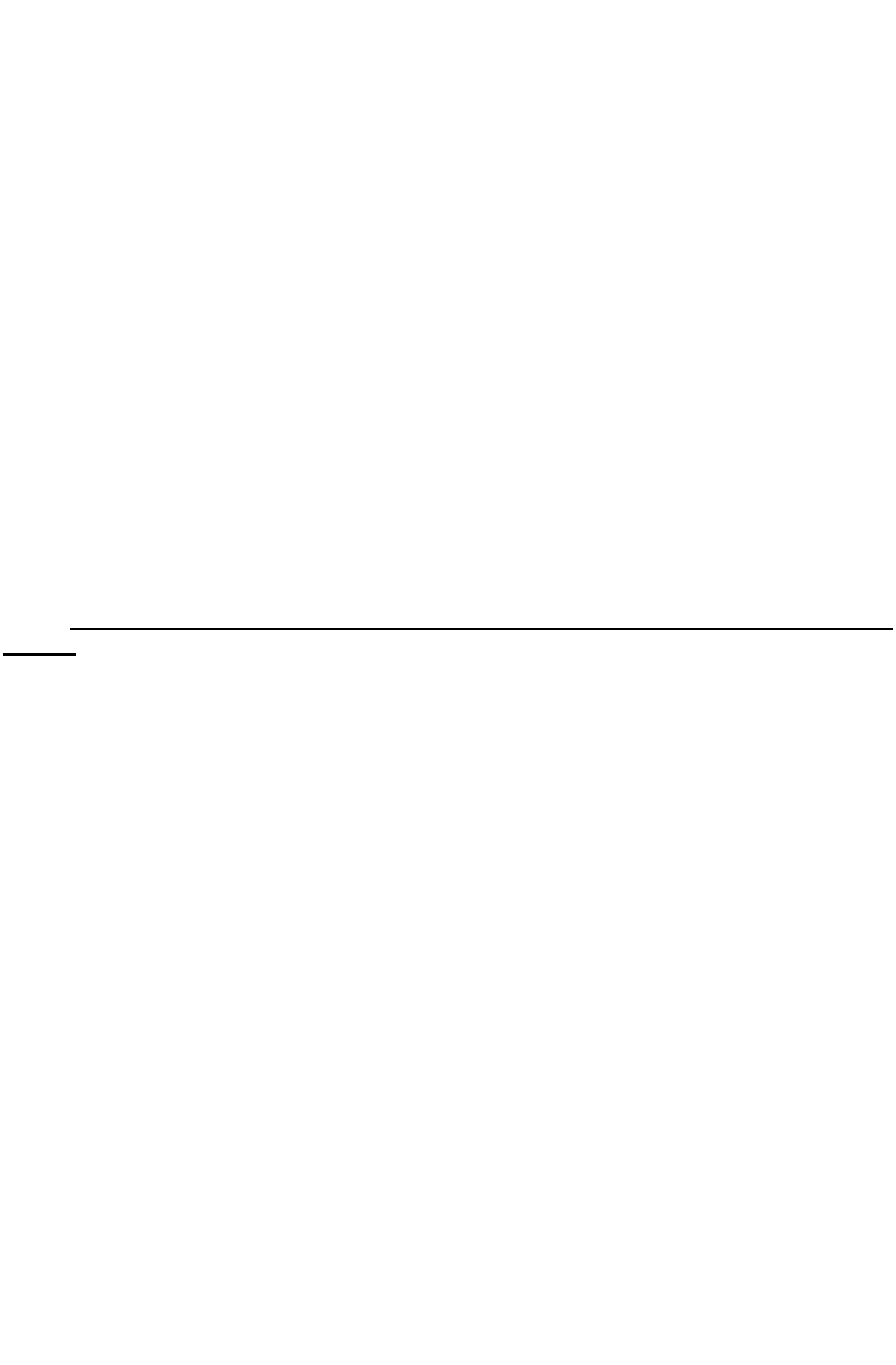
радикализованного рационализма и теоретизма
114
.
Исследования этой проблемы, осуществляемые литературоведами и историками
литературы, показывают, что процесс создания абстракций в этой области зависел в целом
от двух главных факторов духовной жизни общества и культуры. Первый фактор —
представлены ли рациональные, логические каноны, например определенная «техника
дефиниций», или господствуют чисто умозрительные, описательные, наглядно-
эмоциональные идеалы построения текста. Второй фактор — сформировалась ли уже
литературная теория, либо ее начала, например, требования введения терминов и правила
их определения, или такая теория отсутствует. Рассмотрим действие этих факторов на
двух исследованиях - Д.С.Лихачева и С.С.Аверинцева.
Анализ исследований по древнерусской литературе, осуществленный одним из
ведущих специалистов в этой области, Д.С.Лихачевым, позволяет увидеть вариант, в
котором отсутствует литературная теория и представлен богатый арсенал различных
способов абстрагирования, не пользующихся традиционным логическим методом
обобщения от вида к роду. В русской средневековой литературе это были первичные
абстрактные формы, удерживающие некоторую степень образности и определенную
содержательность, что именно в таком качестве позволяло успешно решать
художественные, эмоциональные и даже мировоззренческие задачи. Природу абстракций
в русской средневековой литературе можно понять, как показал Лихачев, только
обратившись к высокому церковному стилю в сочетании со стилем «второго
южнославянского влияния XIV—XV вв.». <...> Можем отметить жажду отвлеченности,
стремление к абстрагированию мира, к разрушению его конкретности и материально-
374
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
сти, к п оискам символических богословских соотношений и — только в формах
письменности, не осознававшихся как высокие, — спокойную конкретность и
историчность повествования»
115
. Литературная речь максимально удаляется от бытовой,
изгоняется всякая конкретная — политическая, военная, экономическая, историческая,
географическая, - терминология, применяются описательные, иносказательные
выражения, изымаются конкретные имена. Все это способствует тому, чтобы поднять
событие над обыденностью, поместить его в сферу вечности, особенно при
жизнеописании какого-либо святого, разрушая конкретность явлений, стремится к
отвлеченному изложению, художественной абстракции. Одна из особенностей этого стиля
— сохранять привычный язык богослужения, традиционные «условно приподнятые
трафареты» и при этом избегать индивидуальные стилевые приемы, наконец, сочетать
абстрагирующие тенденции с повышенной эмоциональностью. В целом же, по Лихачеву,
«абстрагирующие приемы стиля конца XIV—XV вв. лежат в тесной связи с теми
задачами, которые ставили себе писатели того времени, находятся в строгой зависимости
от их мировоззрения и тотчас же отпадают, как только исчезает и сама необходимость в
них»
116
. Такой вывод показывает новую грань проблемы абстрагирования, поскольку
обнаруживается ее зависимость от мировоззренческих (религиозных, в частности)
канонов и возникает вопрос: нельзя ли эту зависимость обобщить на все гуманитарное
познание, где различные типы ценностно-мировоззренческого влияния всегда
присутствуют.
Существенно иная ситуация при формировании абстракций, определений,
литературной теории складывалась на много веков ранее — в древнегреческой
литературе, что обстоятельно исследовано С.С.Аверинцевым и изложено в серии статей о
риторике и античном рационализме в целом, где впервые сформировались принципы
теоретико-литературной рефлексии и литературной теории в V—IV вв. до н.э., во времена
Аристотеля. В процессе становления европейского рационализма главным событием было
открытие универсалий, обнаружение общего за частным, за видимостью — сущности, за

многообразием — единого. Общее обладало «простотой» и умопостигаемостью, в отличие
от бесконечно многообразного, неохватного эмпирического. Было осознано, что наука,
теория имеют дело с общим, «суммирующим» э мпирический опыт. Античный
рационализм формировался как дедуктивный, частные суждения следовали из общих
посылок, геометрические теоремы — из аксиом и постулатов, частные определения — из
общих юридических законов, конкретное познавалось и описывалось только через общее.
Однако дедуктивный рационализм парадоксален по своей природе, поскольку
требует внерациональных исходных оснований, свя-
375
Глава 5
занных с верой любого типа, недоказуемых догм, безоговорочно признанных как
«начало». Выбирать приходилось между «догматической философией» и скептицизмом,
который сам был вариантом «нега-тивистского догматизма». В этой ситуации именно
риторика умело преодолевала парадоксы и противоречия, осуществляя
«непротиворечивую реализацию плюралистического авторитаризма», обращаясь к
истинам у разных авторов, знанию и мнениям, что принималось и признавалось
античными мыслителями без всякой иронии. Как теория и практика литературы именно
риторика позволяет понять природу абстракций в античных гуманитарных текстах,
поскольку может рассматриваться, по Аверинцеву, «как подход к обобщению
действительности». Прежде всего следует отметить, что в наше время общепризнано:
«Художественная литература не имеет с рассудочной «сушью» математики или
юриспруденции ничего общего; ...одна из важнейших жизненных функций
художественной литературы - компенсировать своим вниманием к единичному,
"неповторимому", колоритно-частному разросшуюся абстрагирующую потенци ю
науки»
117
. Однако литературе античности и Средневековья такого рода пози ция была
чужда, принято было другое - «очищать» положения от случайных признаков, от
конкретностей и частностей, выходить к необходимым признакам, универсальным
схемам, к тому, что именовалось «общим местом» и высоко ценилось в теории
литературы.
Исследования Аверинцева показали, что уже в этот период можно говорить о
становлении литературной теории, хотя она, как известно из истории культуры, не
возникала как неизбежность с появлением самой литературы, поднимавшейся над
фольклором и обыденной речью. Ее не было, в частности, даже при такой великой
литературе, как Гомер и Гесиод, Алкей и Сапфо, теория оформилась только у Аристотеля
как «Поэтика» — теория стихотворных жанров и как «Риторика» — теория
художественной прозы. Следует заметить, что и в более позднее время литературная
теория часто отсутствовала, как, например, в средневековой русской литературе, о чем
речь шла выше. Ее появление предполагало присутствие в культуре особого типа
мышления — рефлексивного, понимания необходимости и умения переходить на
метауровень, формулировать дефиниции, создавать терминологию и пользоваться ею.
Это, в свою очередь, предполагало владение определенной логической культурой и
способность стремиться к логическим идеалам — в целом к логоцентризму, что
представлено и в античной, и в средневековой европейской культуре как «упоение
дефинирующего разума».
Литературная теория, если она имела предпосылки для создания, начиналась и
заканчивалась созданием и применением дефиниций -процедурой, с которой и теперь
начинается любая наука, это «мар-
376
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании_______
кер», обозначающий переход от вненаучного знания к науке. В дефинициях
сохраняется накопленный опыт, возникшие идеи, результаты размышлений и

исследований, полученных истинных суждений, а также обеспечивается
«общеобязательность однозначности употребляемых терминов». Они обеспечивают
преемственность традиций, в частности от античной к средневековой европейской
культуре, это своего рода «зерно», передаваемое от культуры к культуре, от поколения к
поколению, всегда готовое прорасти в новом контексте, стать объектом критики,
переосмысления или выполнять дидактические функции. В дефиниции заложена идея
системы, и она сама входит в систему других дефиниций, в виде которой и существовали
первоначальные литературные теории, следующие аристотелевским принципам. По
Аверинцеву, «нисходящая система дефиниций, стройно движущаяся от первопринципа к
родовому понятию, от рода к виду, от вида к подвиду, от подвида к конкретному явлению,
была не только единственно научным способом приводить материал в логический
порядок, но одновременно репрезентативным, парадным оформлением мысли,
отвечавшим идеализированному образу общественной иерархии; она апеллировала и к
рационализму эпохи, и к авторитаризму эпохи»
118
.
В какой мере в современном литературоведении сохранились эти традиции и
идеалы при построении теории? Ответ на этот вопрос не прост не только потому, что
требует детального изучения обширного эмпирического материала — существующих
теорий в разных областях литературоведения, но и потому, что универсальность и
общеобязательность принципа построения дефиниций как следование аристотелевской
логике сегодня поставлены под сомнение рядом известных ученых и философов.
Какова в современном литературоведении природа теории и абстракций? Понять
природу литературоведческих понятий можно, по-видимому, только поняв природу
теории, и обратно. Эта «круговая методология», характерная для герменевтического
подхода, позволяет увидеть особенности образования и «способы бытия» абстракций,
определяющих особенности теории в этой области. Несомненный интерес в связи с этим
представляют работы известного отечественного филолога А.В.Михайлова, который при
жизни был озабочен, в частности, проблемами теории и дефиници й в литературоведении
и истории литературы. Размышляя над методологической природой теории в этой
области, он выявил целый ряд ее особенностей. Теория тесно связана с историей,
поэтическое, т.е. художественное, осмысление которой представляет не просто
дополнение к научным и философским подходам, но стремление сохранить
непосредственное богатство и полноту жизни, «живое, совершающееся словно на глазах
впитывание соков из исторической почвы». Занимаясь националь-
377
Глава 5
ными литературами, отдельными направлениями, жанрами, конкретными
произведениями, стихосложением, теория всегда в конечном счете выходит не только на
историю литературы, но и на судьбы народов — «большую» историю, ее смыслы,
выявляемые в поэтическом, художественном постижении, что позволяет осуществлять
«всякое художественное создание среди самой жизни».Филолог напоминает нам
известную позицию И.Гёте: теория суха, но зеленеет древо жизни, интерпретируя эту
мысль не как противостояние, взаимоисключение, но как связь времен, временнбе
соотношение между «умудренной» теорией, обдумывающей извечные начала, и
«молодой», происходящей сейчас жизнью, «соединение нового с опытом бессчетных
поколений».
Имея, по-видимому, в виду объективные предпосылки и основания, Михайлов
полагает, что теория укоренена в глубине самих литературных произведений,
рефлектирующих самих себя, фиксирующих осмысление содержащихся в них «сгустков
смысла». «Сам исторический поток рождает свою теорию, членя литературный процесс на
пласты, не подчиненные притом формально-логическим приемам классификации и
определения. Не будь такой живой теории, не будь этого непрестанного п орождения
теории живым процессом литературной истории, ни один литературовед не смог бы
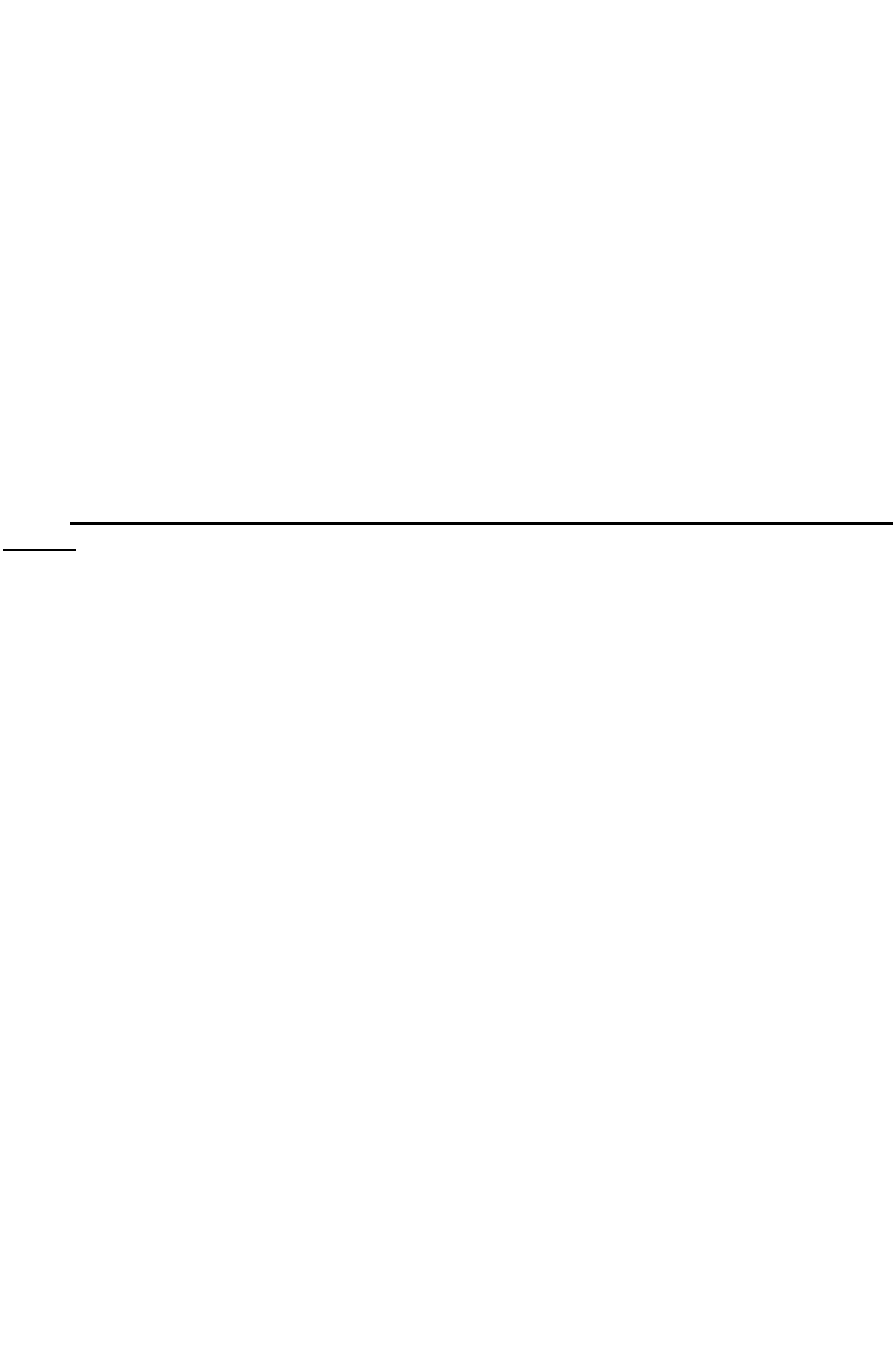
ничего поделать с историей литературы, ни один даже очень изощренный в формально-
логических построениях исследователь не мог бы разобраться в явлениях литературы, как
ни привык он кроить их на свой аршин, вся история литературы лежала бы перед ним как
нагромождение мертвого материала»"
9
. Для такого «мертвого материала» действительно
систематизация, поиск структур и их соотношений, формально-логические построения —
единственное спасение, и многие литературоведы так и поступают, тем самым выходя на
пути построения «истинно научного» знания, но «за высокую цену» — разрыв с живыми
корнями литературы, а вместо истории опора на структуры. Известен императив
Ю.М.Лотмана как название статьи- «Литературоведение должно быть наукой» (1960),
переросшее в программу «Тартуской школы» семиотики.
Если оставаться на позициях Михайлова и его последователей — не стремиться к
формально-логическим или структуралистским построениям литературоведения, то, как
он отмечает, следует учитывать роль интуиции в создании литературной теории и ее
понятий и прежде всего интуиции, основанной на знании целостного процесса
литературной истории. Интуиция при этом — не иррациональное и субъективно-
произвольное, но «необходимое условие реализации рационального, логического
принципа литературной истории. Это интуиция исследователя, знающего историю своей
литературы и в неразрывной связи с нею историю ее изучения»
120
. Оценивая так вы-
378
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
соко возможности интуиции в схватывании целостности исторического развития
литературы, ученый делает достаточно категоричный вывод: «Конкретность
исторического развития нельзя понимать через абстрактно формулируемые, заранее
готовые понятия, настоящую теорию - теорию в древнем и в гётевском смысле - нельзя
подменять отвлеченным понятием»
121
. В «гётевском смысле», — т.е. теория, содержащая
временнбе соотношение между прошлым и настоящим, древним и зарождающимся,
«соединение нового с опытом бессчетных поколений», что обеспечивает единство и
непрерывность традиций, но вместе с тем не умещается в формально-логические или
структуралистские построения.
Как следует из концепции Михайлова, такого типа неформализованные
литературные теории могут быть созданы только с помощью понятий и дефиниций,
обладающих «специфической устроен-ностью», а также особого рода схем. Опираясь на
принцип единства исторического и теоретического, он рассматривает известные термины
— классицизм, барокко, романтизм и сентиментализм — как понятия «движения»,
предполагающие в своем содержании постоянное дополнение и обновление
исторического материала, обозначающие литературные эпохи, течения, направления,
представляющие литературу в ее истории. Однако эта классификация весьма своеобразна:
вопреки требованиям логики она делит весь материал литературы не по одному
основанию, «живые пласты истории литературы», по Михайлову, несут каждый печать
своего происхождения и соответственно свое основание для выделения; каждый термин
возник случайно, и ни один из них невозможно определить формально-логически.
Окончательные, исчерпывающие определения в литературоведении, как и в
гуманитарном знании вообще, по-видимому, невозможны, и дело не в полноте или
глубине исследования, но в свойстве самого «материала», который объективно
неопределенен, исторически изменчив, не допускает проведения абсолютно точных
границ. Играют роль и особенности языка, поскольку термины литературоведения,
возникшие из естественного языка, не могут быть строгими, они продолжают получать от
него импульсы и существовать в этих двух ипостасях. Правда, это предстает и
определенным их достоинством, так как не утрачивается связь с «жизненным
литературным сознанием».
Размышляя о дефинициях в литературной теории, Михайлов отрицательно
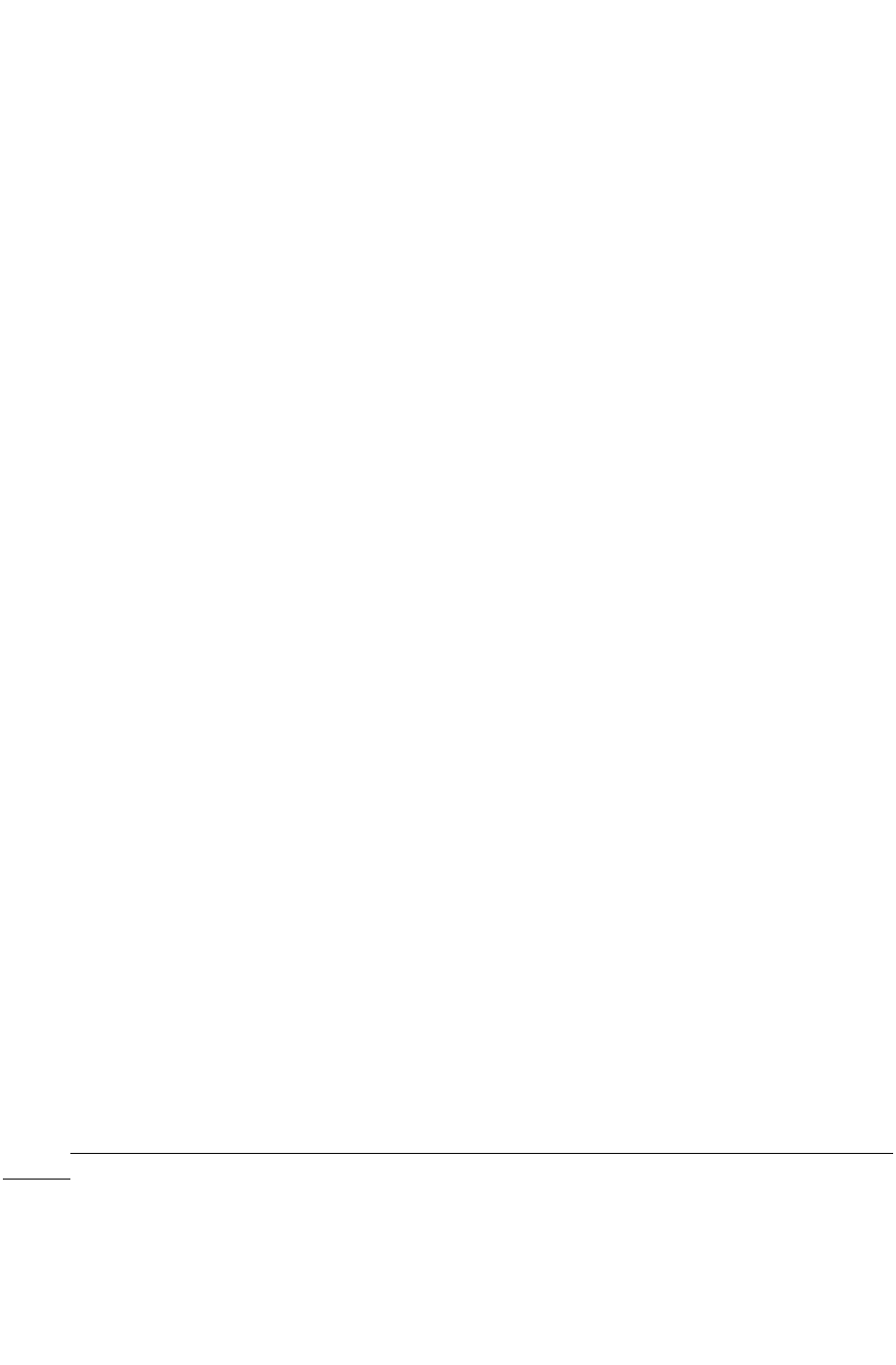
относится к определенным «эмпирическим пережиткам» — правилам, по которым
традиционно строились определения, часто принимающие вид «школьных», учебных
дефиниций, которые не могут удовлетворить научное литературоведение. Так,
предполагается 1) подведение под общее понятие (литературной эпохи или направления)
некоторого явления, обладающего определенным, неизменным
379
Глава 5
набором признаков, и художественным языком; 2) непременное пользование
такими понятиями как «абсолютными»; 3) уподобление понятий, обозначающих разные
«направления». Эти правила во многим близки к правилам формальной логики, но даже
они оказываются слишком формальными для определения таких терминов, как
романтизм, классицизм или барокко, поскольку предполагают «волевое уравнивание»
этих весьма различных явлений, не сводимых к единой качественной определенности,
одному общему понятию. Но часто литературовед начинает именно с того, что
провозглашает существование такой «всепожирающей универсалии», под которую
стремится подвести всякий конкретный литературный процесс. Опасность состоит в том,
что стремление пойти путем науки, ее строгих абстракций, обобщений и дефиниций по
законам логики может породить псевдонаучное общее понятие, или «номенклатурную
марку без внутренней формы, как маску явлений», вытеснившую неформализованный
слово-термин, живущий реальной жизнью в его истории, сохраняющий все богатство
смысловых оттенков. Вместе с другими исследователями-гуманитариями Михайлов
осознавал, что «за полноту и непосредственность знания гуманитарная наука платит тем,
что знание это размещается в поле неопределенности, где вероятность ошибок и
заблуждений резко возрастает, и тем, что знание это вместе с историей и процессами
осмысления все время пребывает в движении»
122
.
Эти проблемы близки теории интерпретации и понимания, которые
разрабатывались как в специальной, так и в философской герменевтике. Она определяется
как искусство понимания, постижения смыслов и значения знаков; как теория и общие
правила интерпретации текстов; наконец, как философское учение об онтологии
понимания и эпистемологии интерпретации. Филологическая герменевтика
формировалась как теория интерпретации и критики. Ее традиции были заложены
древнегреческими философами. Платон в диалоге «Ион», размышляя о
«божественнейшем из поэтов» Гомере, словами Сократа говорит об особой роли рапсода:
он должен стать для слушателей истолкователем замысла поэта. В диалогах «Софист» и
«Кратил» вопросы о значении слов, об их истолковании связываются с проблемами
познания и логики. У Аристотеля в работе, прямо названной «Об истолковании» ("Peri
hermeneias"), hermeneia относится не только к аллегории, но ко всему дискурсу, ко всем
логическим формам суждений и выражения мысли, что, по-видимому, философу
представляется важнейшими моментами истолкования. Х.-Г.Гадамер, один из главных в
XX в. исследователей этого направления в философии, обосновал «герменевтическую
актуальность Аристотеля», показав, что Аристотелево описание этического феномена и
добродетели нравственного знания — своего рода модель гер-
380
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
меневтической проблемы. Расцвет филологической герменевтики связан с
интерпретацией текстов греко-латинской античности в эпоху Возрождения. В дальнейшем
исследовалась не только ее особенность, но сама фи лология стала рассматриваться как
лежащая в основе герменевтики наука о слове, раскрывающая его жизнь в
обстоятельствах употребления и развития. Понимание из смысла слов самих по себе
предстало как грамматическая интерпретация, а из смысла слов в связи с реальными
отношениями — как историческая интерпретация (И.Эрнести, А.Бек, Ф.Шлейермахер).

В.Гумбольдтом была выдвинута проблема понимания как основная функция языка, при
этом язык рассматривался как «орган внутреннего бытия человека» и посредник между
мыслящими субъектами. Все богатство языка включается в предмет герменевтики, а в
основание ее методов вводится языкознание. В литературной герменевтике
обосновывается зависимость интерпретации художественного произведения от
культурной традиции и необходимости реконструировать его место в духовной истории
человечества. Наиболее крупный исследователь литературной герменевтики сегодня —
американский ученый Э.Д.Хирш, работы которого по теории ин терпретации известны и в
нашей стране. В частности, он различает два «измерения» герменевтики —
дескриптивное, выражающее ее природу, и прескриптивное (нормативное), заключающее
в себе ее цель. Соответственно цель интерпретации определяется системой ценностей,
этическим выбором интерпретатора, социокультурной обусловленностью его взглядов.
Третье измерение — «метафизическое» — определяется концепцией историчности,
поскольку всякое настоящее дано только в исторической реконструкции.
Иного рода философские проблемы представлены в таких направлениях XX в., как
структурализм и постструктурализм, где тесно переплелись философские и
лингвистические подходы по линии знака, языка, смысла, письма, стиля, риторики. Они
оказали существенное влияние на исследования в различных областях гуманитарного
знания, в том числе в филологии, философии языка и лингвистике. В изучении структур
языка и художественных произведений проявилось стремление к точности,
формализации, созданию строгих понятий, привлечению математических и формально-
логических методов, а также схем, таблиц и моделей. Так, представители структурализма
стремились найти единую «повествовательную модель» (Р.Барт), установить модель
системы самой литературы, определить принципы структурирования произведений и
отношений между ними. Задача структурного анализа художественного произведения
стала определяться как поиск внутренних закономерностей его построения, лежащих в
сфере абстрактно-родовых признаков и свойств всех литературных текстов. На первый
план вышли внутренние, глубинные, не-
381
Глава 5
осознаваемые и невербализованные структуры, существующие неявно в подтексте
и за текстом. Главными параметрами структуры как модели произведения были приняты
целостность, трансформация структуры и подструктур, саморегулирование как действие
определенных правил в данной системе-модели, наконец, поиск общих законов в
структурном литературоведении и лингвистике.
Постструктурализм не только критически переосмыслил принципы
структурализма, но осуществил более глубокую «переоценку ценностей», подвергнув
критике саму возможность создания обобщающей теории и выявления общих
закономерностей, рационализма как «империализма рассудка», а также «метафизические»
догмы причинности, истины, идентичности, прогресса знаний и общества.
Постструктурализм пошел дальше структурализма, преодолевая жесткое разграничение
между выявленными им означающим и означаемым, синхронизмом и диахронизмом,
вариативным и инвариантным. Литературоведческой разработкой общей теории
постструктурализма является деконструктивизм (Ж.Деррида, М.Фуко, Ю.Кристева) как
особый принцип анализа текста. Деконструкция состоит в выявлении скрытых от читателя
и даже от автора «остаточных смыслов», представляющих собой «следы» дискурсивных
практик прошлого и мыслительных стереотипов. Это выявление в «сказанном»
«несказанного», прочтения текста прежней эпохи в контексте нашей эпохи, столкновение
языковых наслоений различных культурных ситуаций, усмотрение за ними
метафизических противоречий. Как отмечает И.П.Ильин, Деррида стремится стереть
грани между реальным миром и его отражением в сознании людей, соответственно
экономические, воспитательные и политические институты «вырастают из практики»
