Микешина Л.А. Эпистемология ценностей
Подождите немного. Документ загружается.

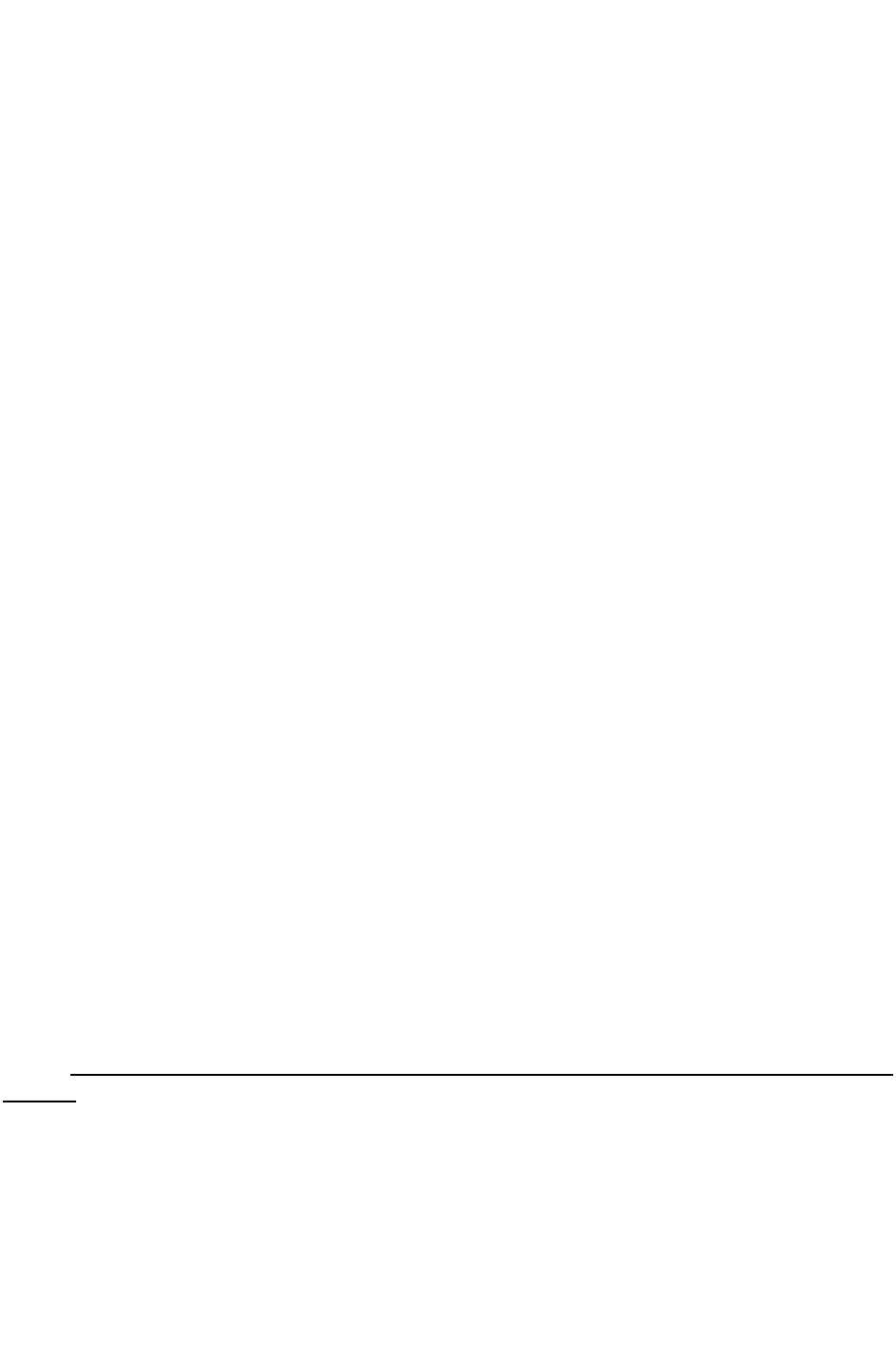
принципов»,
409
Глава 5
в частности, при рассмотрении отношения органического и духовного, тела и
разума, божественного и человеческого, культуры и религии? Наиболее
распространенный прием — описать все с помощью метафоры «уровня», но для Тиллиха
она неприемлема, что обосновывается им рядом существенных аргументов, до сих пор
мало кем принимавшихся во внимание. «Уровни» предполагают определенный тип
мышления, рассматривающий все с точки зрения порядка и иерархии, в результате чего
реальность предстает как «пирамида уровней», следующих друг за другом «в
соответствии с присущей им силой бытия и их степенью ценности». Объекты одного
уровня «уравнены», закреплены, относительно независимы, высшее имплицитно не
содержится в низшем, изменение уровней — это некоторое внешнее вмешательство
(контроль или бунт). Неадекватность «уровневого подхода» в полной мере
обнаруживается при рассмотрении собственно соотношения разных уровней, например,
при попытке ответить на вопрос, можно ли с помощью физических методов объяснить
биологические явления, этот подход чреват сведением психического к биологическому и
т.п. Не менее сложные проблемы возникают в обществе, когда религия как высший
уровень стремится контролировать культуру, науку, искусство, эти ку или политику. «Это
подавление автономных культурных функций приводит к тем революционным реакциям,
посредством которых культура пытается поглотить религию и подчинить ее нормам
автономного разума. Здесь вновь становится очевидным, что использование метафоры
"уровень" не только неадекватно, но и касается решения проблем человеческого
существования»
165
.
Тиллих приходит к выводу, что метафоры «уровень», «слой», «пласт» необходимо
«исключить из любого описания жизненных процессов», что, однако, не влечет отказа от
ценностных суждений, основанных на «степенях силы бытия». Их возможно заменить
терминами «измерение», «сфера», «степень», которые не предполагают какую-либо ие-
рархизацию и позволяют видеть амбивалентность и многомерность всех жизненных
процессов. Обосновывая это положение, он обращается именно к измерениям жизни и их
отношениям, что позволяет ему прежде всего изменить понимание пространства, времени,
причинности как различные в неорганической и органической, а также духовной сферах,
что предотвращает проявления «редукционистской он тологии - как натуралистической,
так и идеалистической».
Исходные семантические соображения при рассмотрении жизни в ее
амбивалентности — это п режде всего определение такого измерения жизни, как дух, что
имеет прямое отношение к наукам о духе и культуре. Дух «включает в себя больше, чем
разум, — он включает эрос, страсть, воображение, — но без логосной структуры он не
может выразить ничего. Разум в смысле технического разума или рассуждения —
410
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании________
это одна из потенциальностей человеческого духа в когнитивной сфере. Он
является орудием научного анализа реальности и технического контроля над нею»
166
. Для
эпистемологии гуманитарного знания важно выяснить, каково отношение духа, как в
когнитивном, так и в нравственном акте, к психологическому материалу - чувственным
впечатлениям, осознанным или неосознанным традициям и авторитетам, волевым и
эмоциональным элементам. Познающий «центр» как субъект самосознания должен
осуществить трансцендирование — преобразовать этот материал в знание (редуцировать,
приумножить, соединить и пр.) в соответствии с логическими и методологическими
критериями.
Тиллих предложил фундаментальные результаты исследования категории жизни,

которая «в каждый миг амбивалентна». Индивидуализация и соучастие (в литературе
приняты термины «методология индивидуализма» и «методология коллективизма, или
коммунитариз-ма») - это «первая из полярностей структуры бытия», которая раскрывается
через многие другие оппозиции: самоинтеграции и дезинтеграции, самосозидательности
жизни через динамику и форму, созидание и разрушение, общественного и личностного
преобразования, свободы и судьбы, самотрансцендирования и профанизации, наконец, как
историческое измерение жизни вообще и человеческой истории как жизненного процесса
в частности, поскольку амбивалентность жизни должна рассматриваться в историческом
измерении. Это, разумеется, не относится к «поиску неамбивалентной жизни» — Вечной
жизни. При этом «хотя историческое измерение и присутствует во всех сферах жизни,
однако самим собою оно становится лишь в истории человеческой. Аналоги истории в
собственном смысле слова можно обнаружить во в сех сферах жизни. Не существует
истории в собственном смысле слова там, где нет духа. А если так, то необходимо
отличать то "историческое измерение", которое принадлежит всем жизненным процессам,
от той истории в собственном смысле слова, которая совершается только лишь в
человечестве»
167
. Таким образом, как мы видим, по Тиллиху, в сфере знания о культуре и
духе различаются не только традиционные «параметры» — пространство, время,
причинность, но и сама история или историчность.
«Жизнь и история» рассматривается Тиллихом как достаточно самостоятельная
тема, включающая проблемы истории и исторического сознания, историческое измерение
в свете человеческой истории, предыстория и постистория, сообщество, личности,
человечество как носители истории , время и пространство в измерении истории, динамика
истории, ее тенденции, структуры, периоды, исторический прогресс: его реальность и
пределы. Только далеко не полное п еречисление проблем уже показывает, сколь
обстоятельно исследует Тиллих природу истории и историчности. Я же обращусь лишь к
одной, близ-
411
Глава 5
кой мне теме — исторической интерпретации, особое значение которой придается
в «Систематической теологии».
В качестве своего рода методологической предпосылки Тиллих рассматривает
прежде всего зависимость толкования истории от различных этапов исторического
познания, включая отбор фактов, оценку причинных зави симостей, а также представления
о личных и общественных структурах, мотивациях, о понимании смысла истории, о
принципах социальной и политической философии. Он предлагает определенную
систематизацию интерпретаций, представленных в исторических текстах. Прежде всего
это группа «неисторического» толкования истории, представленная тремя формами:
трагической, мистической и механистической. Начало трагической интерпретации
заложено в древнегреческом мышлении, где отсутствовало представление о
«трансисторической цели» и движение истории происходило по кругу с возвращением к
исходной точке, от исходного совершенства к саморазрушению, описываемых с
трагическим величием. Мистический тип исторической интерпретации (неоплатонизм,
спинозизм и особенно индуизм, даосизм и буддизм) не содержит представления об
историческом времени и о пределе, к которому движется история. История
неопределенна, она не может создать чего-либо нового, человек пребывает внутри нее, во
«всеобщности страдания во в сех измерениях жизни». В механистической интерпретации,
испытывающей влияние классической науки, история превратилась в «серию
происшествий в физическом времени». Такое понимание истории может носить
прогрессивный характер, но бесполезно для интерпретации человеческого существования
как такового и, в конечном счете, представляет собой «редукционистский натурализм»
168
.
Итак, это отрицательные ответы на вопрос о смысле истории.
Среди позитивных, но неадекватных ответов Тиллих рассматривает прежде всего
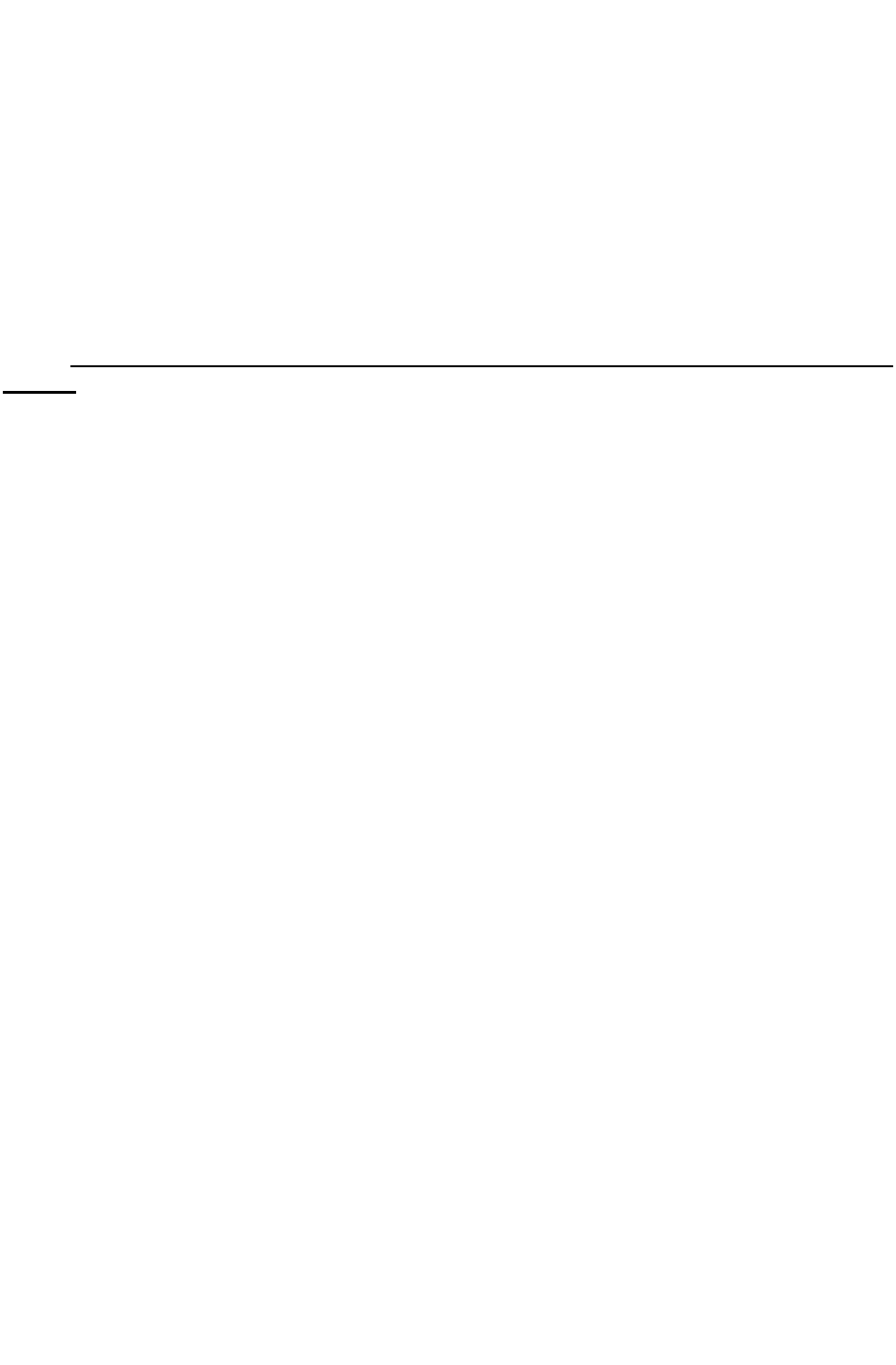
«прогрессизм» как действительно историческое толкование истории, где прогресс
составляет сущность действительности, которая движется вперед к некоторой цели. В
свою очередь, «прогрессизм» интерпретируется либо как вера в поступательное движение
без определенной цели, либо (при утопической интерпретации) как достижение цели —
максимально разумной, определенно организованной жизни. К неадекватной
исторической интерпретации Тиллих относит также трансцендентальное толкование
истории, основанное на эсхатологической настроенности Нового Завета, миссии Христа
— спасти людей в лоне церкви от бремени греха и дать возможность вступить в Царство
Небесное. Неполнота этой интерпретации, как мне представляется, в определенном
противопоставлении индивидуального спасения и мира в целом, а также в исключении
культуры и природы из процессов исторического спасения
169
. Таким образом,
«методологию истории» Тиллих структурирует и развивает, опираясь на цен-
412
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании_______
ностный содержательный анализ существующих в истории и теологии типов
интерпретации, при этом для него как теолога только символ Царства Божия - истинный
ответ на вопрос о смысле истории. В целом возникает необходимость более пристально
рассмотреть особенности ценностного подхода в интерпретативной деятельности.
Безусловны богатство и глубина рассмотрения методологических и когнитивных
проблем теологии как системы знания, несущей многие типические характеристики
гуманитарных наук. Подтверждается правомерность отнесения христианской
систематической теологии к этому типу знания прежде всего по его предметным
характеристикам: неформализуемость, эмпирическая непроверяемость, отсутствие
«окончательных» критериев и норм доказательности, а главное — экзистенциальный
подход к человеку, всему человеческому и богочело-веческому В полной мере
подтверждается и гуманитарная природа эпистемологии и методологии, освоивших
способы введения ценностных - религиозно-духовных, телеологических форм, которые
применяются и разрабатываются в систематической теологии.
Примечания
1
Берлин И. Разрыв между естественными и гуманитарными науками // Он же.
Подлинная цель познания. М., 2002. С. 377. Декарт буквально пишет следующее: «И даже
в самых достоверных исторических описаниях, где значение событий не
преувеличивается и не представляется в ложном свете, чтобы сделать эти описания более
заслуживающими чтения, авторы почти всегда опускают низменное и менее достойное
славы, и от этого и остальное предстает не таким как было» {Декарт Р. Соч. в 2 т. М.,
1989. Т. 1. С. 253). См. также: Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С.
60.
2
Сравнительный анализ оценок роли Вольтера Г.Г.Шпетом и Э.Кассирером см. в
статье: Микешина Л.А. Густав Шпет и современная философия науки // Густав Шпет и
современная философия гуманитарного знания. М., 2006. С. 51—54.
3
Берлин И. Разрыв между естественными и гуманитарными науками... С. 386;
Берлин И. Дж.Вико и история культуры // Он же. Философия свободы. М., 2001
4
Гердер КГ. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 474-477.;
Мейнике Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 333—334. Здесь он дает «историю
ценностных критериев», лежащую в основе историографии и исторического мышления
вообще.
5
Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004. С. 232-233; CassirerE. Decartes,
Leibniz and Vico// Symbol, Myth and Cultura. New Haven, 1979. P. 102-105; Коллинг вуд
Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 64—65; Arendt H. Between Past and
Future. N.Y., 1961. P. 57; Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма. Становление
историзма. М., 1998. С. 145; Мудрагей Н.С. Философия истории Дж.Вико // Вопросы

философии. 1996. № 1.
6
ВикоДж. Основания новой науки об общей природе наций. М.—Киев, 1994. Кн.
Первая. Разделы «Об Элементах», «Об О снованиях», «О Методе». См. также Vico's
Axioms. The Geometry of the Human World. New Haven & L. 1995.
7
Берлин И. Разрыв между естественными и гуманитарными науками... С. 400-401.
8
Микешина Л.А. Трансцендентальное измерение гуманитарного знания // Вопросы
философии. 2006. № 1.
9
Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. М., 2004. С. 8-9. См. анализ этих идей:
Мах-лин В.Л. Затекст: Эрих Ауэрбах и испытание филологии //Ауэрбах Э. Мимезис... С.
391— 394.
413
Глава 5
10
Гартман Н. Этика. М, 2002. С. 130.
" АуэрбахЭ. Данте - поэт земного мира. С. 13. Философичность поэзии он
принимает как принцип, исследуя поэзию Данте и стремясь понять его самого как
художника и мыслителя. Данте «был исполнен в своем внутреннем существе такой
неукротимой мощи, что не мог не попытаться выстроить свою личную судьбу под знаком
всеобщности — более того, заново создать, исходя из собственной судьбы, весь
универсальный мировой порядок, это грандиозное и величавое зрелище христианского
космоса». — Там же. С. 66.
п
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,
1997. С. 7.
13
Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной
поэтике. СПб., 2004. С. 49.
14
Там же. С. 51.
15
Там же. С. 182.
16
Там же. С. 28.
17
Там же. С. 14.
18
Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возможно общество? // Вопр. социологии.
М., 1993. № 3. С. 17.
19
Там же. С. 19.
20
Там же. С. 24.
2,
ФихтеИ.Г. Назначение человека. СПб., 1906. С. 81.
22
Апель К.-О. Трансформация философии. С. 194—195.
23
Там же. С. 197,198.
24
МарголисДж. Личность и сознание. Перспективы нередуктивного материализма.
М., 1986. С. 173.
25
Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004. С. 505-506.. хДерридаЖ. О
грамматологии. М., 2000. С. 119.
27
Гумбольдт В. фон. Избр. труды по языкознанию. М., 1984. С. 76-77.
28
Там же. С. 70.
29
Там же. С. 304.
30
Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления.
М., 1993. С. 263.
31
Щедрина Г.Г Густав Шпет: путь философа // Шпет Г.Г. Мысль и Слово.
Избранные труды. М., 2005. С. 23.
32
Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта.
Иваново, 1999. С. 7.
33
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской г ерменевтики. М., 1988. С.
513.
34
Гадамер Г.-Г. Человек и язык//От Я к ДРУГОМУ. Минск, 1997.
35
Ницше Ф. Злая мудрость. Афоризмы и изречения // Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С.
751.
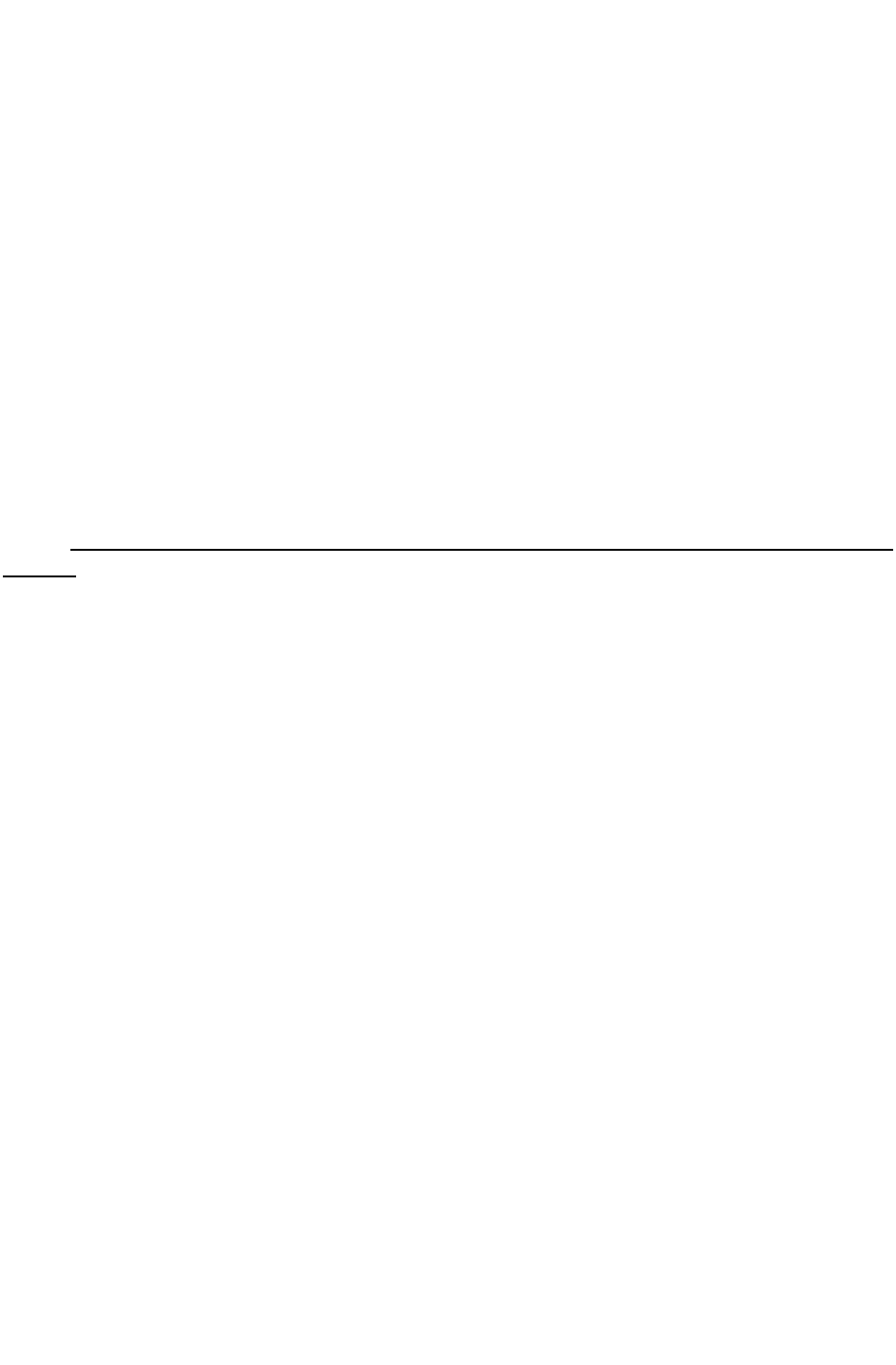
36
Прав, как мне представляется, И.Т.Касавин, полагающий, что «герменевтическая
проблематика понимания универсализируется, расширяется до сферы эпистемологии
вообще. <...> Способность неклассической эпистемологии переварить эту ситуацию,
соединяя трансцендентальную позицию с эмпирическим социокультурным
исследованием, станет в XXI в. одним из решающих критериев исторической
адекватности теоретической философии вообще». - Касавин И. Т. Мир науки и жизненный
мир человека // Эп истемология и философия науки: Научно-теор. журнал по общей
методологии науки, теории познания. М., 2005. Т. V, № 3. С. 11.
37
Гумбольдт В. фон. Избр. труды по языкознанию. М., 1984. С. 318.
38
Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 239.
39
Там же. С. 176.
40
Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С.
259.
41
Будагов Р.Л. Человек и его язык. М., 1976. С. 26, 45-49, 65.
42
Лурия А.Р. Научные горизонты и философские тупики в современной
лингвистике // Вопр. философии. М., 1975. № 4. С. 148. Он критикует Н.Хомского за
отсутствие «даже самых робких попыток» объяснить формирование языковой
способности из реального исторического развития. Следует отметить, что крайняя форма
«дегуманизации» и ут-
414
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании_______
верждения независимости языка от объективной реальности представлена в
глоссема-тике копенгагенских структуралистов Л.Ельмслева и Х.Ульдалля (см. работу
последнего: Основы глоссематики// Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960).
43
УорфБ.
Наука и языкознание //Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 174-175; см. также:
Сепир Э. Избр. Труды по языкознанию и культурологи. М., 1993.
44
См.: Слобин Д.,
ГринДж. Психолингвистика. М„ 1977. С. 107-215. Д.Слобин приводит на этот счет
интересные соображения Н.Хомского: Б.Уорф чрезмерно большое значение придавал
поверхностным структурам языка и соответственно различиям свойств, в то время как на
глубинном уровне все языки обладают универсальными свойствами.
45
Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. М., 1963. С. 51—
60. См. также: Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.
46
Микешина Л.А. Философия науки. Гл. 7. § 2.
47
Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1974. С. 53-57.
48
Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004. С. 520.
49
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1977; Фуко М,
Археология знания. Киев, 1996; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное
действие. СПб., 2000; ДерридаЖ. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук //
Вестник МГУ. Серия 9. Филология. № 5. 1995.
50
Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 41-49, 190.
51
Кубрякова Е.С. Язык и знание. С. 525.
52
Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ.
Харьков, 2004. С. 29-30.
53
Кубрякова Е.С. Язык и знание. С. 529.
54
Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. С. 18.
55
Там же. С. 19-20,21.
56
Александер Дж. Общая теория в состоянии постпозитивизма:
«эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума // Социология:
методология, методы, математические модели. М., 2004. № 18. С. 168, 170.
57
Чтобы понять, в какой мере прав в своих оценках Дж. Александер, см.: Кун Т.
Структура научных революций. М., 1975; Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004;

GarfinkelH. Studiesin Ethnomethodology. N.Y., 1967.
58
См.: Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
59
Bernstain RJ. Beyond Objectivism and Relativism. Philadelphia, 1983. P. 160, 169.
60
Александер Дж. Общая теория в состоянии постпозитивизма:
«эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума... С. 184.
61
Данто А.С. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 243-266.
62
БхаскарР.
Общества//Социо-логос. М., 1991. С. 227.
63
Там же. С. 228.
64
Там же. С. 229. См. также: Богуславская СМ. Философско-культурологическое
обоснование научного познания в трудах Р.Бхаскара 70-80-х годов XX века // Credo New.
2005. № 3.
65
Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. С. 36.
66
Там же. С. 40.
67
Там же. С. 45.
68
Бауман 3. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 181. См. также:
Ваитап Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. L., 1995.
69
Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. L., 1995.
70
Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М., 2000.
71
Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004. С. 8. В состав общего
понятийного аппарата он предлагал ввести понятия «аутопоэйзиса и оперативной
замкнутости, наблюдения первого и второго порядка, самоописания, медиума и формы,
кодирования и, ортогонально к этому, с понятиями различения само-референции и ино-
рефе-ренции как внутренней структуры». - Там же. С. 8-9.
415
Глава 5
72
Фейерабенд П. Как защитить общество от науки // Эпистемология и философия
науки. М., 2005. Т. III, № 1. С. 219.
73
Там же.
74
Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Философия науки.
Вып. 3. Проблемы анализа знания. М., 1997. С. 51.
75
Уолш Д. Социология и социальный мир // Новое направление в социологической
теории. М., 1978. С. 54.
76
Там же. С. 58.
77
Деррида Ж. Структура, знак и и гра в дискурсе гуманитарных наук // Вестник
МГУ. Серия 9. Филология. № 5. 1995.
78
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 82.
79
Там же. С. 86.
80
Там же. Следует отметить, что К.Маркс ставил эту проблему не только по
отношению к категориям буржуазной экономии, но указывал и на то, что многие даже
самые абстрактные категории «в такой же мере и продукт исторических условий и
обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах» (см.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1.С. 42).
81
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 91.
82
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 2. С. 182; см. также с. 24, 443, 623 и др.
83
Там же. Т.25.Ч. 2. С. 398.
84
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 3. С. 471.
85
Там же. С. 81-82.
86
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Вопр. философии. М.,
1968. № 6. С. 16.
87
Лихачев Д. С. Прошлое - будущему. Статьи и очерки. Л., 1985. С. 352-353; см.
также: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979; Лихачев Д.С. Поэтика
древнерусской литературы. М.-Л., 1967; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской
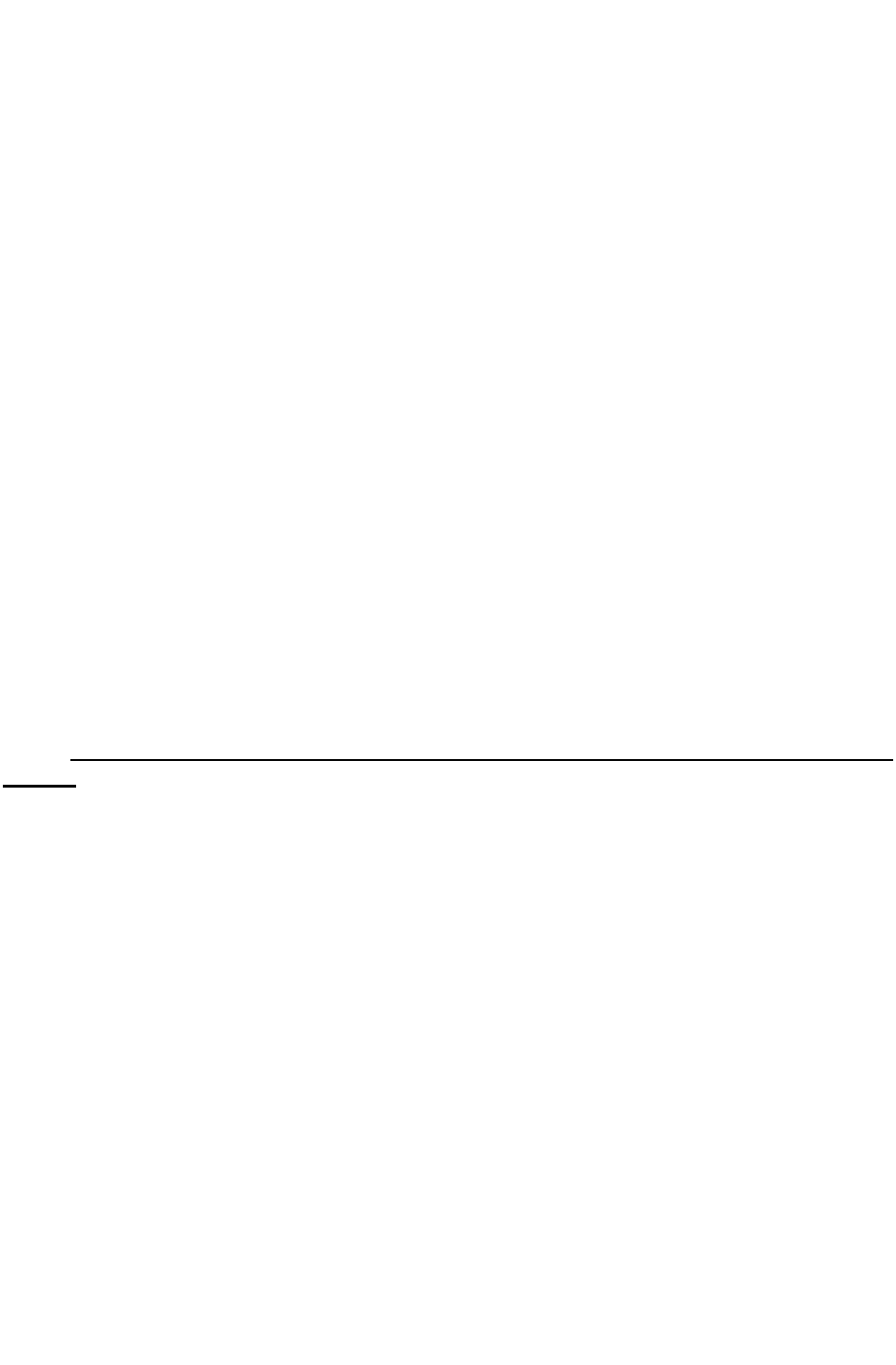
литературы. М., 1977; Поэтика древнегреческой литературы / Под ред. С.С.Аверинцева.
М., 1981.
88
Аристотель. Поэтика // Соч. в 4 т. Т. 4. С. 646 (1447 а 8).
89
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. 5-е изд. М.—Л., 1930. С. 3.
90
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 81.
91
N.S. Trubetzkoy's letters and notes. Prepared for publication by R.Jakobson. Paris,
Moun-ton, 1975. P. 17 / Пер. Вяч.Иванова // Якобсон Р. Работы по поэтике. С. 14.
92
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 29—30.
93
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 3. «Вопрос о поэтике
ранневизантийской литературы — двуединый вопрос. Один аспект проблемы — история
и человек; второй ее аспект — человек и слово. ... Нет человека вне истории, но история
реальна только в человеке». Там же. С. 7.
94
Лихачев Д.С. Прошлое - будущему. С. 352.
95
Там же. С. 351-352.
96
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 7.
97
Там же. О понятии «тайная поэтика» см.: Михайлов А.В. Поэтика барокко:
завершение риторической эпохи // Он же. Языки культуры. Учебное пособие по
культурологии. М., 1997. С. 121-123.
98
Там же. С. 239-240.
99
Там же. С. 244-245.
100
См.: Соболевский А.И. Южнославянское влияние на русскую письменность в
XIV—XV веках // Он же. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков.
СПб., 1903; Иконников B.C. Опыт русской историографии. Киев, 1908. Т. 2, кн. 2. С. 1104.
101
Ягич И.В. Рассуждения южнославянской и русской старины о
церковнославянском языке. СПб., 1896. С. 81-85.
102
Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 23.
103
Там же. С. 25.
416
Формы рефлексии ценностных компонентов в гуманитарном и социальном
знании_______
104
ЛихачевД.С. Текстология. Л., 1983. С. 21.
105
Там же. С. 48-51, 58. Важным доказательством плодотворности новой
методологии стала реконструкция на ее основе утраченной «Троицкой летописи» начала
XV в., которая была осуществлена М.Д.Приселковым. См.: Приселков М.Д. Троицкая
летопись: Реконструкция текста. М.-Л., 1950.
106
Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. С. 26—28.
107
Там же. С. 29-30, 34.
108
Там же. С. 31.
109
Там же. С. 34, 35-36.
110
Лисаковский И.Н. Творческий метод: свойства и отношения. Киев, 1978. С. 50.
1,1
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281.
112
Там же. С. 292. См. также: Бахтин М.М. Проблема текста//Собр. соч. в 7т. Т. 5.
М., 1996. С. 306-326.
1,3
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской
литературе. М.-СПб., 2000. С. 39.
114
Махлин В.Л. Затекст: Эрих Ауэрбах и испытание филологии //Ауэрбах Э.
Мимесис... С. 488.
lls
Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С.
26-27; Возникновение русской науки о литературе. М., 1975.
116
Там же. С. 34.
1,7
Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.,
1996. С. 159.
118
Там же. С. 239-240.
119
Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 26-27.

120
Там же. С. 29
121
Там же. С. 30.
122
Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 41.
123
Гартман Н. Этика. СПб., 2002. С. 139.
124
Йегер В. Пайдейа: Воспитание античного грека. Т. 1. М., 2001. Т. 2. М., 1997;
Мар-руА.-И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998.
125
Эти же идеи развивал известный педагог — теоретик и практик —
Г.Песталоцци: «Выглядит так, как будто люди не должны заботиться о своих собратьях;
вся природа и вся история взывает к человеческому роду: каждый должен заботиться о
себе сам, никто не позаботится о нем и никто не может о нем заботиться, и самое лучшее,
что можно сделать для человека, — научить его делать это самому». Цит. по: Наторп П.
Избранные произведения. М., 2006. С. 162.
,26
ФукоМ. Герменевтика субъекта.. Социо-логос. Вып. 1.М., 1991.С. 286,292-
296,311.
nl
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 182-184, 191-200.
128
Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996. С. 40—41;
Она же. От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в
России эпохи Просвещения. СПб., 2005. С. 58-60 и др. См. также: Зибен В.В. Об основных
детерминантах теоретико-познавательной концепции Хр.Вольфа// Социальная
детерминация научного познания. Тез. конф. Тарту, 1985.
т
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1975. С.
123; Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 263, 283.
130
Микешина Л.А. Герменевтические смыслы образования // Философия
образования. Сб. М., 1996; Она же. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
Гл. VI.
131
Наторп П. Культура народа и культура личности //Он же. Избранные
произведения. М., 2006. С. 286.
132
Там же. С. 256.
133
Краевский В. В. Философия образования — вместо педагогической теории или
вместе с ней? // Труды научного семинара «Философия — образование — общество». Т. 1.
М., 2004. С. 24-26.
134
Огурцов А. П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия
образования. XX век. СПб., 2004. С. 12.
417
Глава 5
135
Там же. С. 21-22.
136
Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопр. философии.
1990. № \;Дю ркгейм Э. Социология. М., 2006. См. ст. «Педагогика и социология»,
«Ценностные и «реальные» суждения».
137
Подробно см.: Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования... Гл. 8-10; см.
также: Гессен СИ. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995.
138
Мунье Э. Манифест персонализма. М., 1999. С. 322, 327.
139
Труды научного семинара «Философия—образование—общество». Т. 1. С. 3.
См. также: Михайлов Ф. Т. Избранное. М., 2001.
140
БурдахК. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004. С. 42.
141
Булыпман Р. Избранное: Вера и понимание. Т. I—II. М., 2004. Т. I. С. 247.
142
Там же. С. 232-233.
143
Там же. С. 16.
144
Там же. С. 14. С.В.Лёзов указывает на многозначность термина «миф» у
Бультмана: это и донаучная КМ, и неправи льное понимание человеческого
существования, обозначение потустороннего в терминах посюстороннего и др. Лё'зов С.
Труды и дни Рудольфа Бультмана // Там же. С. 717).
143
Барт К. Рудольф Бультман: попытка его понять // Там же. С. 665.

146
Там же. С. 230.
147
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 117. По существу,
Хайдеггер следует известному герменевтическому принципу — понимать автора лучше,
чем он сам себя понимает (чему следовал и Кант, см.: Критика чистого разума. М., 1994.
С. 226), что он может понимать автора, его намерения, используемые понятия,
поставленные им проблемы полнее, а значит лучше, с новой стороны, а главное —
выявлять скрытые, «неизвестные» или, по разным соображениям, не проведенные
последовательно автором идеи.
148
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. С. II.
149
Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Т. I—II. М., 2004. С. 230.
150
Августин Блаженный. Христианская наука, или основания св. герменевтики и
церковного красноречия. Киев, 1835.
151
Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Т. I—II. С. 25.
152
Бультман Р. Иисус // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 2. С.
3, 4,7.
'"Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 375.
154
Тиллих П. Систематическая теология. Т. I—II. М.; СПб., 2000. С. 7-8.
155
Там же. С. 58.
156
Там же. С. 58-62.
157
ТиллихП. Систематическая теология. Т. III. M.—СПб., 2000. С. 11—13.
158
Гегель. Соч. Т. 6. М., 1937. С. 299.
159
Гегель. Соч. Т. 5. М., 1937. С. 34.
160
ТиллихП. Систематическая теология. Т. I—II. С. 65.
161
Там же. С. 80.
162
Там же. С. 84-85.
163
Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998. С. 281.
164
Хайдеггер М. Бытие и
время. М., 1997. С. 402, 398.
165
ТиллихП. Систематическая теология. Т. 3. М.—СПб., 2000. С. 20.
166
Там же. С. 28.
167
Там же. С. 263.
168
Тиллих П. Систематическая теология. М.-СПб., 2000. Т. 3. С. 308-319; см. также:
Tillich P. The Interpretation of history. Chicago, 1936; Tillich P. History and the kingdom of
God. N.Y., 1977.
Читая Витгенштейна... Вместо заключения
В заметках «Культура и ценность» Витгенштейн вспоминает: «Рассел часто в ходе
наших бесед употреблял выражение «логический ад». И оно совершенно точно выражает
то, что мы испытываем при размышлении над логическими проблема ми, а именно: их
чрезвычайную сложность, трудноулови-мость»
1
. По окончании книги у меня возникло то
же самое чувство: проблема «знание и ценности» — это тоже «логический ад». Всегда
будут разные точки зрения и дискуссии на темы: могут ли быть ценности знанием,
нуждается ли познание в ценностях, существуют ли абсолютные ценности, свободна ли
наука от ценностей? Проблема остается сложной и «трудноуловимой», я изложила только
свое понимание, не претендующее на полноту и завершенность.
Может, следует все-таки обратиться к великим, они-то, в отличие от меня
справятся. Но посмотрите, как «решает проблему» Витгенштейн. «...Лишь художнику
дано изобразить индивидуальное так, что оно предстанет произведением искусства; то
есть рукописи вполне законно утратили бы свою ценность, рассматривай мы их порознь и
совершенно беспристрастно, без исходной заинтересованности. Произведение искусства
как бы навязывает нам правильную перспективу; предмет же вне искусства - это фрагмент
природы, такой же, как и любой другой, а то, что мы нашим вдохновением способны его
возвысить, никому не дает права противопоставлять его нам. <...> Но все же мне кажется,
что кроме работы художника существует еще и другая, подобная ей, - рассматривать мир

sub specie aeterni (с точки зрения вечного. — Л.М.). Я полагаю, что это путь мысли,
воспаряющей над миром и, взирая на него с высоты, оставляющей его таким, каков он
есть»
2
. Решил ли он проблему? Думаю, что нет. Он лишь показал, что она
«трудноуловимая», «логический ад», и предложил решение через четкое разведение
предметных областей. Но в том-то и дело, что это искусственный прием, который мы сами
устанавливаем и применяем. Это некоторая данность, которая не учитывает
заинтересованности, а не только «беспристрастия», реального присутствия ценностей в
разных типах знания. Возможность для познающего человека «воспарения над миром»,
оставляющего «его таким, каков он есть», - это иллюзия, и после Канта и исследований
философов и ученых XX в. об этом уже трудно спорить.
419
Глава 5
Мне нравятся два замечания Л.Витгенштейна из заметок «Культура и ценность».
Первое: «Я, собственно, пишу для друзей, рассеянных по разным углам мира»
3
. Мне бы
тоже хотелось сказать: п ишу для друзей и учеников, живущих в разных местах России.
Дальние расстояния, отсутствие времени и другие обстоятельства не дают встречаться с
теми, кто когда-то стал близок, а «душа просит» и ощущает эти огромные просторы и
философии, и страны, в которых я, надеюсь, не потерялась. Это один из важных стимулов
написать книгу.
Второе: «...мое мышление, по сути, всего-навсего репродуктивно. Думаю, я
никогда не открыл ни одного движения мысли, оно всегда передавалось мне кем-то
другим. Я лишь со страстью набрасывался на разъяснительную работу. ... Что касается
меня, то я открываю новые сравнения»*. И хотя он строчкой выше до этого высказывания
признал себя талантом, но все-таки говорит о себе предельно скромно.
Не собираясь, разумеется, сравнивать себя с великим философом, общность с ним
ощущаю в том, что «движение мысли всегда передавалось мне кем-то другим», как бы из
глубины истории философии, из интенций мысли и поиска других философов — разных
стран и школ. И я не столько стремилась заниматься простым пересказом или
«разъяснительной работой», сколько хотела обнаружить незамеченные или забытые
«движения мысли», особенно если они близки мне или, наоборот, поражают
неожиданностью. Всегда хотелось одного: сберечь, сохранить, не потерять, возродить и
вступить в диалог, объединить, мыслью почувствовать себя с философией как
целостностью.
И еще из того же текста. Мысль записана в 1932 г., т.е. ровесница мне. «Философы,
которые говорят: «После смерти наступает вневре-меннбе состояние»... не замечают, что
слова... высказаны ими во вре-меннбм смысле, что временность заложена в их
грамматике»
5
. Временность, а не вневременное состояние, заложена не только в
грамматике, но и в самом событии «после смерти». Мы исчезаем в пространстве, но
остаемся «привязанными» к своему времени и прежде всего своими «современными», т.е.
соответствующими этому времени, мыслями в созданных нами текстах, независимо от
степени их значимости. Вневременными становятся только великие.
Примечания
1
Витгенштейн Л. Культура и ценн ость // Он же. Философские работы. Ч. I. M,
1994. С. 439.
2
Там же. С. 416.
3
Там же. С. 418.
4
Там же. С. 429.
5
Там же. С. 432.
Литература
Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой жизни. М., 1977.
Августин Блаженный. Христианская наука, или основания св. герменевтики и
церковного красноречия. Киев., 1835.
