Попова Т. Мусоргский
Подождите немного. Документ загружается.

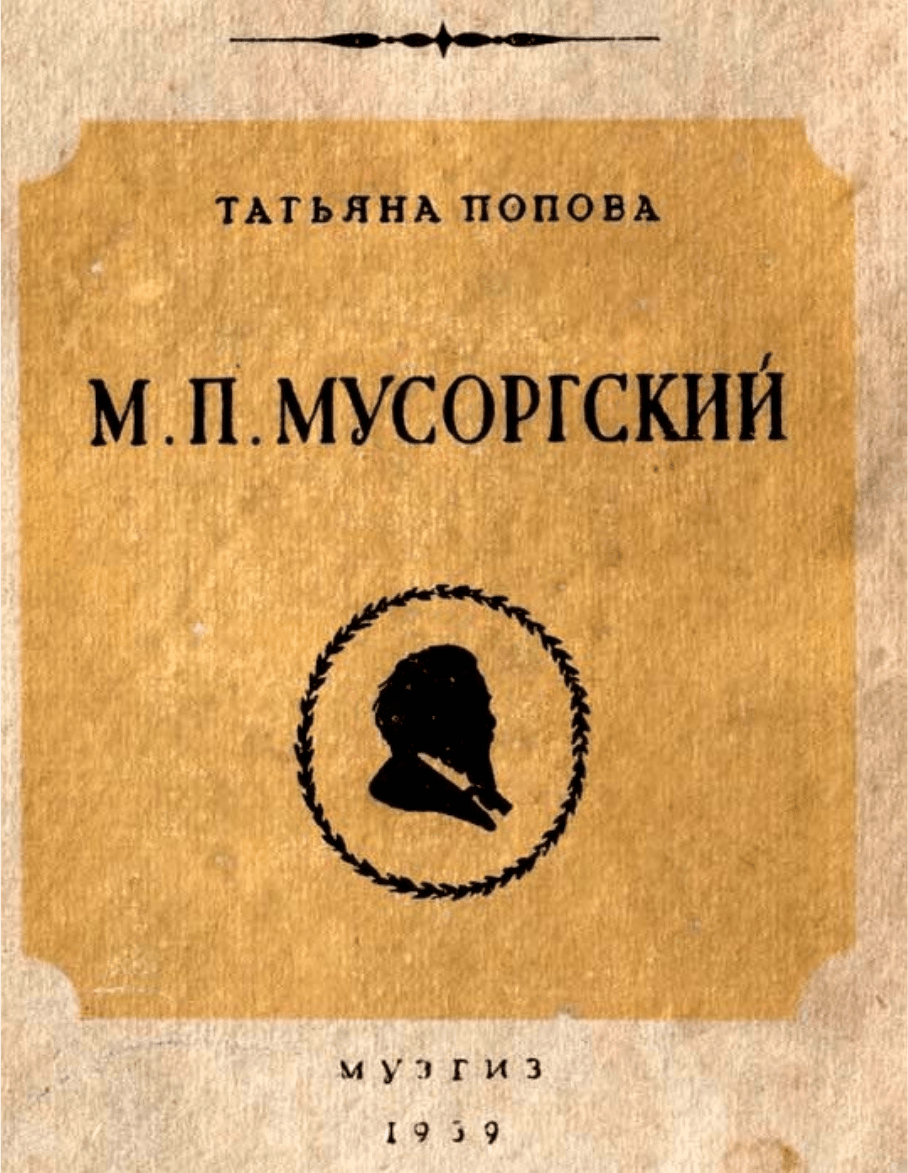
УСАДЬБА
Озерный край — один из древнейших исторических центров русской земли.
Здесь народились первые стойкие формы государственности, от которых вело
свое летоисчисление Государство Российское, выросшее к XIX веку в обширную
империю. Отсюда впервые по озерам и рекам края пошло торговое движение из
«варяг в греки», здесь встали города, с таким большим историческим прошлым,
как «Господин Великий Новгород» и Псков. Край низок, холмист, весь перерезан
озерами, реками и болотами. Его пейзаж зарисован Пушкиным так:
...Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали раскинутые хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...
(«Деревня»)
Но здесь не только озера, холмы и нивы. Здесь много леса. В первой половине
прошлого века он вековечной стражей окружает озера.
Крепостное право давно разделило удобную землю Псковской губернии между
помещиками. Так было впрочем везде, где «рабство тощее влачилось по браздам»,
— по всей России. Примерно одинаков был везде и помещичий быт сороковых
годов XIX века. Многочисленная дворня — пять-шесть человек на одного
«барина» для его личного обслуживания — да десятки, сотни и тысячи
земледельцев, поддерживавших господское благополучие. Быт, колебавшийся
между обломовским и ноздревским, между сонной, сытой одурью и кутежами,
картами, развратом.
Редкими гнездами вкраплены усадьбы, где хозяева культурны, побывали на
чужбине, усвоили повадки Запада. Большинство же помещиков жило
своекорыстной, бездельной и бездумной жизнью — собирали оброк, изредка
пороли на конюшне проштрафившегося раба, пили перед обедом по рюмке
настойки, ездили потанцовать к соседям, играли на фортепьянах, говорили на
французско-псковском диалекте и писали сентиментальные стихи.
На таком среднем уровне жила семья псковского помещика Петра Алексеевича
Мусорского. (Лишь позже в фамилию была введена буква «г»). Фамилия эта в
произношении самого композитора имела ударение на букве «у». Кроме всяких
других угодий, Петру Алексеевичу принадлежало село Карево, Торопецкого
уезда, имение, в котором он жил постоянно. Там-то у его жены Юлии Ивановны 9
марта 1839 года родился младший сын, Модест, в будущем знаменитый
композитор.
За три года до этого у Мусоргских появился старший сын Филарет-Евгений.
Происхождение этого двойного имени Каратыгин объясняет так: «Первое имя —
настоящее, данное при крещении, вторым, позднее придуманным именем,
называли данное лицо на практике чаще, чем настоящим. Этот странный обычай
пользоваться вновь сочиненным именем вместо настоящего стоит в связи с
распространенным в некоторых местностях России наивным суеверием.
Предполагается, что двумя именами можно «обмануть смерть». Придет она,
например, по душу Филарета, (официальные имена почитаются ей в точности
известными); ан оказывается нет Филарета, а вместо него Евгений. Смерть,
будучи в своей сфере добросовестной законницей, отступится от Евгения, как не
находящегося в очередном списке подлежащих к отправлению на тот свет. Пока в
небесной и подземной канцелярии разъяснится недоразумение, — будет выиграно
время. Таким образом фиктивное имя способствует долголетию. К Филарету
Мусоргскому этот обычай был применен тем определеннее, что оба старших брата
Мусоргские (Алексеи) не имели фиктивных имен, и оба умерли в раннем детстве.
В этом обстоятельстве усмотрели причинную связь и предостережение судьбы
касательно будущих детей.
Хотя младшему сыну Модесту и не дали второго имени, однако этот эпизод с
Филаретом дает нам понятие об уровне воззрений родителей. В нем
раскрываются черты, воспитанные не религией даже, а наивными и нелепыми
суевериями.
Трудно было бы поэтому рассчитывать найти в Петре Алексеевиче передового
помещика, хранящего заветы декабристов, или скептика-вольтерьянца,
зарывшегося в свою библиотеку, или восторженного последователя модного в
начале XIX века экономического учения Адама Смита — ничего подобного нельзя
предполагать в Мусоргском. По дошедшим до нас отрывочным сведениям
рисуется другой облик.
Это был прежде всего русский барин, любивший широко и хлебосольно пожить,
кутнуть при случае и пустить пыль в глаза мелкопоместным соседям. Для всего
этого он был достаточно состоятелен и родовит. Себя он числил представителем
XXXI поколения от Рюрика. Как в большинстве дворянских семей, очевидно, и у
Мусоргских помнили свою родословную и гордились ею. Помнили, что в далеком
прошлом предки их носили титул князей Смоленских. Правда, боковая ветвь, от
которой пошли Мусоргские, обедняв, утратила княжеское достоинство, но тем не
менее в «бархатной» книге еще в XV веке указан Роман Васильевич Монастырев
по прозвищу Мусорга, положивший начало фамилии. Хилые дворяне Мусоргские
постепенно богатели царскими милостями. То один, то другой из них жаловались
поместьями за удачи в военном деле. Как все дворянство, служили они
преимущественно в войсках, редкие, судя по родословной записи, проводили свою
жизнь на штатской службе или просто хозяйничали в своих поместьях.
Дед и отец Петра Алексеевича, продолжая родовую традицию, служили в
гвардии, но его личная судьба не походила на судьбы предков. Надеть
вожделенный гвардейский мундир помешало то обстоятельство, что был он
прижит вне брака и только впоследствии, уже взрослым, узаконен. Для
незаконного сына помещика и крепостной, была доступна одна карьера —
чиновничья. И он, подчиняясь неизбежности прослужил восемь лет в сенате
(совсем не служить было невозможно — чином определялось достоинство
человека).
В тридцатых годах, после смерти отца, он получил свою долю наследства, стал
состоятельным помещиком и вскоре женился на одной из молодых соседок —
Юлии Ивановне Чириковой.
Дочь помещика средней руки и губернского секретаря Юлия Ивановна ничем
не отличалась от тысячи таких же провинциальных барышен ее эпохи.
Характеристика помещицы Лариной как нельзя более подходит к ним всем
вообще и к Юлии Ивановне Мусоргской в частности. В девичестве все они
увлекались сентиментальной литературой в стиле Ричардсона, а выходя замуж
за соседних помещиков долго еще вздыхали о тех, кто больше походил на
романтических книжных героев. Так и Юлия Ивановна, выходя замуж за
Мусоргского, вслед за всеми «...вздыхала о другом, который сердцем и умом ей
нравился гораздо боле — сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии
сержант». Образ этого «Грандисона» она запечатлела в стихах:
... Хорош и статен был
Гвардеец молодой,
У всех красавцем был,
Наездник был лихой.
Глаза его не раз
С ума сводили дам,
А черный ус его
Так шел к его глазам.
И я тогда была,
Резва и молода
Как он, и я могла
Сводить мущин с ума.
Мы встретились, сошлись,
Влюбились и на-смех
Любовь у нас была
Началом всех утех .. и т. д.
Роман этот так ничем и не кончился. Время шло, Юлия Ивановна привыкла к
мужу и к новой своей жизни, рожала детей и «обновила, наконец, на вате
шлафрок и чепец». С одним только не могла она примириться: с тем, что муж ее
штатский, сенатский чиновник в прошлом, вышедший в отставку в чине
коллежского секретаря. У нее в роду, как и в роду Мусоргских, были военные, а в
боковых линиях даже такие знаменитые, как Кутузов-Смоленский, герой 1812
года. Родной брат ее был офицер, и все мечты провинциальной барыни не шли
дальше лихого гвардейца в блестящем мундире. Впрочем, Юлия Ивановна не
была исключением: гвардейцы задавали тон в Петербурге. Москва таяла от
восторженных симпатий «к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, к гвардионцам».
Могла ли отставать провинция? И удивительно ли, что обоих своих сыновей
Мусоргские предназначали в гвардию?
С первых дней детства маленький Модест попал на попечение няньки.
Очевидно это была одна из тех преданных и любящих женщин, которые
выхаживали многих великих людей. Как пушкинская Арина Родионовна, как
герценовская Вера Артамоновна, так и эта нянька, имя которой до нас не дошло,
нисколько не подозревая своей роли, не только заботилась о телесном
благополучии своего питомца, но и первая знакомила его с народным
творчеством. Об этом сам Модест Петрович впоследствии писал: «Под
непосредственным влиянием няни, близко ознакомился с русскими сказками. Это
ознакомление с духом народной жизни было главным импульсом музыкальных
импровизаций до начала ознакомления еще с самыми элементарными
правилами игры на фортепиано». В детстве сказки воспринимаются
необыкновенно остро, и не раз, после особенно увлекательных, маленький Модест
проводил бессонные ночи.
Впечатления детства, связанные с няней, не прошли бесследно для
Мусоргского. Навсегда он сохранил эти воспоминания, воплотив их позже в
замечательные музыкальные пьесы: «Дитя с няней», «В углу: «С куклой», «Кот
Матрос», «На сон грядущий», «Жук» и др.

М.П. Мусоргский в форме офицера Преображенского полка. 1856 — 1857 годы
Но не только через сказки няни знакомился он с народной жизнью. Какими бы
рогатками ни обставлялась жизнь баричей, однако дети оставались детьми, им
нужны были сверстники и игры. Не следует забывать, что бабушка Модеста
была крепостная девушка, вышедшая замуж за помещика, поэтому возможно, что
среди каревской дворни были и дяди, двоюродные братья мальчиков Мусоргских.
Во всяком случае с детьми крепостных обоим мальчикам мешали общаться.
Благодаря этому кроме обстановки барского дома в кругозор ребенка попадал
быт дворовых и крестьян села Карево.
Как в пейзаже Псковской губернии много своеобразного, так много его было и в
языке и в обычаях жителей. Говор Псковской губернии, в частности Торопецкого
уезда, довольно близок к белорусскому, в верованиях крестьянства долго
сохранялись остатки язычества. Леший — непременный и обязательный житель
псковских лесов, водяной — озер. В песнях, игpax, заговорах, гаданьях
сохранилось множество языческих обрядов и это придавало им свой колорит,
необыкновенный и запоминающийся. Занятия каревских крестьян не
ограничивались одним земледелием, село стояло на берегу озера Жижица —
значит было рыболовство. Угольному и бондарному промыслам способствовали
окрестные леса.

М. П. Мусоргский (справа в штатском) и брат его Ф. П. Мусоргский.
С фотографии конца 50-х годов (Гос. публичная библиотека)
Что же наблюдал с первых своих сознательных лет внимательный ребенок?
Барский дом с его укладом жизни, дворовых, крестьян, их труд, их борьбу за
землю, за урожай. Наряду с этим впитывал жизнь деревенской улицы, красоты
народных песен, меткость поговорок, отголоски местных преданий, веселое
остроумие шуток, главное же — угнетение, нищету, подневольные, но гораздо
более искренние горе и радость, чем в родном доме. В этих первых впечатлениях
приходится искать корни дальнейшего творческого пути Мусоргского. «В
отроческих и юношеских своих годах, а потом и в зрелом возрасте брат Модест, —
пишет Филарет Петрович, — всегда относился ко всему народному и
крестьянскому с особенной любовью, и считал русского мужика настоящим
человеком». Но это сознательное отношение пришло в более позднем возрасте,
пока же мальчик мог только любить своих приятелей, бессознательно впитывать
впечатления, не владея еще возможностью воспроизводить их музыкально, и
интересуясь, по молодости лет, больше играми и сказками, чем серьезными
вопросами.
Музыкой Модест начал заниматься очень рано, лет с пяти-шести. Во всяком
случае к семи годам, судя по автобиографической записке, он уже играл на
фортепиано небольшие сочинения Листа, а в девятилетнем возрасте сыграл в
доме родителей, при многочисленных слушателях, большой концерт Фильда.
Можно представить себе нарядного мальчика, только что вставшего от
фортепиано, в кругу восторженной провинциальной публики. Он центр всеобщего
внимания, пример маленьким соседским лентяям и лентяйкам — Моденька
Мусоргский. Его родителей поздравляют, предсказывают мальчику блестящую
карьеру. Но отнюдь не музыкальную,— на это родители обиделись бы. Он
сделает карьеру не тем, что умеет играть, а тем, что умеет быть приятным. В
свете это большое качество.
Первой его учительницей была мать, которая для провинции была хорошо
воспитана, говорила по-французски и играла на фортепиано. Все свои знания
мать передала детям, у нее Модест выучился хорошему французскому языку.
Влияние матери на воспитание детей было очень значительно и Мусоргский не
раз вспоминал о нем с благодарностью, но, очевидно, музыкальные задатки
ребенка быстро переросли знания матери, так как пришлось взять специальную
преподавательницу музыки — немку. Способности мальчика заставляли
призадумываться и отца «обожавшего музыку», но никогда в семье не ставился
вопрос так: гвардеец или профессиональный музыкант? Гвардия была идеалом,
а музыка — приятным приложением к нему. Стремясь к достижению этого
идеала, отец поторопился увезти десятилетнего Модеста и тринадцатилетнего
Филарета в Петербург. Прямо с воли, из деревни, от лесов и озер, от друзей и
сверстников мальчик попал в холодный, каменный город. Был август 1849 года,
позднее северное лето в Кареве со всеми его удовольствиями и свободой еще не
кончилось, а в Петербурге предстояло учение и жизнь среди чужих.
ПЕРВЫЙ МУНДИР
Для военного училища Модест был слишком мал. В петербургскую школу
гвардейских подпрапорщиков, куда хотел отец отдать мальчиков, принимали не
моложе тринадцати лет. Мальчик поступил в немецкое Петропавловское
училище (Petersschule). Школа эта была поставлена с чисто немецкой строгостью
и программа ее имела мало общего с программами русских школ той эпохи.
Преподаватели сумели заронить в ребенка зерно серьезных интересов. Оттуда он
вынес, несмотря на юный возраст и короткое пребывание в ней, кое-какие
сведения о немецкой философии и заинтересованность ею, хороший немецкий
язык и латынь.
Одновременно с поступлением в школу начались и серьезные занятия
музыкой. Отец пригласил для этого известного в то время преподавателя Антона
Августовича Герке (1812—1870).
Музыкальное образование в России до основания специальных учебных
заведений (консерваторий и школ) осуществлялось силами частных
преподавателей, большей частью иностранцев. Так учился Глинка,
Даргомыжский и другие русские композиторы. Педагоги являлись своего рода
музыкальными культуртрегерами, законодателями вкусов, приобщавшими своих
учеников, а через это и все русское общество, главным образом, к искусству
Запада. Герке был одним из виднейших представителей музыкальной
педагогики в России пятидесятых годов. Будучи неплохим пианистом, он сразу
оценил блестящие данные ученика и стал делать все для их развития.
В двенадцать лет Мусоргский был настолько технически подвинут, что даже
строгий и требовательный преподаватель разрешил ему публичное выступление.
У одной из петербургских светских львиц, у статс-дамы Рюминой, устраивался с
благотворительной целью концерт. Рюмина была старая знакомая семьи
Мусоргских, поэтому естественно, что она могла, прослышав о талантах сына
своих друзей, пригласить его в узкий семейный — свой круг. То же, что его
пригласили на концерт, говорит о впечатлении, какое производил его юный
талант. Маленький Модест на этом втором публичном своем выступлении играл
концертное рондо Герца, — пьесу, имеющую популярно-виртуозный характер.
Успех был огромен.
Растрогавшийся Герке подарил своему ученику сонату Бетховена. Как ни
странно, но эта соната, очевидно, не привлекла особенного внимания Мусоргского,
