Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого
Подождите немного. Документ загружается.

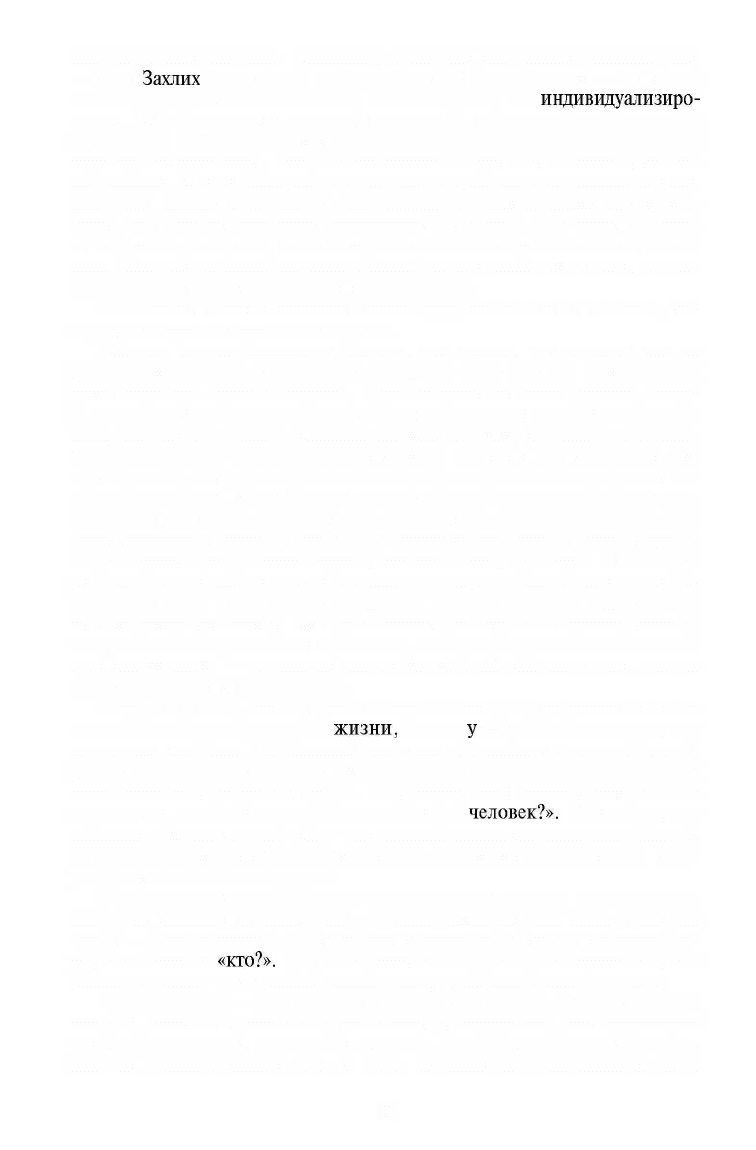
нам встречные вопросы. Поскольку этим они неприятно удивляют нас,
— фрау
Захлих
может даже возбудить иск об оскорблении! — то к ним
нельзя подходить ни объективно, ни обобщенно, ни
индивидуализиро-
ванно. По отношению к каждому партнеру по разговору мы меняем свой
тон и тему. Мы никогда не являемся элементом сферы мировоззрения
партнера по разговору, вещами его системы мира или объектами его ис-
следования. Мы не являемся предметами его мышления, поскольку мы,
напротив, делаем себя чем-то, тем сильнее противостоящим ему во вре-
мени, чем больше духовного настоящего мы имеем. Ибо тогда мы зада-
ем встречные вопросы, из-за которых его мышление может стать смеш-
ным. Каждый читатель социологической книги свободен от того, что на-
писано в этой книге о человеке «как таковом».
Мышление имеет в качестве своего предмета только те объекты, ко-
торые не задают встречных вопросов.
Ибо тот, кто спрашивает о «нечто», уже решил, что не хочет или не
должен спрашивать о ком-либо. Каждый «кто» мог бы ответить или
даже возразить против вопроса. Один человек не знает другого, поку-
да этот другой — этот некто — в своем обращении к нему не даст по-
нять, кем он его считает. Степень остроты его ума, его юмор, его чело-
вечность впервые познаются нами из того, как он к нам обратился. Та-
ким образом, мы узнаем, какова его сущность, только посредством его
обращения к нам. Когда палачи пытают обвиняемых в совершении пре-
ступления, то редко случается, что они узнают, с кем имеют дело. Ибо
страх сдавливает жертвам горло. Но каждому известны и такие случаи,
когда жертва преодолевает страх и ставит палача на место. И благода-
ря этому почти всегда что-то происходит: полицейский или судья ра-
зоблачают себя. Так мнимый свидетель Герман Геринг в ходе процес-
са о поджоге рейхстага был разоблачен Димитровым просто потому,
что у этого болгарина было мужество, которого недоставало большин-
ству свидетелей, — мужество задать встречный вопрос о том, где же
герр Геринг был в ночь пожара.
Итак, социолог, вообще кто-то спрашивающий, допускает наличие
полной жизни, равноправной
жизни,
только
у
тех, кто может задать ему
встречные вопросы. По большей части это его коллеги и его кредиторы.
Другие люди должны ответить на его анкету. Тем самым спрашивающий
возвышает себя до уровня судьи. Ибо вверху этой анкеты невидимыми
чернилами, конечно же, написано: «Что есть
человек?».
Ибо теперь ему
вынесен приговор судьи: «Он — не полный жизни современник, которо-
го социолог считает равноправным себе, а человек второго сорта, кото-
рого социолог объективирует».
Тем самым это «что?» провозглашается менее живым, чем сам соци-
олог. Для каждого из моих «что?» я разыгрываю из себя Бога, и все эти
«что?» — мои предметы. Но я должен обратиться на себя и предстать пе-
ред множеством
«кто?».
Они находятся со мной в одном времени и так
близко от меня, что в любой момент могут разбросать мои игрушки.
"Что?» и «кто?» — это вопросы о жизни или смерти. Об этом знал бы
каждый, если бы в школьных учебниках не говорилось, что существуют
три рода — мужской, женский и средний. Если бы «что?» также было ро-
дом, то пропасть между «кто» и «что» не была бы столь важной. Но в
80
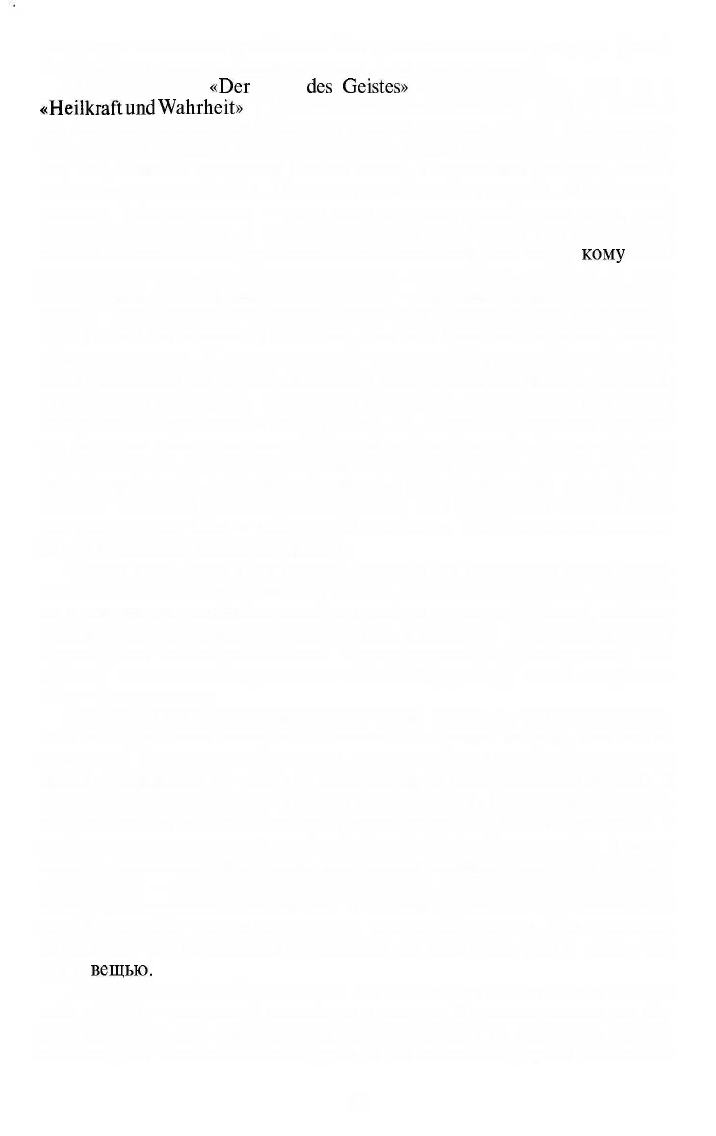
пику всем школьным учебникам Бог дал жизни только два рода (пола).
Средний род является более мертвым, чем полная жизнь.
В моих книгах
«Der
Atem
des
Geistes»
("Дыхание духа», 1951 г.) и
«Heilkraftund
Wahrheit»
("Целительная сила и истина», 1952 г.) показа-
но, как все грамматики ориентируются на степени жизни. Мы говорим
так, чтобы в каждый момент различить между собой три степени жиз-
ни. Тех, в ком я нуждаюсь больше всего, я призываю для того, чтобы
они повернулись ко мне. Они стоят в звательном падеже. «Отче наш»,
«месье», «мадемуазель» — их я зову и прошу указать мне путь, дать
огня, услышать меня. Я пытаюсь добиться того, чтобы они обернулись
ко мне. Звательный падеж отчетливо показывает, что тот, к
кому
я об-
ращаюсь с речью, может стать для меня, говорящего, судьбой. Я нуж-
даюсь в нем. Всякий звательный падеж — это попытка вынудить повер-
нуться. Напротив, уже представленные мне люди находятся со мной на
одной и той же высоте. Я не боюсь, что они будут что-то делать, отвер-
нувшись от меня. Я не сомневаюсь, что они хотят слушать меня. Этих
моих товарищей не нужно заставлять поворачиваться вместе со мной.
Мы слушаем друг друга. Мы нужны друг другу. Их жизнь и моя жизнь
исторически переплетены между собой. И, в-третьих, имеются предме-
ты, которые находятся вместе со мной в пространстве. Но они не слу-
шают моих слов. Я не жду, что они повернутся ко мне. Я знаю, что они
не понимают того, что я о них говорю. Поскольку они не поворачива-
ются ко мне и не должны разговаривать, они нуждаются во мне боль-
ше, чем я в них. Они — заменимые предметы. Если их еще не замени-
ли, то я пытаюсь найти им замену.
Всякая речь, даже в тех языках, которые не наносят на слова насеч-
ки так называемых «родов» — мужского, женского и среднего, — долж-
на в каждом предложении различать эти три ступени будущего, нынеш-
него и заменимого в пространстве. Тот, к примеру, кто писал о закате
Европы, тем самым уже объявил Европу угасшей, т.е. заменимой. На-
против, незаменимое принадлежит также будущему, а мой современ-
ник — настоящему.
Поскольку все заменимое является более мертвым, чем те незамени-
мые силы, действие которых мы хотели бы обратить на себя, или чем те
товарищи, с которыми мы живем, то средний род «что?» должен оста-
ваться отделенным от «кто?» и моих богов, и моих любимых друзей. В
противном случае мертвые и живые смешиваются. Наши призывы стра-
стно желаемого или вызывающего страх грядущего, наши обращения к
любимым современникам, наше обсуждение всего преходящего и заме-
нимого постоянно чередуются. Постоянно сообщать всему эти три сте-
пени жизни — таково наше предназначение. Но из этого вытекает один
вывод: мы перестаем бояться того и любить то, что мы объявляем чем-
то нейтральным, чем-то заменимым, неким материалом. Мы доказыва-
ем это тем, что объективно обращаемся со всем этим, как с «оно», т.е.
как с
вещью.
Благодаря этой нейтрализации мы помещаем менее живое позади
себя. «Что?» — это всегда извещение о смерти. В древних языках это вы-
ражал тот факт, что средний род существительного не мог иметь ни зва-
тельного, ни именительного падежа, и его основной формой был вини-
81
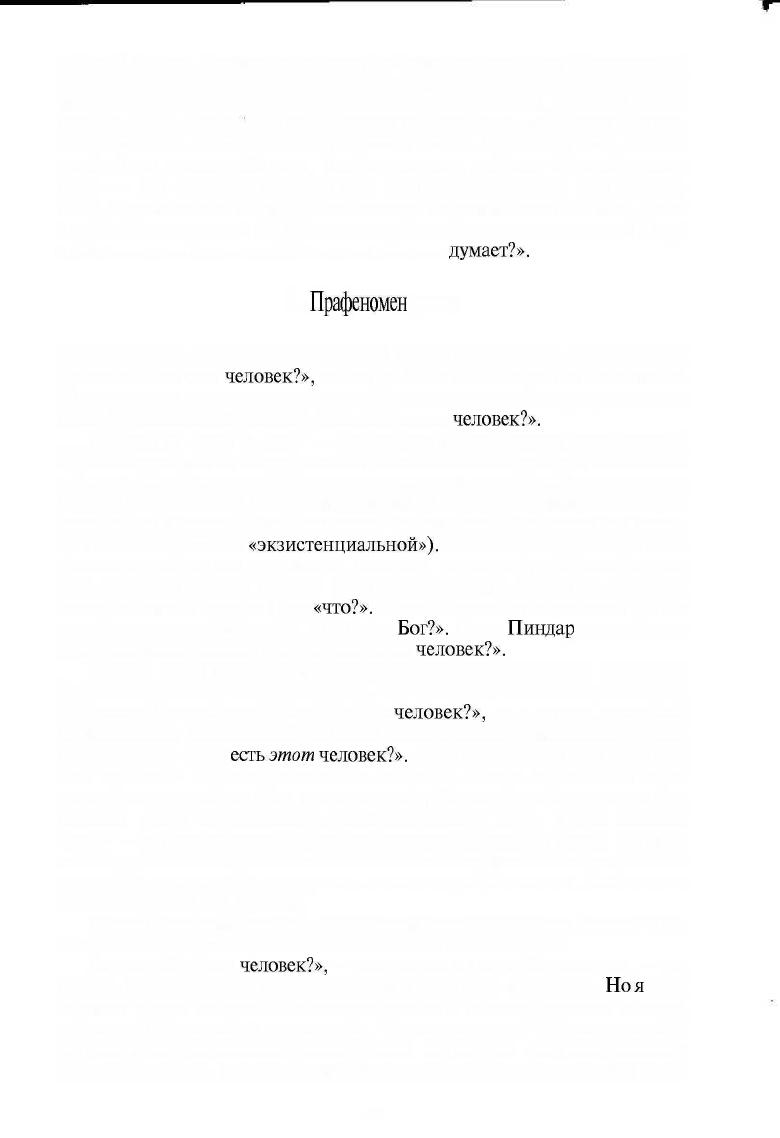
тельный падеж, поскольку человек не опасался того, что обозначаемая
такими существительными действительность захочет нас выслушать или
даже как-то отнестись к нам и высказать свое мнение. Именно этими
вечными винительными падежами мы пользовались и именно ими ма-
нипулировали. Мое мышление играет с ними. Я думаю о них, но они
никогда не думают обо мне. Как мы видели, вопрос: «Что есть чело-
век?» — это «игрушечный» вопрос. Ибо в нем «человек» стал замени-
мым. Я размышляю о нем. Но он никогда не размышляет обо мне. Лишь
в противном случае он был бы незаменимым для моего мышления! Тогда
я бы испытывал трепет: «Что он там обо мне
думает?».
2.
Прфномен
ранга
Если социолог, прочитавший первый раздел этой статьи, пришел бы и
написал: «Кто есть
человек?»,
то это не было бы выходом из положения.
Жизнь духа не столь механистична. Язык позволяет нам сразу же задать
более определенный вопрос: «Кто есть этот
человек?».
Переход от «что» к «кто» — это просто замена одного слова другим!
Мы не переходим от оперирования объектами в лаборатории мышления
к беседе между задающими друг другу вопросы партнерами просто пото-
му, что мы заменяем одно слово другим. Скорее, мы сами должны для
этого войти в некую иную ситуацию (на жаргоне мышления эта ситуа-
ция ныне называется
«экзистенциальной»).
Такой переход от игры к се-
рьезности требует сил и времени. Поэтому, вероятно, у профессора, док-
тора Мартина Лютера вопрос: «Что есть человек?» совсем не случайно
соскальзывает в средний род
«что?».
Разве Платон не спрашивал : «Что
есть божественное?» вместо: «Кто есть
Бог?».
Даже
Пиндар
воскликнул:
«Что есть один человек, что не есть один
человек?».
Вопрос: «Кто есть человек?» слишком неопределенный. Он всегда
будет смещаться то в одну сторону, превращаясь во всеобщий вопрос,
задаваемый из любопытства: «Что есть
человек?»,
то в другую, становясь
определенной, необходимой для моей политической ориентации формой
предложения: «Кто
еаъэтот
человек?».
«Что есть человек?» и «Кто есть
этот человек?» — самодостаточные вопросы. Всегда может быть задан
первый или второй из них, и можно сразу, без каких-либо оговорок при
помощи «что?» спрашивать о всеобщей вещи в мире, а при помощи
«кто?» — об определенном человеке, живущем рядом со мной. Но зада-
вать вопрос: «Кто есть человек?» нельзя без оговорок. И запрет, заклю-
ченный в этом «не без оговорок», является прафеноменом, оказавшим-
ся неизвестным для ученых.
Познав этот прафеномен, мы сможем сразу освободить знание о че-
ловеке от его порабощения естествознанием и понятиями.
Вопрос: «Кто есть
человек?»,
— как только он задан без оговорок, — это
вопрос, обреченный на соскальзывание к «что» или «который».
Ноя
могу
задавать общие вопросы без оговорок только в области мертвого и отсут-
ствующего! Это странно, но истинно. Что есть минерал? Что есть предмет?
Об этом я могу спрашивать всегда и везде. Но вопрос: «Кто есть человек?»
я могу задать вам, себе или своим коллегам лишь после того, как я пред-
82
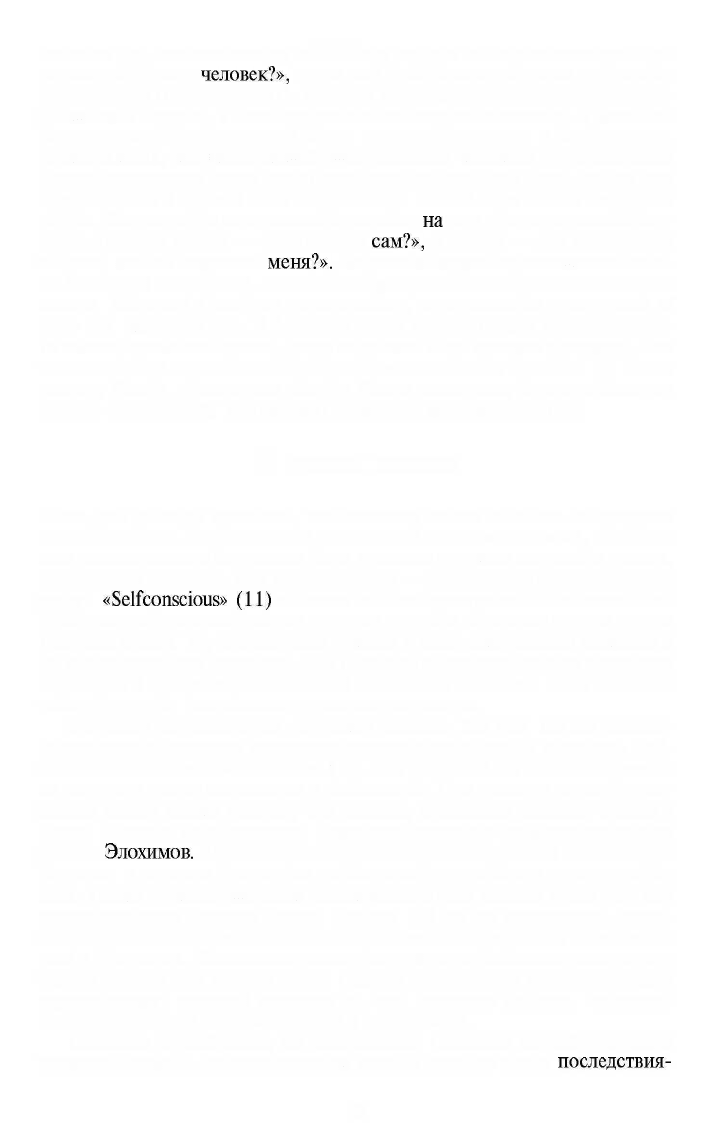
ставился им, вам или самому себе! Когда студент во втором семестре спра-
шивает: «Кто есть
человек?»,
то на свет Божий выходит разве что злосча-
стный Артур Шопенгауэр (7), который вынужден был утолять свою жаж-
ду любви в борделе, а свое представление сводить в систему. У него лю-
бовь превратилась в простую волю, а представление — в воображение.
Среди живых, здоровых людей представление человека в третьем лице
может возникнуть лишь после того, как, по крайней мере, два из них
представлены в первом и во втором лице. Это не игра слов и не дурная
шутка. Вопрос: «Кто есть человек?» основан
на
двух предварительных воп-
росах. Первый из них — «Кто есть ты
сам?»,
а второй — «Не скажешь ли
ты мне, кем ты считаешь
меня?».
Человек обладает самосознанием толь-
ко благодаря тому факту, что кто-то обращается или обратился к нему по
имени. Без этого в нем нет ничего своего, и он является просто «one of
ours» (8), одним из нас. В Англии у члена палаты общин нет собственно-
го имени, кроме тех случаев, когда он должен быть призван к порядку. Как
только спикер парламента обращается к «member for Ipswich» (9) как к
мистеру Смиту, с членством мистера Смита покончено, и теперь опозорен
«Смит» как таковой. Тем самым он впервые осознает себя (10).
3.0 духовном настоящем
Итак, мы должны признать, что осознать самих себя нас вынуждают
наши ближние. Ни у какого из мыслителей нет самосознания, и в каче-
стве неспециалиста он должен быть признан другими людьми и узнать,
кем они его считают. Кто мы такие есть — это мы должны сказать друг
другу-
«Selfconscious»
(11)
является только пристрастный человек. Бес-
пристрастный человек говорит о других людях и позволяет другим людям
говорить о себе. То, что мы сами думаем о себе, совершенно неважно и
не имеет никакого значения. Мы обладаем сознанием только в качестве
партнеров в процессе установления взаимного согласия. Если мы заме-
чаем друг друга, нас омывает духовное настоящее.
Это знает здоровая душа, это знает Библия. Вот уже 150 лет высоко-
поставленные критики прилагают усилия к тому, чтобы разделить Биб-
лию на «Яхвиста» и «Элохиста» (12). Вот уже 3500 лет Библия стремит-
ся защитить нас от социологов и психологов. При помощи пары предло-
жений Книга Бытия говорит, что человек, отдельный человек, только в
беседе обретает самосознание, благодаря которому он возвышается до
уровня
Элохимов.
Однако при каждой беседе собеседников осеняет еди-
ное имя, в котором говорящие только и могут пребывать в умиротворе-
нии. Таким образом, творение человеческого рода состоит в том, что ему
поручается вести мирную беседу. Вот уже 150 лет эта констатация, содер-
жащаяся в пятой главе Книги Бытия, остается за пределами повествова-
ния о Творении. Высокопоставленные критики позволяют нам читать
только первую или вторую главу. Однако, хотя мне не поверит ни один
студент-теолог, истиной является то, что, согласно Библии, «человек»
был окончательно сотворен только в пятой главе.
Согласно первой главе, он стал живым. Согласно второй, третьей и
четвертой главам, он разделился на полы и роды со всеми
последствия-
83
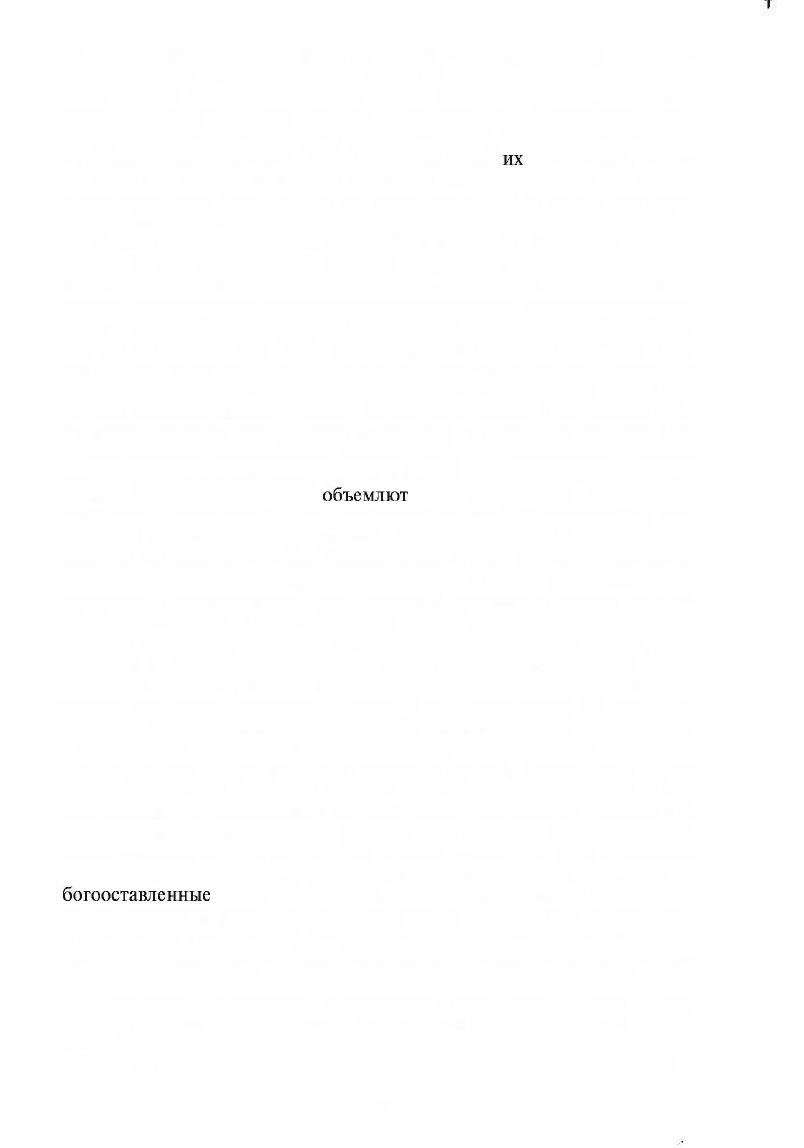
ми существования любви и пола. Но теперь — как и во всякой изначаль-
ной, исходящей из самых истоков речи (13) — рассказчик начинает все
снова в третий раз. Да, конечно, во втором стихе пятой главы Книги Бы-
тия Бог сотворил человека, конечно, он сотворил его, и мужчину и жен-
щину, но он сделал еще кое-что дополнительное, и лишь благодаря это-
му человек стал человеком. Ибо Адам, Ева и все
их
дети узнали, в-тре-
тьих, что они все вместе должны слушаться одного и того же имени и все
вместе призывать Бога, называя его истинное имя. Они узнали друг друга
в имени «человек».
Почему это считается не правдой, а легендой? Женщину познает
не тот, кто ее изнасиловал, а только тот, кому она отвечает любовью
и кто откликается на названное ею имя. Сватовство и называние по
имени, представление и назначение на должность, — иными словами,
мир, — даруются лишь тем, кто узнает себя в одном и том же имени.
Это так же верно, как и то, что дважды два равняется четырем. Вся-
кая любовь ведет от жизни к познанию чего-то на опыте, поскольку
любовь должна называть по имени. А называние по имени — это об-
ретение жизнью некоего голоса. Вечно почитаемые и изучаемые гре-
ки могут отрывать друг от друга мышление и бытие, но любящий не
сделает такой глупости вместе с ними. Тот, кто оглашает содержание
своего ощущения, сам вмешивается в бытие. Называние по имени оз-
начает, что живые существа
объемлют
мир. Мои мысли, становящи-
еся словом, окутывают собою мою возлюбленную. Следовательно, они
являются жизненными процессами. Обретение знания в процессе на-
зывания по имени содержит больше жизни, чем наука. В познании
жизнь усиливается посредством установления связи. Ибо тогда жизнь
сгущается и превращается в дух, который признает и создает челове-
ческие сообщества. Только любящий человек знает то, чего не ведает
никакая наука: ему известно, кто возносит его до уровня жизни, дает
сознание и посыпает ему смерть. Таким образом, для любящего чело-
века «кто» (невеста) и «что» (происхождение) отличаются друг от друга
так же, как жизнь и смерть. Жизнь без любви не имела бы и логоса,
не имела бы и грамматики звательного, именительного, винительно-
го падежей, т.е. степеней божественного, человеческого, вещного.
Только любовь побуждает нас говорить и думать, поскольку в обоих
этих действиях мы отторгаем мертвое и соединяемся с живыми. Сила
именования, призываемая в первой главе евангелия от Иоанна и в
пятой главе Книги Бытия, — это одна и та же сила. Эта сила имено-
вания — как и следует переводить «логос» — каждый день заново от-
деляет друг от друга царство будущей жизни, созданной любовью, и
богооставленные
поля, на которых разлагаются трупы. Первый акт,
последний акт и кульминация всякой речи, несмотря на все словари
и пособия по грамматике, всегда будут одним и тем же: защитой жи-
вого от мертвого посредством именования, основанного на противо-
поставлении.
Нашу жизнь Бог сотворил в соответствии с первой главой Книги Бытия;
нашу любовь Бог сотворил в соответствии со второй главой Книги
Бытия;
наш дух Бог сотворил в соответствии с пятой главой Книги Бытия.
84
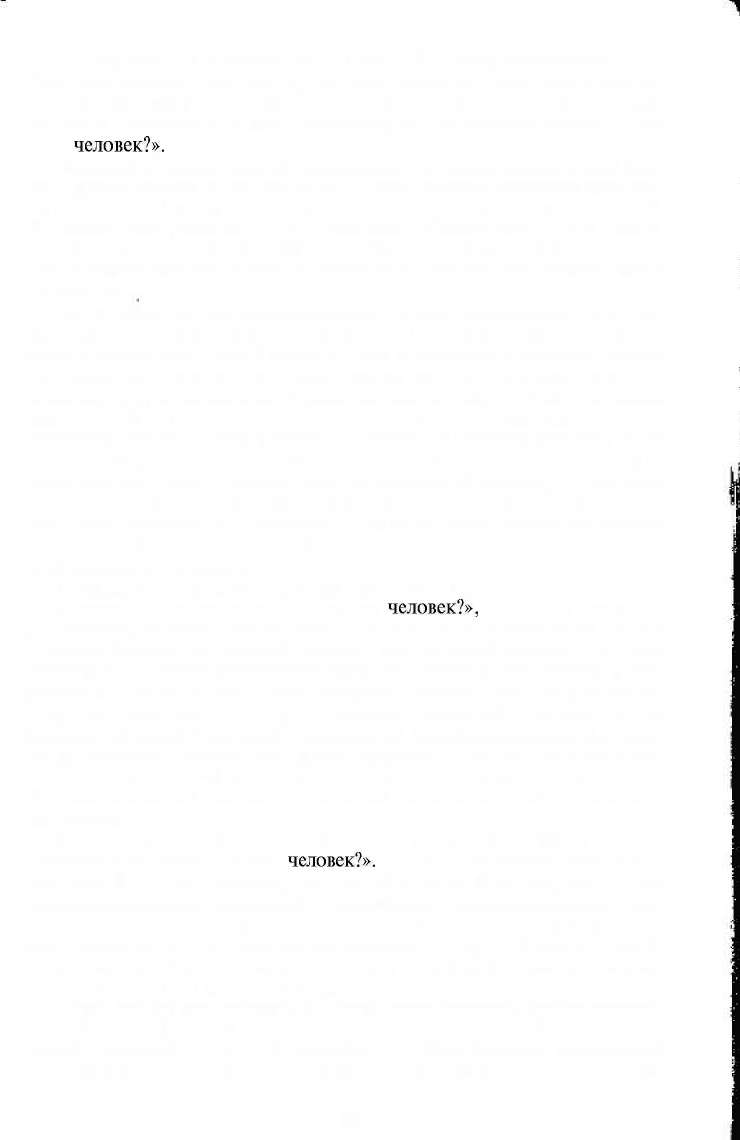
Но это единый и тот же самый акт. Ибо люди существуют лишь
благодаря совместному имени, используемому во взаимном именова-
нии. Поскольку я могу говорить только в союзе партнеров по беседе,
то мне в одиночку или вам в одиночку нельзя задавать вопрос: «Что
есть
человек?».
Никакой отдельно взятый «мыслитель» не может задавать этот воп-
рос, исходя только из самого себя. Прежде должны признать друг дру-
га, по меньшей мере, два человека, которые и будут задавать вопросы.
Я должен был умолять другого человека: «Скажи мне, кто я такой,
скажи мне, кем ты меня считаешь». Этот человек должен был ответить
мне и также умолять меня: «Теперь и ты скажи мне, кем ты меня
считаешь».
Люди, испорченные школьным воспитанием, не замечают этого фак-
та. Ведь этому не учат в школе. Как же это может быть истинным? Но
один и тот же школьник Генрих Шмидт обращается к учителю «госпо-
дин учитель» и, тем самым, прямо говорит ему, что он о нем думает, по
крайней мере, официально. Школьник говорит «Карл» и «Курт» своим
одноклассникам, «привратник» — привратнику, «господин директор» —
директору, «папа» — отцу и «мама» — матери. И неужели при этом он не
высказывает, что он о них думает? Именно это он и стремится делать! В
свою очередь, они отвечают ему, произнося «Генрих», «учащийся
Шмидт», и так он скоро узнает, из каких элементов он состоит в их гла-
зах. Итак, наши различные имена — это навязываемые нам представле-
ния общества о нас самих, и мы, наоборот, стремимся принудить обще-
ство изменить эти имена.
Очевидно, человек, рассудок, мыслитель или мышление оказались бы
не в состоянии задать вопрос: «Кто есть
человек?»,
если бы к этому оп-
ределенному человеку уже не были многократно обращены слова, из ко-
торых он узнавал бы, кем его считают. Так что место вопроса: «Что есть
человек?» — в конце жизненного пути, по меньшей мере, двоих, а ско-
рее всего — тысяч собеседников, которые высказали друг другу свое мне-
ние, представились друг другу и позволили отвести им определенное по-
ложение. В связи с вопросом о человеке не может быть никакого просто-
го, абстрактного, пустого или чистого рассудка. Итак, любые высказыва-
ния о человеке — это всегда результат опыта человеческого сообщества.
Эти высказывания неизменно являются эмпирическими и никогда —
научными.
Теперь мы понимаем, почему вопрос: «Кто есть человек?» обычно
сводится к вопросу: «Что есть
человек?».
«Что» — это всегда нечто внеш-
нее, некий предмет. Человек, задающий встречный вопрос, всегда пре-
бывает в настоящем. Настоящее — это прямая противоположность пред-
мету. Человек, задающий встречные вопросы, противостоит во времени
всем социологам, пользующимся естественнонаучной методологией,
позитивистам. Ибо он препятствует тому, чтобы они, преисполнясь ве-
личия, низвели его до уровня предмета.
Итак, кто же есть человек? Об этом могут спросить сообща русский
и янки, генерал и вдова, если они уже засвидетельствовали любовь, вни-
мание, уважение друг к другу, назвав друг друга по именам. По меньшей
мере двое должны быть признаны в качестве людей в первом и втором
85
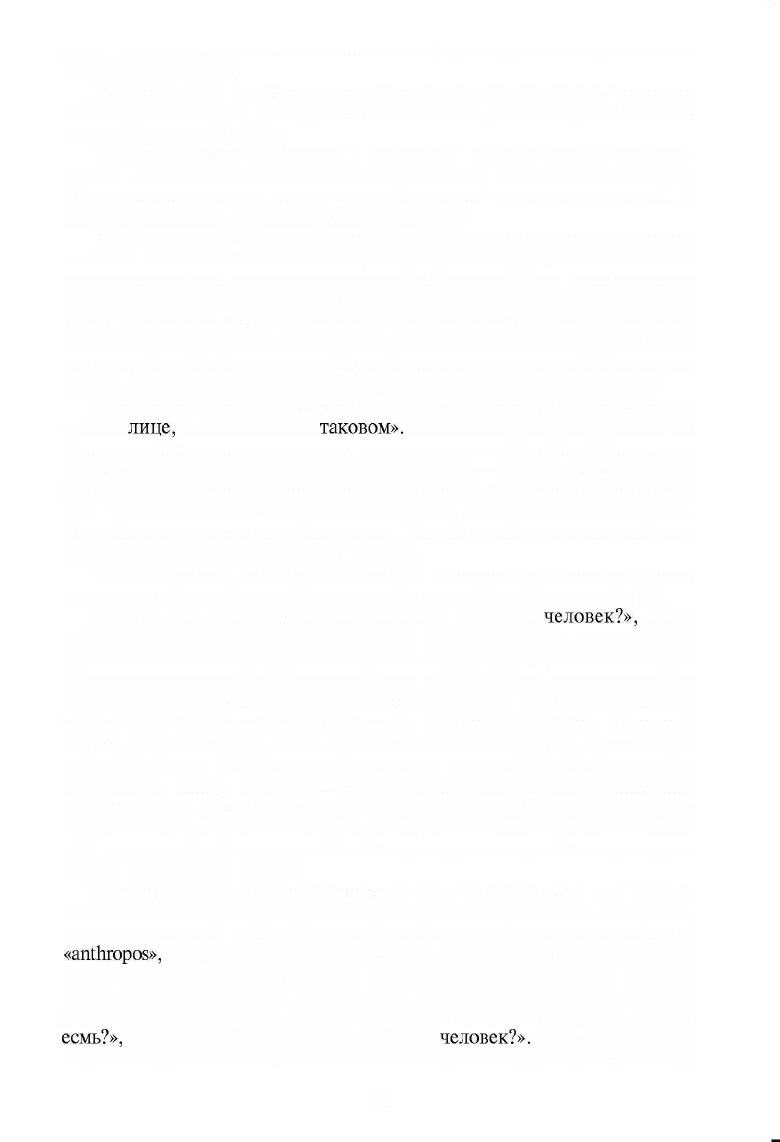
лице, прежде чем они смогут совместно сформулировать вопрос о чело-
веке в третьем лице.
Напротив, тот, кто формулирует этот вопрос без оговорок, строит из
себя создателя людей, разыгрывает из себя Бога, и поэтому мне незачем
присматриваться к нему.
Тем самым наше мышление о «человеке» избегает судьбы естествоз-
нания. Естествознание начинает неправильно, а именно без оговорок.
Оно начинает с «оно», «он», с «эти» или «они», с мира и предметов. И
все, что оно знает, относится к третьему лицу.
В человеческом обществе такой образ действий является предосуди-
тельным. «Человек» — это сначала всегда третье лицо, и со всеми выска-
зываниями в этом третьем лице придется повременить, пока первое и
второе лицо не будут признаны друг другом и представлены друг другу.
Наше мировоззрение и объективные представления являются третьесте-
пенными и подвержены постоянному изменению. Только другой чело-
век способен сообщить мне обо мне самом нечто первостепененное.
Только я могу дополнить это сообщение второстепенным вопросом.
Лишь после этого дело может дойти до абстрактных представлений о
третьем
лице,
о человеке «как
таковом».
Но эти абстракции будут хотя бы
отчасти правильными лишь тогда, когда у партнеров по беседе постоянно
сохраняется в памяти эта последовательность — второе, первое, третье
лицо. Ибо мы можем ручаться только за первые два слоя нашего созна-
ния. Третий слой — это просто заключение, выведенное нашим умом.
Оно является просто «правильным». Но мы можем дать показания в
пользу первостепенных истин и умереть.
Таким образом, это первый вклад в Высшую грамматику Нового
мышления, для которого истина и наука отделены друг от друга (14).
Ученые, без оговорок спрашивающие: «Что есть
человек?»,
явля-
ются врагами истины, за которую мы, неспециалисты, сражались и
сражаемся. Мы сперва должны признать друг друга в качестве людей
и лишь затем может возникнуть наука, — но ученые в своем высоко-
мерии не хотят принять во внимание эту истину. Они приписывают
только себе обладание духом истины, нам же оставляют, в лучшем
случае, доброе сердце, но не причастность живому духу, превосходя-
щую их знания. Специалисты отрицают, что мы обладаем духовным
настоящим. Итак, если ученые будут продолжать слушать наше дело
«без оговорок» и в третьем лице, то Новому Западу достанутся только
подопытные кролики. Ибо прежде чем мы сможем играть с объекта-
ми, мы должны быть представлены друг другу и признать друг друга
внутри некоторого народа.
Однако оборот речи псалмопевца: «Что есть человек, что Ты по-
мнишь его?» не принадлежит к числу вопросов специалистов. Напротив,
он ставит вопрос, который стирает различие между антропологами и
«anthropos»,
между психологами и «psyche», между субъектом и объектом,
между специалистом и народом. Перед Богом находится не предмет
мышления, а чадо Божье. Ведь человек, Адам, — это только имя, кото-
рое Бог дал своему чаду. Поскольку человек спрашивает Бога: «Кто я
есмь?»,
он может также спросить: «Что есть
человек?».
Ибо, в отличие от
социологов, он включает самого себя в вопрос. Он даже доверяет Богу
86
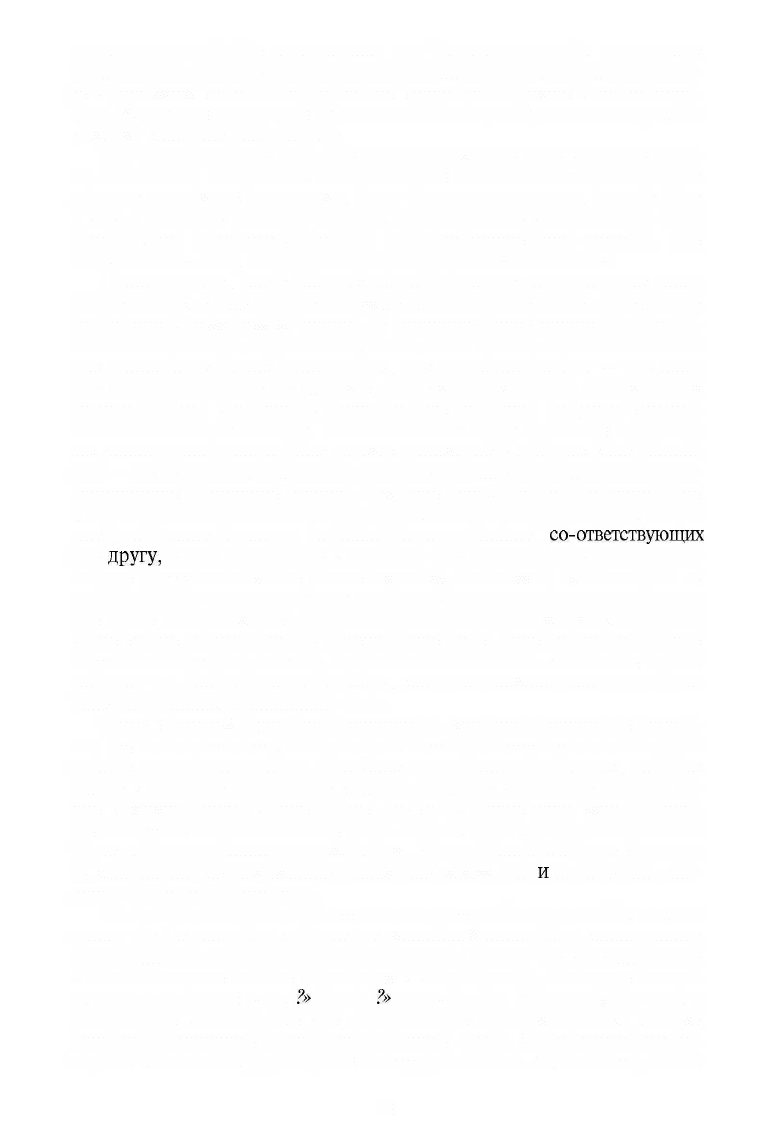
право дать ответ! «Что есть человек, что Ты помнишь его?» — это такое
предложение, которое уничтожает все предшествующее разделение тру-
да и стремится во имя Бога включить грядущего человека в живое творе-
ние. Какже оно это делает? Напоминая самому себе, что он сегодня без
«завтра» Бога еще есть «ничто».
Что есть человек до того, как Бог обращается к нему с речью? Нич-
то, пока ничто, но при этом он ждет вечной жизни. Человек, который не
является предметом мышления, ждет Божьего настоящего, памяти Бога
о нем, поскольку каждому человеку предназначено стать мыслью Бога,
словом Бога, творением Бога, т.е. из преходящего стать вечным, а из
«что» — «кто». Мы, люди, суть пути, ведущие от «что» к «кто».
Приходит день, когда каждый из нас вырастает из универсума заме-
нимых вещей. Тогда человек приходит в ужас от того факта, что даже он
сам является заменимым «нечто». В состоянии этого кризиса мы цепля-
емся за имя, которое с давних пор называлось при обращении к нам. Это
имя является не только преходящим, оно не только налицо — оно явля-
ется также некоторым ожиданием. Мы размыкаем наше сиюминутное
существование, распахивая двери любого времени, ведущие соответ-
ственно к началу и к концу. С самого начала и до Страшного суда чело-
век может достаточно глубоко дышать только как Адам, как Сын Божий.
Дух — эта та потенция дыхания, которая выходит за пределы моего су-
ществования в качестве «нечто». Эта сила своей музыкой увлекает меня
в хоровод всех призывающих друг друга и обращает друг к другу лицом
всех участников хоровода, подлежащих определению,
со-ответствующих
друг
другу,
и они узнают себя в качестве «он» и «она». Они предоставля-
ют друг другу исполнение неких задач во Вселенной. Ибо каждый из
этих одухотворенных людей сам являет собою нечто сотворенное в каче-
стве звена неповторимой, единственной в своем роде истории творения.
Наша участь такова, что мы должны стать теми, кого призвали, к кому
обратились с речью, и теми, кто сам высказывается. В качестве такого
«клира», т.е. избранных по жребию, мы преодолеваем охвативший нас
ужас погружения в заменимое «что».
Эпоха светской мудрости закончилась концентрационными лагеря-
ми, где нагому человеку отказывали в имени и месте проживания, дол-
жности и предназначении. Это было триумфом той критики, которая
видела в человеке животное и цодовое существо и замечала только пер-
вую и вторую главы Книги Бытия, но не ее пятую главу (второй стих),
где говорится об установлении мира. Логика была принудительной: на-
учная чернь подражала уличной черни. Народ Нового Запада и Грядуще-
го Востока мог бы возродиться только как «клир»: ты
и
я, он и она, спа-
янные взаимной верностью.
Специалисты вырывают застенчиво задаваемый вопрос: «Что есть че-
ловек, что Ты помнишь его?» из его смысловой связи. Ведь неспециалист
может задавать вопрос таким образом лишь потому, что он надеется на
в высшей степени личное обращение к нему с речью, благодаря которо-
му мы переходим от «что
?»
к «кто
?»
и изменяемся. Господа профессора и
специалисты считают себя уже обладающими этим качеством. Ведь их
студенты обращаются к ним как к великим «кто». Но неспециалист на-
ходится в состоянии двуполярной неопределенности. Он не знает, как он
87
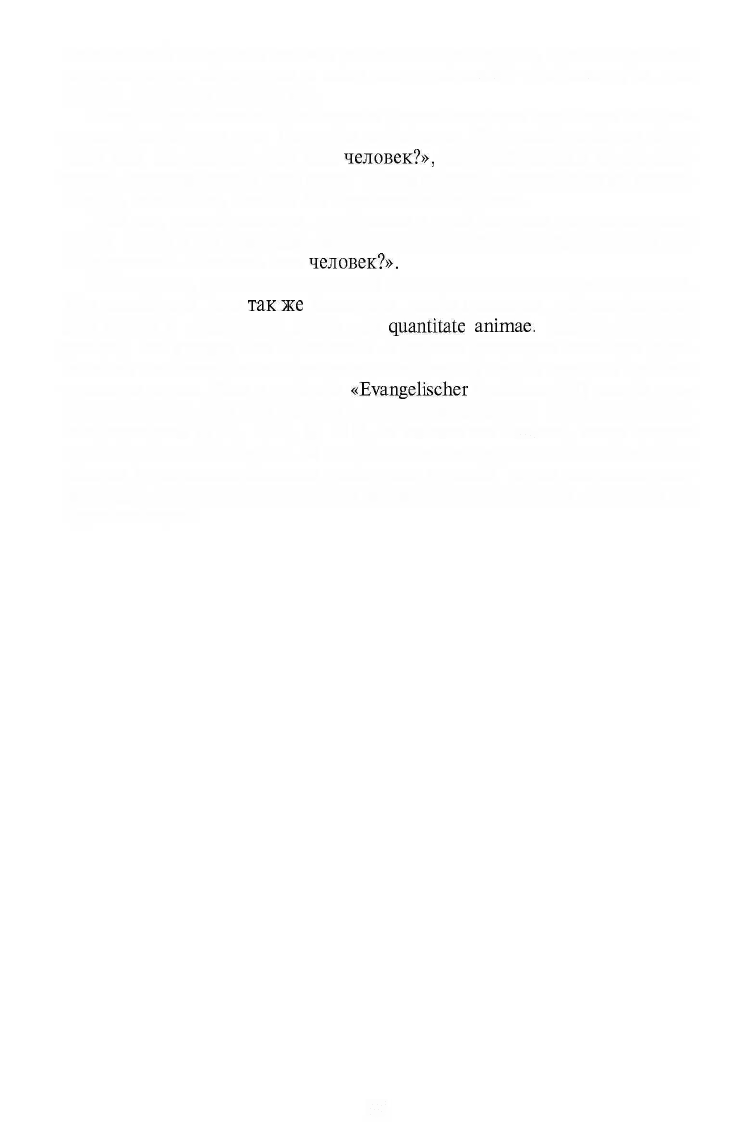
составит себя из «что» и «кто» в различных пропорциях, поскольку никто
не гарантирует обращения к нему как к господину профессору, и, тем
самым, никто не утешает его.
Каждый день какая-либо отрасль науки похищает один звук из бесе-
ды верующей души с ее Господом и Творцом. Эти заимствования обед-
няют нас. На вопрос: «Что есть
человек?»,
который вырван из его кон-
текста, никогда нельзя дать ответ. Таким образом, теперь господа специ-
алисты, возможно, смогли бы перестать его задавать.
Ибо мы, неспециалисты, нуждаемся в этом вопросе для нашего спа-
сения, чтобы с его помощью стать личностями. Как и Библия, Лютер мог
бы спросить: «Кто есть этот
человек?».
Мои друзья, узнав название этой статьи, нашли его отвратительным.
И в самом деле, оно
также
безвкусно, как и название, данное Августи-
ном работе о «количестве души», de
quantitate
animae.
Однако Августин
доказал, что у души нет количества. Я должен защищать всеобщее диле-
тантство человечества от обращения с человеком как со средним грамма-
тическим родом. Если в журнале
«Evangelischer
Erzieher» (15) можно про-
читать вопрос: «Что есть человек?» в качестве заглавия, набранного жир-
ным шрифтом (V, 3, 1953, S. 113), то настает тот момент, когда следует
прибегнуть к самообороне. И тогда в качестве средства защиты неспеци-
алистов от первосвященников различных отраслей науки сохраняет силу
заповедь: «Если ныне этот путь и не является священным, то завтра он
будет освящен».
88
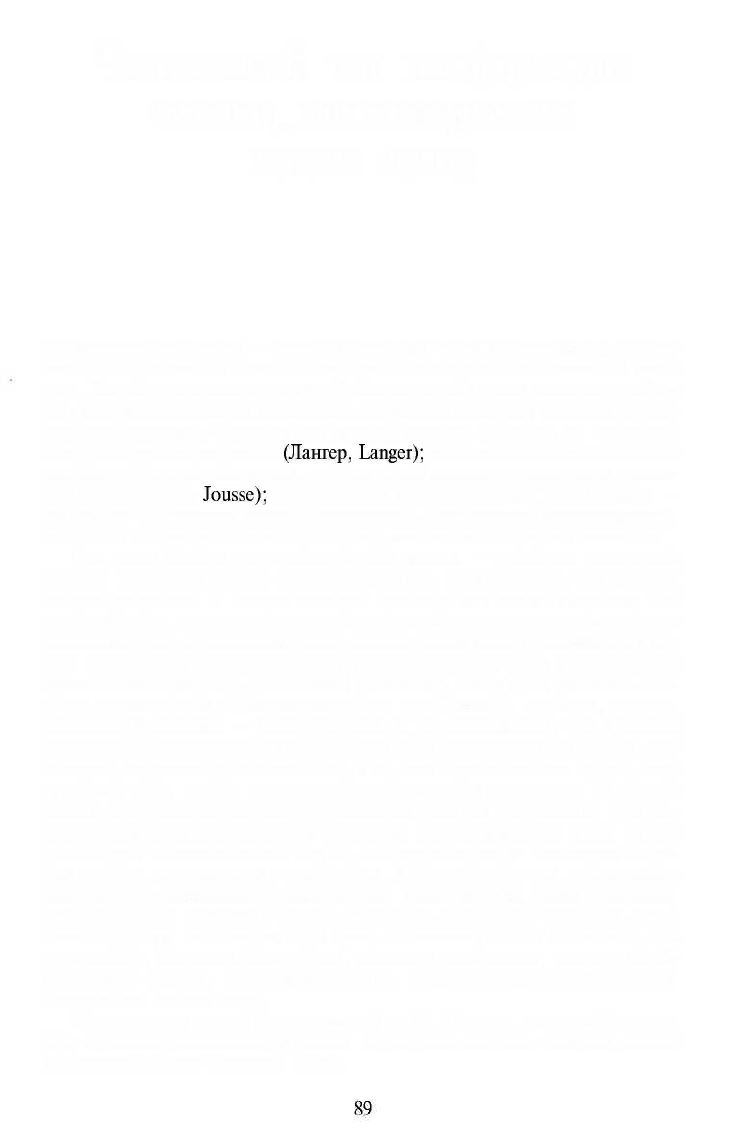
Человеческий тип как форма для
чеканки, или повседневные
истоки языка
Происхождение языка — один из наиболее часто обсуждаемых, больше
всего вышучиваемых и самых безнадежных вопросов человеческой исто-
рии. Вопрос о происхождении отбрасывается как некая сложная пробле-
ма, которая никогда не может быть разрешена и потому никогда не дол-
жна затрагиваться. Ответ на этот вопрос искали, ссыпаясь на «подража-
ние», на нервные рефлексы
(.Пантер,
Langer);
толковали изначальный язык
как жестикуляцию всего тела, которая затем свелась к движениям голосо-
вых связок (Жусс,
Jousse);
указывали на крики воюющих групп людей, —
но все эти объяснения почти смехотворны. Большинство исследователей,
знакомых с подходами к этому вопросу, испытывают чувство отчаяния.
Для меня самого «происхождение» языка — такой же законный
вопрос, как любое другое «происхождение». Это означает, что данный
вопрос упирается в некую главную границу всех таких вопросов: мы
должны знать, что мы подразумеваем под «происхождением», что мы
понимаем под «происхождением» языка. Язык может означать: а) ме-
тод, с помощью которого можно указать человеку путь к ближайшей
крестьянской усадьбе, или способ успокоить плачущего ребенка. Тог-
да он в состоянии обойтись жестами, улыбками и слезами, и тогда
обезьяны и соловьи — наши учителя. Я не сомневаюсь, что в наших
повседневных бормотании и болтовне язык служит тем же целям, что
и звуки, издаваемые животными, а то, что служит тем же целям, зас-
луживает того, чтобы считаться тождественным друг другу. В нашей
жизни есть области, характеризующиеся теми же условиями, при ко-
торых животные издают звуки общения, предупреждения и т.д. И мы
используем в этих областях звуки, обнаруживающие некоторое подо-
бие звукам, издаваемым животными. С другой стороны, язык может
означать: Ь) способность стать хором, разыграть на сцене трагедию,
издать законы, сочинить стихи, прочитать застольную молитву, при-
нести присягу, исповедать свой грех, оклеветать своего ближнего, по-
дать жалобу, написать биографию, исказить сообщение, решить алгеб-
раическую задачу, окрестить ребенка, подписать брачный договор,
похоронить своего отца.
Большинство людей смешивают а) и Ь). Похоже, они воображают,
что, объяснив колыбельную песню, шутку или сплетню, они тем самым
объяснили и силу брачного обета.
