Смоленский Н.И. Теория и методология истории
Подождите немного. Документ загружается.

ше красоты, чем в изящной фразе. Но каждой науке свойственна
ее особая эстетика языка. Человеческие факты — по сути своей
феномены слишком тонкие, многие из них ускользают от мате-
матического измерения. Чтобы хорошо их передать и благодаря
этому хорошо понять (ибо можно ли до конца понять то, что не
умеешь высказать?), требуется большая чуткость языка, точность
оттенков в тоне... Между выражением реальностей мира физичес-
кого и выражением реальностей человеческого духа — контраст в
целом такой же, как между работой фрезеровщика и работой ма-
стера, изготавливающего лютни: оба работают с точностью до мил-
лиметра, но фрезеровщик пользуется механическими измеритель-
ными инструментами, а музыкальный мастер руководствуется
главным образом чувствительностью своего уха и пальцев. Ничего
путного не получилось бы, если бы фрезеровщик прибегал к эм-
пирическому методу музыкального мастера, а тот пытался бы под-
ражать фрезеровщику. Но кто станет отрицать, что, подобно чут-
кости пальцев, есть чуткость слова?»
1
. «Настоящий... историк по-
хож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он зна-
ет, его ждет добыча»
2
.
А теперь поставим вопрос, который с точки зрения науки прин-
ципиально важен: «Как формируются новые научные идеи, дела-
ются открытия в связи с ролью языка?» Вот что писал по этому
поводу выдающийся французский физик XX в., один из осново-
положников квантовой механики Л. Бройль: «В силу своей стро-
гой дедуктивности математический язык позволяет детально опи-
сать уже полученные интеллектуальные ценности; но он не по-
зволяет получить что-либо новое. Итак, не чистые дедукции, а
смелые индукции и оригинальные представления являются ис-
точниками великого прогресса науки. Лишь обычный язык, по-
скольку он более гибок, более богат оттенками и более емок, при
всей своей относительной неточности по сравнению со строгим
символическим языком, позволяет формулировать истинно новые
идеи и оправдывать их введение путем наводящих соображений или
аналогий»
3
. Выходит, что акт научного творчества, приводящий к
открытию нового знания, совершается на уровне выдвижения но-
вой идеи на естественном языке, а формализованный язык при-
меняется для изложения результатов исследования. И научное от-
крытие и описание полученных результатов историк осуществля-
ет на одном и том же естественном языке, что свидетельствует о
своеобразной гармонии. Но здесь необходимо внести одно уточне-
ние. Не все из упомянутых составных частей языка историка при-
1
Блок
М. Апология истории или ремесло историка/ пер. Е.М.Лысенко. — М.,
1986. - С. 18.
2
Там же.
3
Бройль
Л. По тропам науки. — М., 1962. — С. 327.
202
частны в равной степени к получению историком нового научно-
го знания. Обнаружение исторических фактов связано с открыти-
ем новых источников. Однако развитие познания не сводится только
к обнаружению новых фактов, меняется, уточняется, обогащает-
ся картина представлений о прошлом. Такое движение познания
связано прежде всего с совершенствованием методов историче-
ского познания, теоретических его основ в целом. Новизна теоре-
тических подходов к изучению истории резюмируется в категори-
альном аппарате мышления.
Научные исторические понятия в чисто количественном отно-
шении имеют значительно меньший удельный вес в языке исто-
рика, чем литературная разговорная речь его эпохи. Но это не
самое важное. Более существенно то, что понятия не являются в
такой степени, как литературный язык, продуктом органическо-
го развития. Их содержание — результат научного исследования,
поэтому они обладают большей четкостью, причем речь может
идти и о наборе признаков явлений, фиксируемых в определен-
ный мыслительный образ. В этом смысле исторические понятия
отличаются большей строгостью содержания, чем лексика лите-
ратурного языка. Строгость эта — языковая, поэтому к содержа-
нию понятий не следует предъявлять больше требований, чем они
могут удовлетворить по своей природе. Математическая точность
не является критерием степени соответствия понятия действи-
тельности: такое соответствие никак не может быть выражено
количественно. Четкий набор признаков, включаемых в определе-
ние понятия, также не решает проблемы его точности, поскольку
определение — не обязательная форма существования понятий.
Известно, что многие понятия не сформулированы в качестве
определений. Это не является упущением историков, поскольку
наталкивает на природу понятия: оно — не только слово, термин,
но и обобщение признаков класса однопорядковых, т. е. повторя-
ющихся, явлений. Так как повторяемость в истории никогда не
бывает буквальной, то и однопорядковые явления отличаются по
набору признаков, причем не только количественно, но и каче-
ственно. Обычно за этим стоит степень развития того или иного
явления в конкретных исторических условиях. Понятия «рабство»,
«полис», «феодализм», «община», «собственность» и т.д. являют-
ся обобщениями однопорядковых явлений. Однако хорошо извест-
но, что каждое из них обладало своими отличительными и порой
очень существенными особенностями (признаками), которых не
было в других случаях. Можно ли считать обязательным призна-
ком абсолютизма отсутствие органа сословного представительства?
Очевидно, нет, хотя это было характерно для абсолютизма во
Франции. Является ли феодальная иерархия необходимым усло-
вием феодальной собственности на землю в средние века? Тоже
нет: в средневековых поземельных отношениях на Руси этого не
203
было, хотя расщепленный характер собственности на землю был
четко выражен в странах Западной Европы. Возникает вопрос: «Как
составить представление о том, что такое абсолютизм, собствен-
ность на землю в Средние века?» За этими частными случаями
стоит теоретическая проблема общего значения — происхожде-
ния, природы исторических понятий. Изучить ее — значит, преж-
де всего, дать ответ на вопрос о том, каково соотношение поня-
тия и действительности. Прежде всего необходимо определить со-
став признаков однопорядковых явлений, включаемых историком
в содержание понятия. Речь идет об отборе отдельных признаков
или об исчерпывающем их перечне?
Попытка решения каждого из этих вопросов наталкивается
на препятствие, которое заключается в историческом своеобра-
зии любого из явлений, относимых историком к классу однопо-
рядковых. Своеобразие предполагает, что различные признаки
этих явлений по-разному выражены в них или даже могут отсут-
ствовать вовсе. Возможности равнозначного отбора таких при-
знаков не существует — ни в количественном смысле, ни по их
содержанию. Остается еще вариант полного их включения в со-
держание понятия. Однако это также нереализуемо по той при-
чине, что включение в структуру понятия неограниченного чис-
ла признаков, как важных, так и несущественных, размывает
понятие, его суть; содержание понятия перестает быть теорети-
ческим обобщением действительности и становится разновид-
ностью эмпирического ее описания. В этом заключается одно из
отличий образования абстракций в языке историка от абстрак-
ций в формализованном языке.
В математике исходным пунктом такого образования всегда
является точный количественный перечень необходимых условий,
положений. Результат будет верен только в том случае, если эти
положения соблюдены. Теорема Пифагора о соотношении длины
гипотенузы и длины катетов верна для любых прямоугольных тре-
угольников евклидовой плоскости. Если же рассматривать тре-
угольники на иной поверхности, например выпуклой, то она верна
не будет. Математическая точность заключается здесь, помимо
прочего, в учете всех необходимых условий для обеспечения вер-
ности результата. Это также обязательное условие точности прак-
тически любого формализованного языка в различных областях
естественно-научного познания. Такая скрупулезная точность в
перечислении исходных условий мышления — теорем, формул,
уравнений — обеспечивается самой областью изучаемых явлений,
их предметом, вследствие чего возможен и набор первоначальных
условий, и их тождество во всех ситуациях одного порядка. Для
историка же предмет его исследования не может дать ни того, ни
другого. Различные исторические условия исключают тождество
однопорядковых явлений; не только их конкретно-историческая
204
форма, но в известной мере и глубокая, скрытая от поверхност-
ного наблюдения сущность в каждом случае отличаются с неиз-
бежностью своеобразием. Преодолеть его, т. е. сделать несуществен-
ным для познания характера этих явлений, мышление не в состо-
янии, что, однако, не является признаком его слабости: таков
предмет исследования.
Известным вариантом решения проблемы происхождения на-
учных исторических понятий является теория идеальных типов
М.Вебера. По его мнению, понятие «...создается по средствам од-
ностороннего усиления одной или нескольких точек зрения и со-
единения множества, рассеянных и разрозненных, имеющих в
большей или меньшей степени, порой даже отсутствующих инди-
видуальных явлений, которые соединяются в соответствии с эти-
ми односторонними точками зрения в целостную аналитическую
конструкцию. В своей понятийной чистоте эта конструкция не
может быть обнаружена где-либо в действительности; она — уто-
пия, и историческое исследование сталкивается с задачей опре-
делить в каждом отдельном случае степень сходства этой конст-
рукции с действительностью»
1
. Понятие, с точки зрения М.Вебе-
ра
5
_ это некий собирательный образ действительности, форми-
руемый историком путем отбора и группировки признаков явле-
ний в соответствии с его точкой зрения. Понятие не имеет анало-
га, прообраза в действительности; в этом отношении оно — уто-
пия. Сходство содержания понятия с действительностью не отри-
цается.
Рассмотрим достоинства и недостатки теории идеальных типов.
Конечно, то, что понятие не является копией, слепком действи-
тельности и не содержит всего набора признаков класса изучае-
мых явлений, тем более их индивидуальных черт, бесспорно. Точ-
ное воспроизведение действительности не только невозможно,
но и бессмысленно. В этом М. Вебер прав. Однако проблема не в
том, что понятие не совпадает с действительностью, а в том, как
понимать это несовпадение, каковы его причины и значение. М. Ве-
бер считает, что понятие не имеет прообраза в действительности.
Отсюда возникает вопрос: «Откуда мышление берет критерии для
тех односторонних точек зрения, в соответствии с которыми мно-
жество индивидуальных явлений "соединяется" в идеальный тип?»
Ответ М. Вебера: из позиции исследователя. С этим следует согла-
ситься, причем позиция историка имеет общее значение в каче-
стве исходного пункта познания, а не только в связи с проблемой
происхождения исторических понятий. Однако этот вывод не рас-
крывает всю суть проблемы.
Точка зрения исследователя не является единственной и реша-
ющей предпосылкой формирования научных исторических поня-
1
Weber
М. Methodologische Schriften. — Frankfurt а. М., 1969. — S. 43.
205
тий. Во-первых, точку зрения, т.е. исходную теоретическую, ме-
тодологическую позицию историк заимствует не из изучаемого
прошлого, а из современного ему состояния науки, а в конечном
счете из окружающей его действительности. Следовательно, в этой
ситуации говорить о соответствии или несоответствии не прихо-
дится. Во-вторых, и это главное, необходимо сделать так, чтобы в
результате познания имело место «сходство конструкции с дей-
ствительностью», но как это осуществить в теории идеальных ти-
пов, не говорится. Это связано с тем, что данная теория отводит
решающее значение позиции исследователя, который в соответ-
ствии с ней формирует из разрозненных фрагментов прошлого
образ исторического понятия. В таком случае прошлое является не
основой познания, не ушедшей в небытие реальностью, а всего
лишь мыслительным материалом, из признаков которого выбо-
рочным путем историк «лепит» идеальный тип. Вот почему М. Ве-
бер в связи с требованием сходства понятия и действительности
говорит о приближении действительности к понятию
1
, тогда как
на самом деле речь идет о приближении содержания понятия к
действительности. Между тем и другим разница очень велика, это
не просто словесная перестановка. Вопрос стоит так: «Что пер-
вично — изучаемый предмет, реальность или мышление истори-
ка?» Мышление в любой области научного познания — и истори-
ческая наука не исключение — дает лишь образ, картину изучае-
мого предмета, причем не произвольно, а в соответствии с его
характером и особенностями. Но если понятие является не логи-
ческой самодостаточной конструкцией, а отображением действи-
тельности, то как именно оно включает в себя многообразие
свойств и признаков различных вариантов однопорядковых явле-
ний?
Очевидно, что понятие не в состоянии быть неким собира-
тельным образом, который в одинаковой степени близок к каж-
дому явлению. Эти явления не могут быть представлены «на рав-
ных» в содержании понятия, так как они не равны в действитель-
ности. Тем не менее понятие имеет некий прообраз в действитель-
ности, который и является основой формирования его содержа-
ния. Этот прообраз — один из вариантов однопорядковых истори-
ческих явлений. Он представляет собой наиболее полное, разви-
тое выражение данной исторической реальности, одно из прояв-
лений неравномерности исторического развития во все времена
человеческой истории. Так, самой высокой ступени развития ан-
тичное рабство достигло в Древнем Риме; самой передовой стра-
ной феодальных отношений в западно-европейском Средневеко-
вье была Франция с ее крайними формами социальной диффе-
1
См.:
Weber
М. Gesammelte
Anfsatze
zur
Wissenschaftslehre.
— Tubingen, 1951.
206
ренциации, неограниченным абсолютизмом, радикальной бур-
жуазной революцией конца XVIII в.; страной классического ка-
питализма эпохи нерегулируемого рынка была Англия и т.д. Зре-
лая, наиболее развитая форма исторической реальности является
ближайшим прообразом исторического понятия
1
.
Существование описанных вариантов однопорядковых явлений
не зависит от современной историку действительности или его
точки зрения; задача мышления заключается в данном случае в
том, чтобы определить, выявить эти варианты. Что это дает по-
знанию? Развитая историческая реальность содержит наиболее
полно то, что не явно выражено в других ее вариантах, или выра-
жено с особенностями, вытекающими из соответствующей конк-
ретно-исторической ситуации. Поэтому данная историческая ре-
альность является ключом к пониманию иных ее форм и разно-
видностей, в этом смысле она и составляет основу исторического
познания. Благодаря этому понятия представляют собой единство
общего и единичного и связаны с действительностью. Они явля-
ются продуктом обобщения, синтеза в мышлении, но вместе с
тем опираются на сущность явления, наиболее полно выражен-
ную в самой жизни, следовательно, это не только некий собира-
тельный образ, абстракция не существующей в чистом виде ре-
альности, но и ее отображение.
1
См.:
Смоленский
Н. И. К вопросу о природе исторических понятий // Новая
и новейшая история. — 1976. — № 4;
Смоленский
Н.К. Историческая действитель-
ность и историческое понятие // Вопросы истории. — 1979. — № 2.
ГЛАВА 12. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА И ЦЕЛИ
ИСТОРИИ
Есть ли в истории смысл? Направлено ли развитие истории, к
какой-то цели? Эти вопросы были в различной степени значимы
для религиозного и светского, философско-исторического типов
мышления. Религиозное мировоззрение включает в себя целост-
ный, осмысленный образ истории. В христианском варианте эсха-
тологии явление богочеловека представляет собой фундаменталь-
ную основу осмысления истории. Эти представления в той или
иной форме перешли впоследствии в религиозную философию
истории Нового и Новейшего времени. По мнению Н.А.Бердяева
(1874—1948), понять смысл мира — «значит понять провиденци-
альный план творения, оправдать Бога в существовании того зла,
с которого началась история, найти место в мировоззрении для
каждого страдающего и погибающего. История лишь в том случае
имеет смысл, если будет конец истории, если будет в конце вос-
кресение, если встанут мертвецы с кладбища мировой истории и
постигнут всем существом своим, почему они истлели, почему
страдали в жизни и чего заслужили для вечности, если весь хро-
нологический ряд истории вытянется в одну линию и для всего
найдется окончательное место»
1
.
Осмысление истории в религиозном и светском его вариантах
является не только мировоззренческой проблемой, но и пробле-
мой смысла жизни, предназначения человека. Последнее является
исходным, основополагающим по сравнению с постижением смыс-
ла истории. Человек — творец истории и ее продукт одновремен-
но, постижение смысла мироздания является составной частью
осмысления его предназначения. Вне связи с временем, обще-
ством, историей не существует ни человека, ни проблемы смысла
его бытия. Отсюда следует, что осмысление им истории уходит
корнями в реальность его бытия. Это дает повод к выдвижению
таких трактовок проблемы смысла истории, в которых в качестве
первоначала выступает не сама история, а мышление осмыслива-
ющего ее субъекта.
Согласно одной из них смысл истории отрицается вообще,
история рассматривается как арена хаоса, беспорядка, скопления
случайностей и т.д., одним словом, осмысление истории в этом
случае предстает как придание смысла бессмысленному. Так, в
1
Бердяев
Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М, 1989. — С. 127.
208
иге немецкого историка Т. Лессинга (1872—1933) «История как
придание смысла бессмысленному» творцом смысла истории на-
зывается мышление исследователя: «В истории никаким образом
не обнаруживается никакого скрытого смысла, никакой причин-
ной взаимосвязи, никакого развития во времени..., но история
есть историография, т.е. создание этого смысла...»
1
. Однако если
хаос присутствует в предмете изучения, то он будет и в голове,
хотя нередко бывает наоборот. Вне познания любая разновидность
мышления, в том числе и историческое мышление, не обладает
внутренней логикой, так как в этом случае пришлось бы признать
врожденный характер рассматриваемого свойства мышления.
В соответствии с другой трактовкой проблемы смысл истории
не отрицается, утверждается множественность смыслов. «Не мо-
жет быть единого (одного) смысла. Поэтому не может быть ни
первого, ни последнего смысла, он всегда между смыслами, зве-
но в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может
быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно,
и потому каждое звено ее снова и снова обновляется, как бы рож-
дается заново»
2
. Действительно, незавершенность развития исто-
рии исключает любую возможность ее осмысления в окончатель-
ном варианте: каждая ступень исторического развития вносит не-
что новое в содержание и смысл истории. Это, однако, не означа-
ет наличие множества смыслов.
В гносеологическом отношении проблема заключается в мно-
гообразии понимания смысла истории, что не говорит о равной
научной состоятельности различных точек зрения и не освобож-
дает историка от необходимости такого осмысления истории, ко-
торое бы было более адекватным ее реальному ходу и содержа-
нию. В этом — одно из отличий в понимании индивидом смысла и
цели как своей жизни, так и истории в целом. В первом случае все
очень индивидуально, во втором различия следует понимать лишь
как разницу научных подходов к проблеме. Понимание смысла
истории зависит от позиции историка. «История, — писал анг-
лийский историк Э. Г. Карр, — была полна смысла для британ-
ских историков до тех пор, пока она, казалось, идет в нужном
нам направлении; теперь, когда дело приняло другой оборот, вера
в смысл истории стала ересью»
3
.
Смысл истории нельзя усматривать в каких-то одних аспектах
ее движения, скажем в том, что это движение поступательно -
прогрессивно, или в том, что в нем действуют законы
4
и т.д. Для
1
Lessing
Th. Geschichte als
Sinngebung
des Sinnlosen. — 3
Auflade.
— Munchen,
1921.-S. 6.
2
Бахтин
M.M. Эстетика словесного творчества. — M, 1979. — С. 350 — 351.
3
Can Е. Н. What is History? - L., 1962. - P. 37.
4
См.:
Дьяков
В.А. Методология истории в прошлом и настоящем.
8 Смоленский
209
осмысления истории ее нужно воспринимать как целое. Н.И. Кон-
рад (1891 — 1970) считал, что история человечества «не какой-то
безликий процесс; она очень конкретна и слагается из деятельно-
сти отдельных народов, имеющих каждый свое собственное лицо.
Но в то же время как часто смысл исторических событий, состав-
ляющих, казалось бы, принадлежность только истории одного
народа, в полной мере открывается лишь через общую историю
человечества»
1
. Еще более определенно, афористически кратко и
точно выразил эту мысль К.Ясперс: «В попытке постигнуть един-
ство истории, т.е. мыслить всеобщую историю как целостность,
отражается стремление исторического знания найти свой после-
дний смысл»
2
. Главной опорой мышления в постижении смысла
истории действительно является всемирная история как целост-
ность и единство. Проблема заключается в обосновании, осмыс-
лении единства и целостности, как и в анализе целого ряда дру-
гих сторон имманентной логики исторического процесса, одной
из которых является понятие цели исторического развития.
Постижение смысла истории неполно и несостоятельно, если
оно не опирается на связь времен — прошлого, настоящего и бу-
дущего. Смысл истории не может заключаться только в прошлом;
прошлое — это сосуд небытия, вбирающий в себя реальность со-
временности и виртуального будущего и постоянно меняющий
свою форму и содержание. Поэтому осмысление истории включа-
ет в себя также представление о будущем, которое опирается на
понимание прошлого и возможно только благодаря нему. Без раз-
вития нет истории, следовательно, логика общемирового процесса
несовместима с понятием некой конечной ситуации (этапа, ста-
дии), в каких бы категориях последняя не мыслилась
3
. Стремле-
ние внести понятие окончательной ситуации мирового процесса
противоречит всему предшествующему ему ходу: раньше было раз-
витие, а с какого-то времени оно прекращается. Концом истории
может быть вселенская катастрофа, к которой может привести
мировая термоядерная война или падение метеорита, экологи-
ческая угроза.
Тем не менее идея конца истории как стадии общественного
развития принадлежит американскому политологу Ф. Фукуяме,
представившему либеральную экономическую модель США как
некий образ финальной стадии исторического развития. Аргумен-
тация этого тезиса содержит одну оговорку: «В конце истории (вы-
делено автором. — Н. С.) нет никакой необходимости, чтобы ли-
беральными были все общества, достаточно, чтобы были забыты
1
Конрад
Н.И.
Осмысление истории. Запад
и
Восток.
— М., 1972. — С. 454.
2
Ясперс
К.
Смысл
и
назначение истории.
— С. 264.
3
См.:
Смоленский
Н.И.
Проблемы логики общеисторического развития
//
Новая и новейшая история. — 2000. — № 1.
210
идеологические претензии на иные, более высокие формы обще-
жития»
1
. Выражение «конец истории» в понимании автора озна-
чает то, что ничего более совершенного, чем структура либераль-
ного общества, в будущем уже не предвидится. Ф. Фукуяма также
утверждает, что либеральная модель предназначена не для всех
народов, а только для избранных. Выбор не за народом, не за
историей, а за какой-то иной инстанцией, которая определяет,
кому какая модель общественного развития полагается. Впрочем,
историк признает и «более высокие формы общежития», но с
оговоркой, что в современном мире и в будущем альтернативы
либерализму нет.
Идеология, которая хочет себя увековечить, прибегает к улов-
ке финализма; но ход истории свидетельствует о том, что стан-
дарты вечного и окончательного к ней неприменимы. Конечной
стадии истории как ее цели не существует, поэтому также не мо-
жет быть и некоего окончательного, завершенного видения ее
целостности и смысла; абсолютным является лишь изменение,
развитие того и другого. К.Ясперс писал: «В наши дни преодолева-
ется то отношение к истории, которое видело в ней обозримое це-
лое (выделено автором. — Н. С). Нет такого завершенного понима-
ния истории, в которое вошли бы и мы. Мы находимся внутри не
завершенной, а лишь возможной, постоянно распадающейся оби-
тели исторической целостности»
2
.
Таким образом, смысл истории заключается не в ее движе-
нии к некоторой цели, а в характере, направленности логики
общемирового развития. Ее составляющими являются поступа-
тельно-прогрессивный характер, неразрывная связь единства,
многообразия и неравномерности, действие совокупности фак-
торов, движущих сил. Это реальные проявления смысла исто-
рии, которые характеризуют ее в целом. В то же время каждая
эпоха имеет свой особый смысл. Современный этап историче-
ского развития подготовлен прошлым, является его продолже-
нием и вместе с тем отходом от него, его преодолением. Общая
направленность развития современного мира заключается в тен-
денции к социализации.
Движение общества к гражданскому равенству, гражданской и
политической свободе является важной составной частью обще-
мирового развития, и каким бы несовершенным не было состоя-
ние гражданского общества сегодня, это движение в качестве тен-
денции реализовало себя. Достижение же другого, более оптималь-
ного социального статуса индивида хотя и не в состоянии отбро-
сить эту тенденцию, но уже не может опираться только на нее:
источник развития исчерпан. Такова, в частности, система сво-
1
Фукуяма
Ф.
Конец истории?
//
Вопросы философии.
— 1990. — № 3. — С. 144.
2
Ясперс
К.
Смысл
и
назначение истории.
— С. 272.
211
бодного предпринимательства, реализующаяся через механизмы
нерегулируемого рынка. Она во многом исчерпала свои возмож-
ности в качестве самонастраиваемого, саморегулируемого меха-
низма, вследствие чего плановое начало, связанное с вмешатель-
ством государства в экономическую жизнь в целом, стало харак-
терной чертой современности.
Тенденция к социализации проявляется сегодня в выходе за
пределы правового статуса индивида (равенство в правах) и до-
полнении его социальным качеством и смыслом, что выражается в
переходе от правового государства к социальному. В ее основе ле-
жит признание того, что «человек в нужде не свободен» (Ф. Руз-
вельт). Эта тенденция наиболее ярко проявляется в Швеции, Гер-
мании, ряде других стран. Она сформулирована в программах пра-
вящих социалистических и социал-демократических партий Запад-
ной Европы. Так, в директивах конгресса социал-демократической
партии Швеции сказано: «Как граждане мира, мы несем ответ-
ственность за сокращение разрыва между богатыми и бедными в
Европе, а также между "богатыми" и "бедными" континентами.
Европа не должна становиться миром для богатых, путь к глобаль-
ному миру и освобождению угнетенных начинается с нашего отно-
шения к другим людям и к нашим ближним»
1
.
Социал-демократия в Швеции, добиваясь построения обще-
ства, именуемого «шведским социализмом», декларирует «при-
оритет человеческих ценностей над "рыночными" ценностями.
Программа и деятельность германской социал-демократии в ка-
честве правящей партии основаны на концепции демократичес-
кого социализма, утверждающего такие ценности, как свобода,
справедливость и солидарность. Свобода означает право на само-
стоятельное развитие личности. Справедливость направлена на до-
стижение равной свободы для всех. Справедливость ориентирова-
на на равные жизненные шансы и является предпосылкой того,
чтобы экономически слабые граждане тоже могли добиться сво-
боды. Немецкие социал-демократы призывают к взаимной помо-
щи и взаимной ответственности друг за друга»
2
.
В 1999 г. Т. Блэр и Г. Шредер выступили с совместным докумен-
том под названием «Европа: третий путь — новая середина». В нем
подтверждается приверженность лейбористов и социал-демокра-
тов ценностям социальной справедливости, свободы, равенства и
солидарности, утверждается тезис о необходимости рыночной
экономики, но не рыночного общества. В то же время вносится
поправка в существующие представления о социальной справед-
1
См.: Цит. по: Социал-демократия в Европе на пороге XXI в. / под ред T T Пар-
халина. — М., 1998. — С. 251.
2
Социал-демократия перед лицом глобальных проблем / под ред. Б С Ор-
лова. - 2000. — С. 82.
212
ливости как результате все более высокого уровня государствен-
ных расходов, подчеркивается необходимость повышения ответ-
ственности самого индивида за свое благополучие как результата
не только воли и деятельности государства, но и реализации ин-
дивидуальных способностей и инициатив.
В том же году президиум французской социалистической партии
подготовил документ получивший в прессе название «Документ
Жоспена». В нем социалистические партии рассматриваются в ка-
честве защитников всеобщего интереса, сохраняющих «критиче-
ское отношение к капитализму». В документе говорится о том, что
хотя рыночное хозяйство способно производить богатства, несо-
поставимые с теми, которые производятся в других экономиче-
ских системах, оно бывает несправедливым, а зачастую и иррацио-
нальным. Это проявляется в кризисах, безработице, оттеснении
многих людей на обочину общества. Документ протестует против
рыночного общества и утверждает общество человеческое: «Чело-
веческое общество — это общество, в котором не все товары отож-
дествляются с благами, ...которое поставило своей целью сокра-
щение всякого неравенства»
1
. Критическое отношение к капита-
лизму провозгласил XXI конгресс Социнтерна (Париж, 1999).
Возникает вопрос: «Что такое демократический социализм —
совокупность программных установок партий социалистической
ориентации, главным образом стран западной Европы, или об-
щество некапиталистического типа?» Вне всякого сомнения, если
речь и идет о взглядах, выходящих за рамки современной капита-
листической действительности (например, по отношению к при-
были), то это всего лишь отдельные положения программ; в це-
лом же они согласуются с реалиями капиталистического обще-
ства. Именно поэтому смена правящих партий у власти в ФРГ
(социал-демократы — христианские демократы) не влечет за со-
бой сколько-нибудь заметных перемен в обществе. Это понятно: в
ФРГ 3 % немцев владеют более 80 % производительного капитала.
И вместе с тем имеется в виду новая стадия развития капита-
листического общества. Упомянутая тенденция к социализации
проявляется в обществе в изменении роли государства в социаль-
ной сфере: государство берет на себя ряд функций по социальной
защите граждан — пособия по безработице, пенсии и т.д. Матери-
альный источник реализации этой функции — налог на прибыль.
Важным показателем глубины социализации общества является
также объем государственных расходов на социальные нужды. Об-
ращает на себя внимание динамика этих расходов за последние
сто лет (по 11 странам). В среднем: 1870 — 10,1 %, 1913 — 11,8 %,
1960 — 29,1 %, 1998 — 45 %. Она свидетельствует о логике движе-
ния истории и о важных показателях ее направленности. Это по-
Социал-демократия перед лицом... — С. 12.
213
казатели изменения капитализма как по начальным, так и по ко-
нечным датам рассмотренной динамики. В итоге мы имеем дело с
той стадией развития общества капиталистического типа, кото-
рой практически еще не было во времена Маркса и которая по-
этому требует иного осмысления и оценки, чем то, что мы нахо-
дим у него. В основе эволюции капиталистического общества ле-
жат прежде всего внутренние факторы, присущие этому обществу.
Однако трансформация капиталистического общества связана и с
влиянием реального социализма. По мнению главы римско-като-
лической церкви Иоанна Павла II, коммунистическую идеоло-
гию нельзя огульно отрицать, не признавая за ней ядра истины,
благодаря которому истинный марксизм мог стать притягатель-
ной реальностью для западного общества. Он считает, что капита-
лизм изменился в основном благодаря социалистической мысли,
которая породила такие социальные амортизаторы, как профсо-
юзы и контроль со стороны государства
1
. Говоря о «ядре истины»
в марксизме, нельзя обойти вниманием и само советское обще-
ство. Оно было реализованным примером влияния марксизма. Со-
циалистическая идея продолжает оставаться одной из составляю-
щих развития современного мира не только духовно, теоретичес-
ки, но и как реальная тенденция к социализации.
Какая тенденция победит, станет ведущей и когда это про-
изойдет — покажет время. Но в любом случае ответ на этот вопрос
не будет облачен в форму окончательной стадии исторического
развития.
Контрольные вопросы к разделу I
1. Каковы варианты понимания истории в целом, кем они представ-
лены?
2. В чем заключается единство истории?
3. Какие новые свидетельства в пользу идеи единства мировой исто-
рии дает современный этап ее развития?
4. В чем суть многофакторного подхода к истории?
5. Каково соотношение факторов и реальной действительности в раз-
личных вариантах теоретического мышления?
6. Что такое историческая необходимость и каков механизм ее реали-
зации?
7. Что такое законы истории, открытия и обобщения каких историков
соответствуют уровню законов истории?
8. Каково соотношение необходимости и случайности в истории?
9. Каковы основные варианты представлений о динамике истории?
10. Что такое прогресс в истории, в чем его противоречивость?
1
См.: Папа Римский. В марксизме есть ядро истины // Известия. — 1993. — 9
нояб.
214
11. Каковы критерии прогресса?
12. Есть ли прогресс в области нравственности?
13. Каков смысл понятий «истина», «объективность»?
14. Что представляет собой критерий истины в исторической науке?
15. Каковы основные варианты гносеологии исторического познания,
какова степень обоснованности каждого из них?
16. Каковы требования принципа историзма к работе историка?
17. Какова структура языка историка?
18. Что такое научные исторические понятия и каково их происхож-
дение?
19. В чем сильные и слабые стороны теории идеальных типов М. ье-
бера?
20. Есть ли в истории смысл?
21. Есть ли в истории цель?
•
РАЗДЕЛ III
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 13. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологию исторического исследования следует отличать от
методики. Это относится и к соотношению понятий «метод» и
«методика». С XIX в. в исторической науке утвердилось представле-
ние о методике как совокупности приемов критического анализа
и использования историком привлекаемых им источников. Иначе
говоря, методика — это техника исторического исследования, то
звено исторического мышления и конкретно-исторического ана-
лиза, посредством которого реализуется методология. Теория (ме-
тодология) — методы — методика — такова структура и последова-
тельность исторического мышления при реализации конкретных
исследовательских задач.
Колыбелью методики исторического исследования была гума-
нистическая историография. В Италии эпохи Возрождения начал
формироваться научный аппарат исследования, была впервые
введена система сносок. В этом отношении большое значение име-
ли работы историка Ф.Биондо (1388 — 1463), обосновавшего не-
обходимость ссылок на используемый материал
1
. В целом введение
в историческое исследование научного аппарата было обусловле-
но двумя причинами. Это было, прежде всего, следствием рацио-
нализма гуманистов в подходе к оценке характера исторической
науки как светской по предмету и по методу дисциплины. Отсюда
вытекала необходимость критического отношения к происхожде-
нию и содержанию письменных источников. Особое значение имела
в этой связи разработка приемов лингвистической критики тек-
ста источника. Другой предпосылкой разработки научного аппа-
рата было открытие книгопечатания, которое в огромной степе-
ни способствовало деятельности по обнародованию и критичес-
кому анализу источников.
В эпоху Возрождения, как и в последующем развитии истори-
ческой науки, источниковедческая критика представляла собой
составную часть исторического исследования. Она предполагала
1
См.:
Вайнштейн
О,Л. Историография Средних веков. — М. ; Л., 1940.
216
постановку вопросов о подлинности происхождения источника,
о времени, месте его возникновения, о характере происхождения
содержащихся в нем сведений, об авторе и т.д. Источниковедение
как дисциплина ведет свое начало от эпохи гуманизма. Итальян-
ский гуманист Л.Валла (1405—1457) подверг критическому ана-
лизу средневековый трактат «Константинов дар», в подлинности
которого до этого никто не сомневался. Изучив содержание и язык
текста этого документа, он пришел к неоспоримому выводу о
подложности трактата, доказал, что никакого дарения не было.
Результаты исследования Л. Баллы свидетельствует о взлете мето-
дики исторического исследования.
Следующий важный этап развития методики исторического ис-
следования приходится на начало XIX в., причем особое значе-
ние имела в этой связи научно-исследовательская деятельность
представителей немецкой историографии — Б. Г. Нибура и Л. Ранке.
Последний считался мастером источниковедческого анализа, хотя
его подлинная заслуга в разработке методики критического ана-
лиза преувеличена. Внимание историка в основном концентриро-
валось на внешней критике источников в отличие от внутренней,
подразумевающей анализ содержания источников. Особое значе-
ние Л. Ранке придавал выявлению того, является документ пер-
воисточником или нет, что отражалось на возможности его ис-
пользования.
При всей важности выявления степени достоверности содер-
жащихся в источнике сведений методика исторического исследо-
вания не сводится только к этому. Более того, после решения этой
задачи историк подходит едва ли не к главной проблеме — ис-
пользованию источника по его содержанию. Вполне понятно, что
характер такого использования зависит от самого источника, но
вместе с тем не только от него: одни и те же источники применя-
ются различными историками для доказательства различных пред-
ставлений о прошлом. На использование источников влияют и
другие факторы, для определения которых необходимо рассмот-
реть вопрос о соотношении методологии и методики историчес-
кого исследования.
Согласно одной из точек зрения, методология и методика не
зависят друг от друга. «Методология и методика представляют со-
бой вполне самостоятельные формы познания, характеризуются
специфическими признаками. Методология не может быть сведе-
на к совокупности приемов частнонаучного исследования, к на-
бору правил и процедур исследования. Систему исследователь-
ских технических приемов правильнее называть не методологией,
а методикой...», задача методологии — «дать систему общих тео-
ретических принципов решения научных вопросов»
1
. Это — об-
1
Подкорыстов
Г.А. Историзм как метод научного познания. — Л., 1967. — С. 31.
217
щенаучное представление о соотношении методологии и методи-
ки, обоснованность которого его автор стремится подтвердить дан-
ными из различных областей научного познания. Однако оно оши-
бочно, во всяком случае, по отношению к историческому иссле-
дованию. Практика исторического исследования свидетельствует
о другом — о зависимости подходов и процедур использования
источников от методологии.
Это можно показать на примере истолкования фрагментов из
«Записок о галльской войне» Цезаря, «О местожительстве и про-
исхождении германцев» Тацита и Салической правды. Упомяну-
тые источники имеют важное значение для понимания характера
эволюции аграрных отношений древних германцев в период ран-
него Средневековья, для решения проблемы собственности в по-
земельных отношениях. «Записки о галльской войне» свидетель-
ствуют о господстве общинной собственности: земля занималась
лишь на один год, после чего под пашню отводились новые участ-
ки, что соответствовало, по-видимому, подсечно-огневой систе-
ме земледелия или также тому, что земледелие еще не стало ос-
новным занятием.
Во времена Тацита германцы были оседлыми, земледельчес-
кими племенами. В землепользовании наблюдаются значитель-
ные перемены. В работе Тацита говорится об отсутствии частной
собственности на землю: земля занимается всеми вместе пооче-
редно и вскоре они делят ее между собой «по достоинству». «До-
стоинство» — это, скорее всего, то новое, что существенно от-
личает общество времен Тацита от общества эпохи Цезаря: со-
циальное расслоение при наличии общины и ее верховных прав
на землю.
Салическая правда свидетельствует об аграрной эволюции и
дальнейшем изменении порядка землепользования. В соответствии
с этим документом верховным собственником пахотных земель-
ных угодий у германцев был общинный коллектив. Это ясно и из
ряда титулов правды. Так, согласно титулу 59 женщины не имеют
права получать землю по наследству, чтобы надел не стал соб-
ственностью другой общины при экзогамном браке. Аллод в соот-
ветствии с этим не был частной собственностью. О его постепен-
ном превращении в таковую свидетельствует эдикт Хильперика
(вторая половина VI в.), по которому надел переходит по наслед-
ству ближайшим родственникам обоего пола, но не соседям (§ 3
эдикта).
В первом случае при отсутствии мужских наследников землю
наследовали соседи, т.е. члены общины. О прочности общины го-
ворит титул 45, запрещавший вселение в общину людей из дру-
гой местности, если хоть один из жителей деревни заявит протест
Наконец, об отсутствии частной собственности на землю свиде-
тельствует отсутствие в Салической правде каких бы то ни было
218
данных о купле-продаже земли, о ее дарении, завещании. Что же
касается социальной дифференции в обществе, то она стала еще
более глубокой: появилось патриархальное рабство. Причем один
свободный франк мог иметь несколько рабов, а другой — ни
одного, т.е. появилась знать и т.д.
Данные этих источников по-разному истолковывались пред-
ставителями марковой теории и ее критиками. Автор марковой
теории Г.Л.Маурер и его сторонники считали, что родовая об-
щина, осевшая на землю, положила начало формированию аг-
рарного строя у германских племен. Земля, находившаяся в рас-
поряжении общины, предоставлялась ею во временное пользова-
ние общинникам и по истечении назначенного срока пользова-
ния вновь возвращалась в распоряжение общины для передела
1
.
Под влиянием римского права понятие «частная собственность на
землю» стала у германцев реальностью. Переход земельных участ-
ков из рук в руки, концентрацию собственности в руках отдель-
ных лиц Г. Л. Маурер объяснял ростом численности населения. Ни
римское право, ни рост народонаселения, конечно, *не объясня-
ют возникновение частной собственности на землю, как и воз-
никновение крупной земельной собственности. Тем более оши-
бочным является вывод Г.Л.Маурера об исконности господского
двора и вотчины у древних германцев. Однако по основным пози-
циям — господству общинного строя и отсутствию частной соб-
ственности на землю у германцев — выводы этого историка впол-
не соответствуют данным источников. Это соответствие стало воз-
можным благодаря убеждению Г.Л.Маурера в том, что частная
собственность на землю не является исконной, а складывается с
развитием аграрных отношений. Это убеждение имеет важное ме-
тодологическое значение. Достоинством истины в данном случае
обладает и сам этот тезис, и характер методики истолкования ис-
точников Г. Л. Маурером.
Иной точки зрения при изучении той же самой проблемы при-
держивались немецкие историки — критики Г.Л.Маурера. Согласно
Р.Гильдебранду (1812—1878), главным методологическим прин-
ципом использования упомянутых источников является искон-
ный характер частной собственности на землю в истории в це-
лом, а не только в конкретном случае
2
. Этот тезис выведен Гиль-
дебрандом не из изучения рассматриваемой проблемы, а предше-
ствует ему. В такой ситуации нет ничего необычного: историк при
исследовании всегда опирается на какую-то методологическую
основу. Важно, насколько она помогает ему в адекватном пони-
1
См.:
Маурер
Г. Л. Введение в историю общинного, подворного, сельского и
городского устройства и общественной власти / пер. В. Корша. — М., 1990.
2
См.:
Hildebrand
R. Recht und Eitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen
Kulturstugen. — I Teil, Jend, 1896.
219
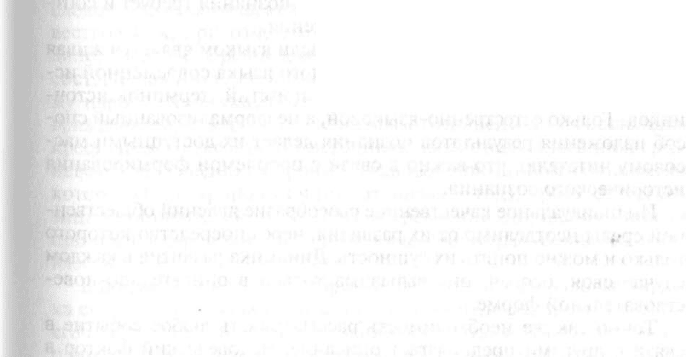
мании изучаемого явления и насколько теоретически доказана.
На какую методику использования источников опирался Р. Гиль-
дебранд для доказательства упомянутого тезиса? Что касается дан-
ных Цезаря, то они вообще выводятся за рамки проблемы земель-
ной собственности на том основании, что у германцев того вре-
мени не было ни общинной, ни частной собственности, земля
была ничьей. Так как система земледелия не была развита, семьи
объединялись с целью раскорчевки почвы и обработки целины,
но это были не трудовые коллективы, а всего лишь временное
объединение нескольких родственных семей. Таким образом, ни
собственности, ни общины не было. Довольно, надо сказать, из-
воротливый прием мышления.
Примерно так же на свой манер Р. Гильдебранд истолковывает
и Тацита, с той лишь разницей, что в данном источнике он нахо-
дит свидетельства социального расслоения общества древних гер-
манцев на свободных и зависимых людей. Раскорчевка занятой
земли производилась совместными усилиями зависимой рабочей
силы, но это не приводило, по мнению Р. Гильдебранда, ни к
появлению права собственности на землю, ни к возникновению
реального трудового коллектива общинников. Историк связывает
проблему землепользования с введением в оборот новых земель.
Но дело в том, что Тацит свидетельствует о регулярных переделах
уже введенной в оборот земли, а не только впервые вводимой,
хотя было и то и другое. Утверждения историков о переделах зем-
ли, наличии системы открытых полей и принудительного сево-
оборота, согласно Р. Гильдебранду, являются несостоятельными.
Однако в реальности воззрения самого Р. Гильдебранда несостоя-
тельны в большей степени.
Наконец, при истолковании данных Салической правды дока-
зательство наличия частной собственности на землю сводится к
тому, что у салических франков появляется собственность на зем-
лю, причем, по мнению Р. Гильдебранда, это была изначально
частная, вотчинная собственность, права же крестьянской соб-
ственности не существовало. Термин villa Р. Гильдебранд истолко-
вывает как синоним двора отдельного вотчинника, хотя для тако-
го вывода нет оснований: виллой мог быть один двор, небольшое
поселение, большая деревня, но в любом случае не вотчина.
В основе процедуры наследования земли, изложенной в титуле 59,
по мнению Р. Гильдебранда, лежит собственность и совладение
наследников. Запашка нови производилась всеми собственниками
или с согласия каждого из них, причем после каждой такой рас-
пашки происходил передел всей пашни, чтобы избежать черес-
полосицу. Согласно Р. Гильдебранду, эдикт Хильперика устраняет
право соседей на наследие именно в этом смысле. На самом же
деле с возникновением аллода как держания, чем он был в эпоху
Салической правды, закладывалась основа его превращения в ча-
220
стную собственность, что произошло позже. Упомянутый эдикт
является одним из этапов такого превращения, оставляя право
наследования за родственниками обоего пола. Это значит, что по
Салической правде земля передавалась соседям на правах держа-
ния и на основании их принадлежности к общине, наличие како-
вой Р. Гильдебранд отрицал. Он считал, что данный источник не
доказывает ее существование
1
.
Таким образом, мы имеем два варианта методики историчес-
кого исследования проблемы возникновения аграрных отноше-
ний и порядка землепользования у древних германцев. В обоих
случаях характер и различие этих вариантов определяются исход-
ной методологической позицией — отрицанием извечности част-
ной собственности на землю или, напротив, признанием таковой.
И в том и в другом случае данная позиция не могла быть сформи-
рована только в результате изучения аграрных отношений древ-
них германцев и имеет общеисторический характер. Она наглядно
свидетельствует о том, как различные методологические принци-
пы определяют методику исторического исследования и реализу-
ются в качестве основы формирования тех или иных представле-
ний о прошлом. Варианты этих представлений не имеют в равной
степени значения истины, что также показано на приведенном
примере взаимосвязи методологии и методики исторического ис-
следования.
См.: Данилов А. И. Проблемы аграрной истории.
