Соболева М.Е. Философия как критика языка в Германии
Подождите немного. Документ загружается.


в
случае научных классификаций, которые никогда «не
прои
сходят из
су
щности
вещей»
[Nietzsche 1966: 313-314].
Таким образом, согласно Ницше, все человеческое познание
«есть
и
змерение по собственному масштабу� [Nietzsche 1988: 467, ср.
468,
49
4];
3
1
весь интерсубъективный мир представляет собой лишь «раз
мно
женное отображение одного прообраза, человека� [Nietzsche 1966:
316]. Причем язык «так же мало, как риторика, относится к истинно
м
у, к сущности вещей, он хочет не поучать, а передать субъективное
р
дражение и предположение
другим»
[Nietzsche 1995: 425-426]. Ина
че
говоря, «язык есть риторика, так как он хочет передавать только
06�, а не (П�
[Nietzsche 1995: 426].
Знанuе есть «doxa», а не «episteme». Понимание языка как
риторики подрумевает не только его структурную, но и функцио
нальную идентичность с
последней.3
2
Так же, как «задача оратора со
стоит в том, чтобы убедить своего слушателя при помощи вероятного�
[Nietzsche 1995: 418], так и задача языка заключается в выработке об
щественного консенсуса относительно взглядов на мир: «Язык созда
ется
отдельными творцами (Sprachknstler), но утверждается за счет
того, что выбор осуществляет вкус многих� [Nietzsche 1995: 427]. На
основе «языковых конвенций� [Nietzsche 1966: 311], сущность которых
состоит в том, что они представляют собой «узуальные метафоры�
[Nietzsche 1966: 314], возникает докса.
В основании апологии доксы у Ницше лежит ее истолкование в
качестве общепринятого взгляда на мир, вырабатываемого в рамках
определенного языкового сообщества. «Мнение� в данном случае и
есть та самая «метафизика языка� или картина мира, о которых го
ворилось выше, т. е. это убеждения и представления, имплицитно «ра
тифицированные�
33 языковым коллективом. Понимаемая таким обра
зом докса есть, следовательно, честная ложь, основанная на «вере в
истинносты выдвигаемых суждений [Nietzsche 1988: 473], правдопо
добная
кажимость (Schein), неосознаваемая иллюзия.
Своей риторической способностью к убеждению, т. е. обществен
ной значимостью своих метафор, язык обязан тому, что пригодность
созданного им образа мира подтверждается в ходе практической
дея
тельности людей, руководимой их специфическими интересами.
Дру
гими словами, решающим фактором для утверждения метафор
высту
пает
не их истинность, а их
убедительность, оправдываемая
прагма
тикой
жизни. Языковые конвенции имеют, таким образом, не
столько
эпистемич
еский, сколько прежде всего практический
характер. На это
3
1
см. также: Nietzsche Р. Von den
Vorurteilen der Philosophen в [Nietzsche
1980,
4: 585]. В русском двухтомном издании данная фра отсутствует.
3
2
ср. с мнением й. Коппершмидта [Kopperschmidt 1994: 48, 50, 53].
33
Термин й. Коппершмидта [Kopperschmidt 1994: 45, 48].
69
обстоятельство указывает Ю. Хабермас: «Ницше видел, что нормы по
знания и нормы действия не являются принципиально независимыми
друг от друга, что существует имманентная связь между познанием
и интересом. [Habermas 1968: 242]. Поэтому создаваемый человеком
образ мира представлен у Ницше, по мнению Хабермаса, как «специ
фический для человеческого рода проект возможного освоения при
роды. [Habermas 1968: 258]. Также Й. Коппершмидт полагает, что в
основу представления об окружающем мире Ницше кладет практиче
ский консенсус между людьми, базирующийся на их «общем интересе
к самоутверждению в мире. [Kopperschmidt 1994: 54].
Для nрогресса в филосии еобходима nритиnа ЯЭnа.
Открытие Ницше риторической природы языка существенно не только
для анализа самого языка, но и для анализа основывающегося на язы
ке познания. Критика доксы должна вступать в силу там, где начинает
абсолютизироваться власть языка, т. е. там, где докса начинает выда
вать себя за эпистему, претеня при этом на владение абсолютной ис
тиной. Как отмечает Ницше, докса легитимирует создаваемые языком
представления о мире и тем самым выступает как властная инстанция,
к важным функциям которой относится контроль за правильностью
единичных мнений. Таким образом, докса не только фиксирует то,
что должно признаваться в качестве истинного [Nietzsche 1966: 311],
но и требует его признания, несмотря на то, что сама она существует в
соответствии с риторическими законами «правдоподобного. или «убе
дительного •. Неспособность доксы к саморефлексии имеет следствием
догматизм в теоретической сфере и ханжество в практическоЙ.
Этот упрек Ницше адресует прежде всего философии и тем фи
лософам, которые «попали в сети языка. [Nietzsche 1988: 463]. Как
он считает, находящуюся в плену языка философию отличает особый
вид «забывчивости. [Nietzsche 1966: 314], а именно она не помнит о
том, что в основании объективности мира находится «законодатель
ство языка. [Nietzsche 1966: 311], т. е. что объективность была консти
туирована языковым сообществом в ходе фактического использования
языка. Критика познания Ницше направлена тем самым против наив
ного языкового реализма философии, не признающей или забывшей
об имманентной риторичности языка. Как он считает, вся схоластика
грешит тем, что не учитывает относительного характера истины, ко
торой оперирует в своих рассуждениях, не учитывает того, что истина
есть «подвижное множество метафор, метонимий, антропоморфизмов,
короче говоря, сумма человеческих отношений, которые были поэти
чески и риторически усилены (gesteigert), перенесены, украшены и по
сле длительного использования народом кажутся прочными, канони
ческими и обязательными. Истины суть иллюзии, о которых забыли,
что они являются таковыми; метафоры, которые стали изношенными
70
и
чувственно бессильными; монеты, которые потеряли
свои
изобра
жения (Bild), и теперь рассматриваются (in Betracht kommen)
не как
м
онеты, а как металш� INietzsche 1966: 314].
Важный пункт критики метафизики Ницше состоит в том, что
она
н
е принима в расчет конституирующего интерсубъективный мир эс
тетического измерения языка. Следовательно, она не учитывает того
факта, что весь ее понятийный аппарат возник благодаря творческой
поэтической деятельности людей, и того, что за объективностью сто
ит создающая смысл субъективность. Согласно Ницше, любое понятие
есть «остаток метафоры., метафора есть «если не мать, то бабушка
каждого понятия. INietzsche 1966: 315] и ее «затвердение. в понятии
не гарантирует ее «необходимости и исключительного права. INiet
zsche 1966: 317] в познании. Поскольку язык всегда выражает также
определенный результат познания, то он не свободен от ошибок: «То,
что мы теперь зовем миром, есть результат множества заблуждений и
фантазий, которые постепенно возникли в общем развитии органиче
ских существ, срослись меж собой и теперь наследуются нами как
скопленное сокровище всего прошлого. IНицше 1990, 1: 249]. Гипоста
зирование языка приводит поэтому к возникновению ложных сужде
ний: «Я боюсь, что мы не освободимся от бога, потому что еще верим
в грамматику. IНицше 1990, 2: 571].
Критика Ницше показывает также, что забвение конститутивной
метафоричности языка создает иллюзию того, будто язык обеспечи
вает прямой доступ к вещам, обладает самими «чистыми объекта
ми. INietzsche 1966: 316], непосредственным знанием фактов. В свя
зи с этим Ницше подвергает критическому анализу знаменитое де
картовское выскывание о непосредственности сознания субъектом
собственного мышления. Как он считает, фра «Я мыслю. является
интерпретацией процесса, а не относится к самому процессу. Поэто
му
в данном случае речь идет не о «непосредственной уверенности.,
а о неосознаваемом заключении на основании слеющей граммати
ческой схемы: «Мышление есть деятельность, ко всякой деятельно
сти
причастен некто дейст
n
ующий, следовательно ...• IНицше 1990,
2:
253]. Также и о воле философия говорит как о простом,
нерложи
мом и очевидном феномене. Ницше показывает, что язык
обманыва
ет и в этом случае, поскольку здесь одно понятие объедин
яет в себе
различные действия и состояния. Воля
представляет собой
комплекс,
включающий
в себя ощущения,
мышление и аффекты
IНицше
1990, 2:
254].
Следующий важнейший
недостаток метафизики
Ницше видит в
том
, что она не учитывает того,
что все ее постро
ения, все категори
альное упорядочивание мира осуществляется в рамках
риторических и
грамматических праформ. Так же,
как «каждое
творческое образова
-
71
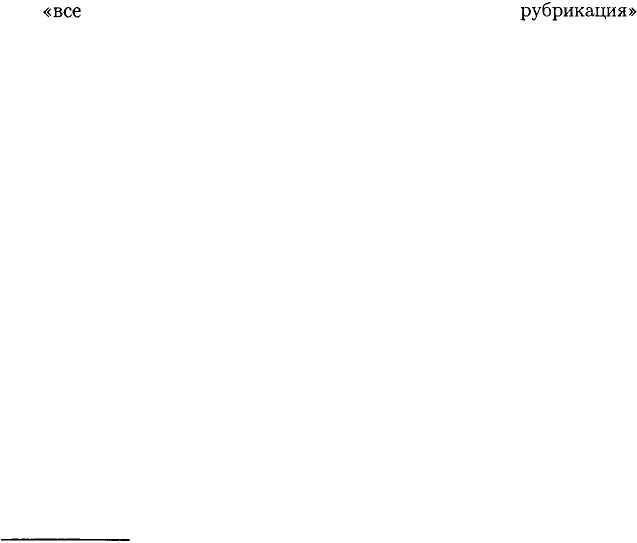
ние метафоры [ . .. 1 уже предполагает эти формы, т. е. осуществляется
в них», так только с учетом этих праформ «объясняется возможность
того, как из самих метафор могло быть затем конституировано постро
ение понятий» [Nietzsche 1966: 3181. Это влияние «общей философии
грамматики» на систематическое мышление отчетливо прослеживает
ся
, по мнению Ницше, в «сходстве» философских систем родственных
в
языковом отношении народов
[Ницше 1990, 2: 2561.
Пр
огресс в фосии воэосен тоО при ее сотруд
ниестве
с эnириеСии дисциnинаи. Суммируя вышеска
за
нное, можно заключить, что основной упрек, который Ницше адре
сует
философии и схоластической науке, заключается в отсутствии у
них
саморефлексии, в том, что они не анализируют своих собственных
оснований. Согласно Ницше, наука в целом и философия в частности
образуют единый континуум с языком, поскольку сознательно про
должают то, что неосознанно совершает язык, а именно продуцируют
понятия [Nietzsche 1966: 3201 и используют при этом те же самые сред
ства, например метафоры [Nietzsche 1988: 4731. Вся спекулятивная на
ука,
«все объяснение и познание есть, собственно, только рубрикация»
[Nietzsche 1988: 4861.
Методическое осмысление языка как предпосылки познания пре
вращается у Ницше в одно из основных требований к теории позна
ния. Совершенное им «открытие риторики в качестве методического
инструмента критики познания, основанной на критике языка» [Кор
perschmidt 1994: 42, ср. 471, - важный шаг на пути проблематизации и
тематизирования научным мышлением своего собственного фундамен
та. Это открытие наметило, по словам п. де Мана, «лингвистическую
парадигму par ехсеllепсе» [Мап 1988; цит. по: Kopperschmidt 1994: 471.
Не желая умалять отмечаемое авторитетными исследователями
огромное значение критики языка Ницше для его теории познания,
добавим, что миросозидающая деятельность самого языка, по Ницше,
возможна благодаря одинаковому физиологическому строению людей
и свойственному человечеству практическому интересу к обустройству
мира в целях собственного самосохранения. Таким обром, помимо
языка конституирующая «мир представления» субъективность име
ет как минимум еще две составляющие: физиологическую и связан
ную с деятельностью прагматическую
.34
Недаром Ницше настаивает
на сотрудничестве философии не только с лингвистикой, но и с други
ми «генеалогическими» дисциплинами, такими как психология [Ниц-
3
4
3аметим, что г. Шнедельбах говорит только о двух сторонах конституирую
щей
мир субъективности - спсихологическоЙ. и «грамматической. [Schnelbach
2001: 8] , что противоречит выделению им «прагматически-функционьного и
«грамматического. аспектов критики рума у Ницше [Schnelbach 2001: 9].
72
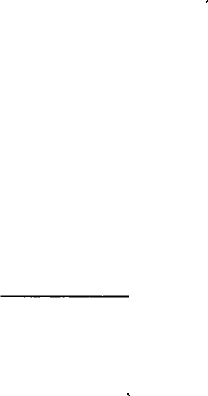
ш
е 1990, 2: 2591, история,35 теория эволюции,36 история
науки
и т. д.
По его мнению, �He существует никакой обособленной философ
ии от
дельно от науки. [Nietzsche 1988: 4441.
Лишь совместными усилиями всех наук возможно:
Во-первых, определение лингвистических, физиологических,
пси
хологических, прагматических и исторических а priori, на которых ос
новывается познание.
37
Основываясь на эмпирическом фундаменте,
философия может и должна �подчеркнуть относительное и антропо
морфное всего познания, так же как господствующую повсю силу
иллюзии. [Nietzsche 1988: 4291.
Во-вторых, освобождение философии от свойственных ей предрас
судков, и прежде всего от ее нацеленности на обладание абсолютной
истиной. Как полагает Ницше, в мире нет ничего постоянного и веч
ного, мир перманентно пребывает в состоянии становления, поэтому
не может быть ни �вечных фактов., ни �вечных истин.. Необходи
мость согласования философией своих положений с состоянием дел в
частных науках и осознания роли языка для познания должна стать
мощным стимулом для того, чтобы время от времени подвергать их
ревизии.
В-третьих, лишение науки в целом, включая философию, привиле
гированного места в ря других видов деятельности человека. Ниц
ше отмечает, что общественная ценность и престиж научного знания
так высоки, что познание превращается в �эрзац культуры., при этом
часть подменяет собой целое [Nietzsche 1988: 4721. Однако такая под
мена неправомерна, поскольку помимо познания существуют другие,
не менее важные для человека стороны жизни: � ... наука обосновыва
ет ход природы, но никогда не может повелевать человеком. Склон
ность, любовь, желание, нежелание, возвышение (ЕrhеЬuпg), истоще
ние - всего этого наука не знает. [Nietzsche 1966: 3431. Антисциентизм
и антиинтеллектуализм Ницше проявляются в том, что он призывает
к
�укрощению (Впdiguпg) и ограничению познания в пользу жиз
ни,
культуры. [Nietzsche 1988: 6331, а науку предлагает уравнять по
ценности с другими видами творчества. Она должна быть осмыслена
как
один из многих видов символизирующей деятельности человека,
нацеленной
на его адаптацию к миру и удовлетворение потребностей.
Антитезой
познанию выступает искусст
во, которое, по мнению
Ниц-
35
«Отсутствие исторического чувства есть
наследственный недостаток
всех фи
лософов [Ницше 1990, 1: 240, ср. 252].
36
«Вопрос о том, каким обром наша
картина мира может так
сильно отли
чаться
от освоенного существа мира, будет с
полным спокойствием
предоставлен
физиологии и истории рвития организмов и
понятий.
[Ницше 1990, 1: 244].
3
7
Согласно Ницше, человек «должен понять
историческу
ю, а также психологи
ческую правомерность таких представлений [Ницше 1990, 1: 252].
73

ше,
«возвращает
к жизни», «усиливает моральные и эстетические ин
стинкты»
[Nietzsche 1988: 430].
*
*
*
в качестве
характерной черты рассуждений Ницше о познании
можно выделить
то, что проблемы познания он рассматривает не как
узкоспециал
ьные проблемы одной конкретной дисциплины, а как об
щие проблемы культуры, которые должны
решаться интердисципли
нарно
. Познание для него - элемент комплексной жизни человека, тес
но
связанный с другими элементами и выполняющий наря с ними
определенную задачу. Поэтому оно должно быть осмыслено в широ
ком
контексте культуры как ее важнейшая составляющая с учетом
таких его аспектов, как происхождение и эволюция, виды и способы
познания и их взаимоотношения, общественные функции и ценность,
значение для индивиума, взаимосвязь с другими подсистемами жиз
ни и пр. «Это проблема культуры: познание и жизнь», - утверждает
Ницше [Nietzsche 1988: 472].
Бируясь на этих принципах, практикуемый им подход к иссле
дованию познания через критику языка идет не по пути аналитизма,
остающегося в рамках философии языка, а перерастает в глобальную
критику культуры. Таким обром, Нuцше nозволuтельо сuтать
одиим uз ocовоnоложов «сnе�Лтuвой» рuтшсu ЗЪLа, в a
естве тunuого nрuзаа оторой ожо устаовить теати
зuроваuе ЗЪLа u nозаu в их соотесеости с целостостью
еловееСого БЪLтu.
Одно из следствий критического отношения Ницше к метафизике
и организованной на метафизических принципах науке
3
8
- его ниги
лизм, отрицающий основополагающие принципы западной культуры,
прежде всего ее логоцентризм39 и абсолютизацию имеющихся ценно
стей,4
0
а также предвещающий эпоху «полифонии» различных стилей
38
3десь имеется в виду прежде всего иерархическая организация знания [Niet
zsche 1966: 315], его систематичность, основанная на принципе обратной перспек
тивы, -когда самые общие и неограниченные понятия возводятся в ранг первых и
пони маются как causa sui, а конкретное признается в качестве случайного и несу
щественного [Ницше 1990, 2: 569-570].
3
9
Следующие выскывания Ницше могут служить примерами, подтверждаю
щими данное утверждение: 1. «В познании человечество имеет прекрасное средство
к
гибели. [Nietzsche 1988: 476] . 2. «Действительно, мы могли бы думать, чувство
вать, хотеть, вспоминать, мы могли бы также "действовать" в любом смысле этого
слова, и притом BCE.dY этому не было бы никакой нужды "включиться в наше созна
ние" (обрно говоря). Жизнь была бы вполне возможна и без того, чтобы видеть
себя как бы в зерке. [Ницше 1990, 1: 674].
40 «Почему приближение (Herauunft) нигилизма необходимо? Так как наши
74

искусства, различных видов и ступеней морали, традиций,
культур
[Ницше 1990, 1: 2541. Осуществленная посредством критики языка
де
струкция метафизики и новое видение культуры как эпохи «экуме
ни
ческого» [Nietzsche 1980, 2: 46614
1
сосуществования различных
форм
символизации мира сущностно связаны друг с другом. Ведь именно
открытие языка как фундамента познания освобождает место для но
вой стратегии мышления - стратегии интерпретации, а открытие его
имманентной риторичности разбивает иллюзию философии и науки об
обладании абсолютной истиной и приводит К разрушению традицион
ного представления об иерархической ценности различных форм
ховной культуры. Благодаря вниманию к языку антиметафизическое
мышление, возникновение которого обычно связывают с кантовской
заменой «структуры мира на структуры ха»,4
2
в критике познания
Ницше приходит к спецификации ха как совокупности рличных
символических систем.
Использование Ницше критики языка для критики культуры пред
знаменовало новое направление в философии, по которому пошло ее
рвитие в ХХ в. Это обстоятельство может служить дополнительным
аргументом (помимо его идей о воле к власти, сверхчеловеке, «вечном
возвращении» и т. д.) В пользу того, чтобы считать его провозвестни
ком философии постмодерна. 43
3
.
НЕ
М
Е
Ц
КИ
Е
«
Р
О
Д
О
Н
А
Ч
А
ЛЬ
Н
ИКИ
�
А
Н
А
ЛИ
Т
И
ЧЕС
К
О
Й
ФИЛ
О
С
ОФИИ
Я
ЗЫК
А
:
Ф
Р
И
Т
Ц МА
УТНЕР
,
ГО
Т
Л
О
Б
Ф
РЕ
Г
Е
Ф
ритц
М
а
у
т
н
ер
Фр
итц Маутнер (1849-1923) считается основоположником той
традиции в философии языка, которая оказала влияние на
л.
Витгенштейна и через него на становление того направления ана
литической философии, которое нацелено на исследование естествен-
прежние ценности сами есть то, последним следствием чего он является; так как
нигилизм есть до конца продуманная логика наших великих ценностей и идеов;
так
как мы снача должны пережить нигилизм, для того, чтобы узнать (dahinter
zu kommen), что, собственно, было ценностью этих "ценностей" [ ... ] Нам понадо
бятся когда-нибудь новые ценности. [Nietzsche 1966: 635].
41
В цитируемом русском переводе данной фры нет.
4
2
Слова Н. Гудмана здесь приводятся по [Tebartz-van Elst 1994: 109] .
4
З
Такое мнение довольно распространено. В этом смысле выскывается, напри
мер,
ю. Хабермас [Haberm 1977: 240], а также Г. Шнедельбах, который полагает,
что
Ницше не только облад даром предвидения, но и, как «сейсмограф., зареги
стриров
те напряжения, которые получили свою ррядку в ХХ в. [Schndelbach
2001: 4] .
75
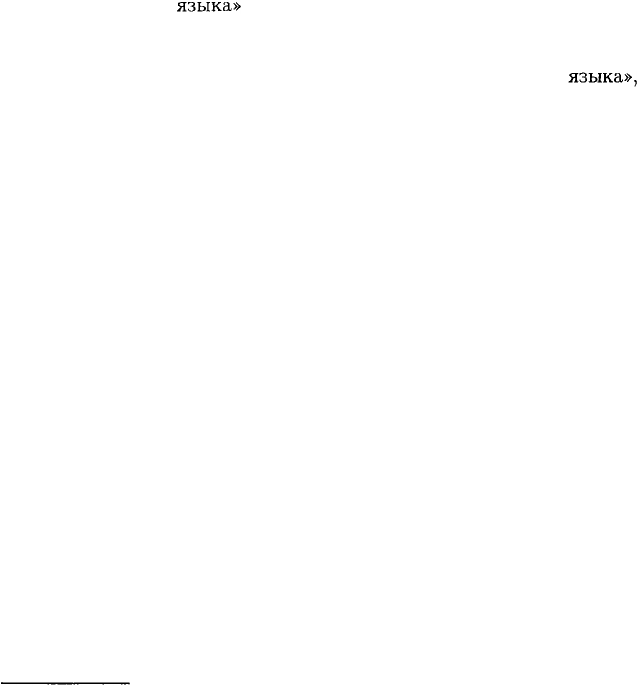
ного языка
[Leinfellner-Rupertsberger 1992: 495; Albrecht 1991: 80].44
Его ключе
вые труды в области философии языка - трехтомная работа
«Статьи к
критике
языка»
(1901-1902), содержащая более двух тысяч
страниц;
статьи «Адъективный мир», «Субстантивный мир» и «Вер
бальный
мир», включенные в трехтомный «Философский словарь
новые
статьи к критике языка» (1910-1911); статья «Критика
языка» ,
вошедш
ая в третье издание «Словаря», в которой подробно исследу
ются отношения между языком и мышлением; эссе «Язык» (1907),
посвященное проблемам взаимоотношения языка и этнической пси
хологии, а также вышедшая посмертно работа «Три картины мира»
(1925).
Характеризуя маутнеровский проект «критики языка» в целом,
можно сказать, что он нацелен на исследование языка в качестве ин
струмента познания и отражает позицию радикального скептицизма
относительно возможности познания мира именно в силу обусловлен
ности последнего языком. Вывод, которым Маутнер заканчивает пер
вый том своих критических исследований языка, заключается в сле
ющем: «Таким обром, именно язык сочиняет для нас стихи и мает,
обманывает нас на некоторой высоте Фата Морганой истины или по
знания мира, отпускает нас на крутейшем склоне и кричит нам: "Я
был плохим вожатым! Освобождайся от меня!"» [Mauthner 1982, 1:
713] . Отсюда в качестве «высшей цели самоосвобождения» для чело
века возникает задача освободиться от языка. Выполнить эту задачу
призвана философия, которая должна стать критикой познания, и в
этом качестве прежде всего - критикой языка.
Понимание критики языка как фундамента теории познания свя
зано с отождествлением Маутнером мышления и языка. Лишь изучая
язык, можно до известной степени понять сущность мышления. Как он
считает, «если бы мы обладали историей языка [ . . . ], то в ней мы име
ли бы также историю человеческого мышления или, скорее, историю
44ф. Маутнер родился в Горице, в Чехии. После окончания гимнии поступил
на юридический факультет в Праге, но не окончил его. С 1876 г. он жил в Гер
ма
нии, где снача работ театрьным критиком в гете «Berliner Tageblatt.
(до 1883 г.), затем сотруднич с гетой .Schorer's Familienblatt. (до 1888 г.). В
1889-1891 гг. издав (совместно с Г. Ландауэром и О. Нойманом-ХоФе) журны
«Германия» и «Литературный журн •. С 1895 по 1905 г. возобновил контракт
с «Berliner Tageblatt. и продолжил (с коротким перерывом) свою деятельность в
качестве театрьного критика. В 1905 г. переех в Фрайбург, где ст членом
Кантовского общества. Автор многочисленных эссе, романов, поэтических сборни
ков, критических статей, философских произведений, он зарабатыв в основном
литературным трудом. С 1909 г. Маутнер жил в Меерсбурге на Боденском озере.
В 1912 г
. издав «Библиотеку философа •. В
1919 г. ему было присвоено звание
почетного гражданина Меерсбурга. В 1921 г. он вел семинары по философии в
меерсбургском отделении Кантовского общества. Умер Маутнер 29 июня 1923 г. в
Меерсбурге.
76
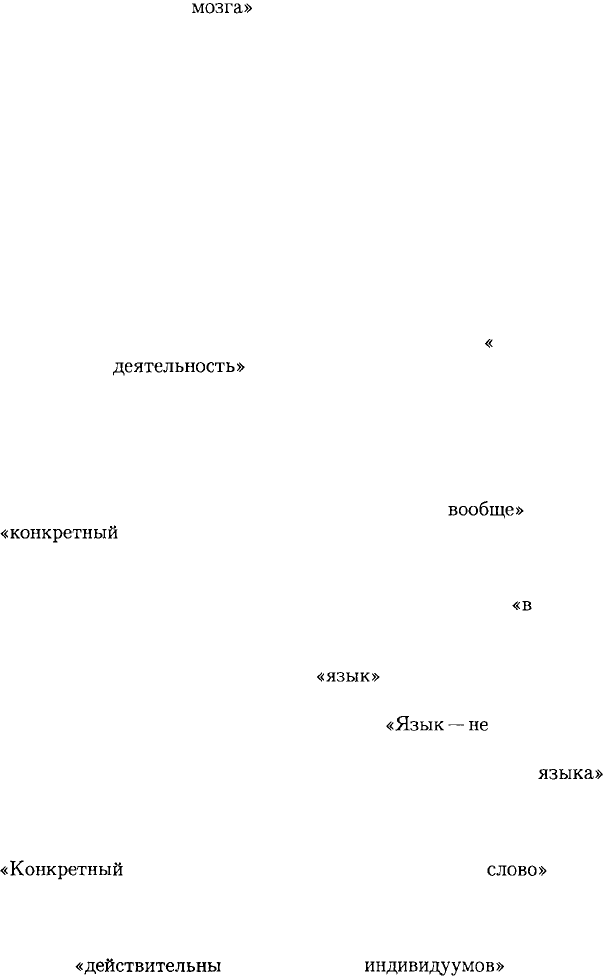
р
азличных способов мышления народов. Идеалом такой
истории спо
с
обов мышления народов была бы, в принципе, история челове
ческой
д
уши или человеческого
мозга»
[Mauthner 1982, 1: 639]. Однако
такой
проект - только желаемое, поэтому свои усилия Маутнер сосредото
чивает на синхронном анализе языка. В поле его внимания попадают
такие вопросы, как отношение между мышлением и языком, психоло
гия языка, законы его возникновения и функционирования, грамма
тика и логика, отношение языка и мышления к действительности и
т. д. Поскольку затронутый Маутнером круг проблем необычайно ши
рок, то мы реконструируем и рассмотрим только те его аргументы,
которые объясняют его скептическое отношение к языку как средству
познания.
Коuеnuя Я3а а uuдuвuдуалъuой деяmелъuосmu. Ха
рактеризуя в целом представления Маутнера о механизмах функци
онирования языка, можно скать, что он понимает язык как инди
видуальную деятельность по производству речевых актов на основа
нии памяти. Основной постулат его концепции гласит:
«
... речь или
мышление есть
деятельность»
[Mauthner 1982, 1: 517]. Это означает,
что бытие языка состоит единственно в его использовании - не нахо
дя употребления, он умирает. Язык есть совокупность отдельных рече
вых актов, он существует только на протяжении речи, рговора, т. е.
только в настоящем, которое приобретает в маутнеровской концепции
характер длительности.
Отсюда слеет, что такие понятия, как «язык вообще»
или да
же
«конкретный
язык», - лишь вводящие в заблуждение абстракции
[Mauthner 1982, 1: 18, 184]. Эти абстракции вызывают представление
о том, что язык есть нечто материальное, существующее само по себе,
тогда как на самом деле он обретает свою действительность
«в
народе,
между людьми» в момент говорения [Mauthner 1982, 1: 19].
Стремясь подчеркнуть эту важнейшую особенность языка, Маут
нер предлагает откаться от понятия
«языК»
и заменить его на слово,
обозначающее деятельность, - на глагол «говорить» [Mauthner 1982,
1: 16]. Итак, язык не есть некая субстанция:
«Язык -не
предмет по
требления, также не инструмент, он вообще не является
предметом, он
есть не что иное, как использование. Язык есть использование
языка»
[Mauthner 1982, 1: 24].
Данное определение фоноцентрично, из него слеет,
что язык
есть прежде всего устная речь.
Действительно, Маутнер
утвержда
ет:
«Конкретный
язык есть всегда
только произнесенное
слово»
[Маи
thner 1982, 1: 62]. Все остальные его формы - письмо,
язык жестов,
искусственный язык глухонемых и т. д. - производны от устной речи
[Mauthner 1982, 1: 4, 213]. TaKO� представление подготавливает вывод
о том, что
«действительны
только языки
индивиумов»
[Mauthner
77
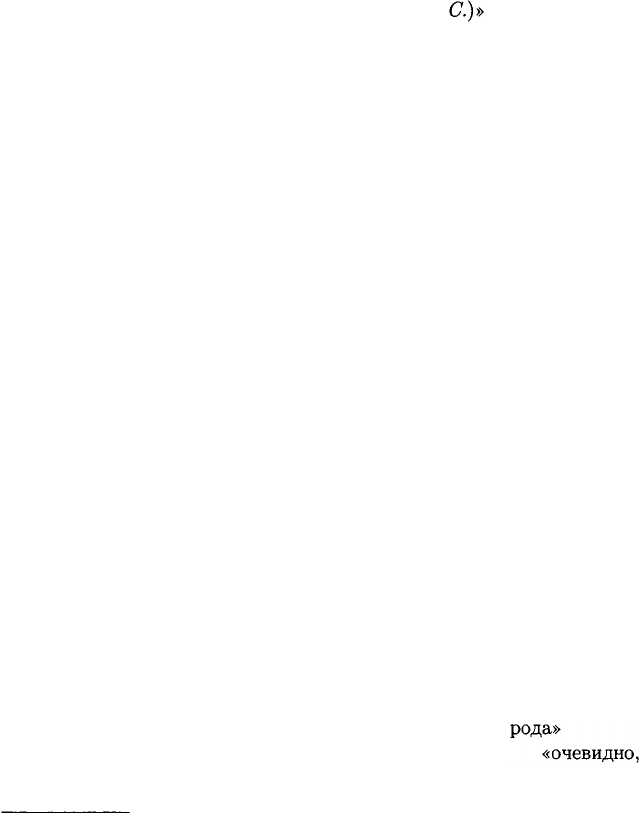
1982, 1:
185], что основной
формой существования языка выступает
uдuоле
. Идиолекты людей, принадлежащих к одному и тому же
языко
вому сообществу, образуют отдельный этнический язык. Одна
ко
в силу
того, что этнические языки существуют во времени и при
этом
постоянно видоизменяются, то говорить о том, что они в качестве
родного языка являются «общими» для некоей группы людей, можно
лишь в том смысле, в каком допустимо говорить об общем «горизон
те» - «не сущевует двух людей с одинаковым горизонтом, каждый
есть центр своего собственного (горизонта. - М.
с.»> [Mauthner 1982,
1: 19].
Совместный горизонт ограничивает пространство этнического язы
ка, функционирующего на базе объединенных в группы относительно
самостоятельных идиолектов, как пространство единой языковой «об
щественной игры» (Gesellschasspiel). Эта игра проходит по опреде
ленным правилам (Regeln), причем любое правило «становится тем
более обязательным, чем больше игроков ему подчиняется» [Mauthner
1982, 1: 25]. Правила игры - логические, грамматические, синтакси
ческие «суть признаки языка, они находятся в известной степени в
самом языке» [Mauthner 1982, 1: 11], но актуализируются только в
ходе межличностного общения. Как утверждает Маутнер, язык есть
«социальная действительность» [Mauthner 1982, 1: 18, ср. 27, 29]; не
может существовать язык «одного-единственного» человека, для того
чтобы он возник, необходимо наличие как минимум двух партнеров
[Mauthner 1982, 1: 29]. Тем самым Маутнер задолго до Битгенштейна
оспаривает возможность существования «частного языка» и отстаива
ет его интерсубъективную и диалогичную природу.
Итак, язык есть совокупность происходящих по определенным пра
вилам речевых актов - или, по словам Маутнера, «движений», произ
водящих звуки или языковые знаки, обладающие значением. Значение
звуки получают благодаря связанным с ними представлениям, храня
щимся в памяти, наличие которой представляет собой условие возмож
ности языка: «Язык всегда есть движение звука, который является
знаком какого-либо унаследованного или приобретенного воспомина
ния» [Mauthner 1982, 1: 199].
4
5
Здесь важно отметить, что Маутнер различает индивидуальную и
коллективную память. Именно индивидуальная память выступает как
психологическое условие возможности языка; коллективная память
есть сам передаваемый по традиции язык: «Язык есть не что иное,
как
воспоминание, сумма воспоминаний человеческого
рода»
[Mauth
ner
1982, 1: 89, ср. 212, 663; Mauthner 1982, 2: 263]. Причем
«очевидно,
что перекрываются культура и язык народа. Язык есть вернейшее зер-
45ср. [Mauthner 1982, 1: 16-17, 18, 201; Mauthner 1982, 2: 101.
78
