Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
501-
-501
семиотическому изучению культур // Тезисы к семиотическому изучению культур. Tartu Semiotics
Library. № 1. 1998.
2. Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001.
3. Киприан, архим. Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950.
4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М., 1982.
5. Кренке Н.П. Феногенетическая изменчивость. Т. 1.М., 1933 — 1935.
6. Линней К. Философия ботаники. М., 1989.
7. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Последние века. Кн.1-2. М., 1988.
8. Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986.
9. Сухонос СИ. Масштабная гармония Вселенной. М., 2000.
10. Философские основания технетики // Ценологические исследования. Вып.19. М., 2002.
11. Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. М., 1990.
12. Чебанов С.В. Концепция рефрена // Палеофлористика и стратиграфия фанерозоя. М.,
1989.
13. Численно Л.Л. Структура фауны и флоры в связи с размерами организмов. М., 1981.
14. Meyen S.V. Plant morphology in its nomothetical aspects // Botanical Review, 1973. vol. 39. №
3.
Чебанов C.B.
РИТМ (к позиции 6.2)
Несмотря на свое широкое употребление в повседневной речи, понятие «Р.» до недавнего времени не
относилось к числу базовых категорий. За по-
531
следние три десятилетия ситуация изменилась. При этом, однако, довольно часто понятие «Р.»
используется без указания ясного его толкования, причем в контекстах, вызывающих вопросы. Поэтому
целесообразно начать его рассмотрение с областей, в которых существует ясное понимание того, что такое
Р.
Наиболее развито представление о Р. в теории музыки и стиха. Р. выступает в этом случае как
соотношение длительностей разных звуков [19]. Такое понимание Р. позволяет ясно отличить его от темпа
как скорости исполнения, с которым он часто смешивается (в особенности при метафорическом
использовании). Музыканты, имея дело с временным Р. в самом узком понимании, также осознают его связь
с периодичностью, непосредственно увязывая ее с периодичностью физиологических процессов. На этом
основании различается респираторный (дыхательный) и пульсовой (с которым соотносится и шаговый) Р.
На основе пульсации H.A. Римский-Корсаков различал «чувство темпа» (способность придавать
одинаковую длительность равным ритмическим единицам) и «чувство размера» (способность определять
отношение между различными длительностями).
Если аналогично соотношению длительностей рассматривать соотношение расстояний (длин), то легко
перейти к понятию пространственного Р., который также легче распознается при наличии периодической
повторяемости каких-либо пространственных образований (см. [27, 33], ср. волна как двоякопериодический
— в пространстве и времени — процесс). Особенно детально проблема пространственных Р. изучена в
микромасштабе на примере кристаллических решеток (см., напр., [30]).
Следует обратить внимание на соотношение понятия Р. и цикла. Строго говоря, они являются частично
перекрывающимися. Помимо того, что Р. может быть обнаружен в цикле, могут существовать циклы,
лишенные ритмической организации. Так, годичный цикл на экваторе лишен Р. погодных явлений, в то же
время на средних широтах и в полярных областях в течение того же годичного цикла есть Р. времен года,
причем разные на разных широтах.
Понимание Р. как единичной или повторяющейся последовательности качественно разнородных
микрособытий, количественные или иные характеристики интенсивности которых закономерно изменяются
внутри этой последовательности, позволяет отличить его от цикличности, периодичности (в которых важна
лишь закономерная повторяемость одинаковых фаз), притом что наличие повторяющихся циклов позволяет
легче опознать Р. в том случае, если этот Р. наличествует.
Аналогична ситуация и в отношении пространства. Так, в древесине растений внутри одного годичного
кольца присутствует определенный Р. расположения элементов, в то время как сами годичные кольца
являются циклическим повторением серий элементов в пространстве, и только их 11-12-летние пачки имеют
собственный Р., отражающий 11, 4-летний цикл Солнца.
Несмотря на сказанное, Р. и цикл далеко не всегда различаются исследователями и мыслителями,
поэтому чаще приходится иметь дело с нерасчлененной ритмико-периодико-колебателъно-циклической
организацией того или иного типа.
С одной стороны, такой категориальный синкретизм вносит известную путаницу и даже сумятицу при
постижении весьма разнообразного круга явлений, с другой — определяет некоторое единство (возможно,
псевдоединство) весьма обширной области, в которой ныне формируется общее представление об
организации. Поэтому придется рассмотреть весьма разнообразный материал, который позволяет увидеть
контуры данной области.
История понятия Р. как одной из составляющих древних натурфилософий разного типа — от Пифагора

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
502-
-502
до Августина — рассмотрена в статье Ритм к позиции 5.1 (см.: Ритм, II к позиции 5.1). Совершенно по-
новому предстало понятие Р. в новоевропейской науке, в которой произошел распад единого представления
на несколько самостоятельных традиций — с одной стороны, на вышеупомянутую теоретико-музыкальную
и теоретико-поэтическую, с другой — на метафизическую, с третьей — на математико-механическое и,
шире, физическое и естественно-научное понятия цикла и колебаний.
В новоевропейской математике Р. постигается через представление о периодических функциях, значение
которых повторяется через изменение аргумента на определенный шаг (период). Таким образом, создается
аппарат описания феноменологии Р. Особенно эффективным оказывается описание функций любого вида
путем разложения их на гармонические функции (типа тригонометрических функций синуса и косинуса) в т.
н. ряды Фурье. При этом полагается, что любой процесс (даже монотонный) является суперпозицией
колебательных процессов (см.: далее об идее водителя Р.).
Примечательно, что часто в фурье-разложениях удается обнаружить колебания с кратными частотами —
обертонами. Рисунок обертонов внутри периода основного тона и определяет в значительной мере тот
феномен, который обнаруживает себя как Р.
Логика представления периодических процессов сводится при этом к тому, что мгновенное состояние
532
периодического процесса описывается тем или иным дифференциальным уравнением, интегрирование
которого дает его описание уравнениями, содержащими периодические функции (одной из разновидностей
т. н. специальных функций — тем же синусом, напр.).
Рассмотрение подобных задач порождает направление математической физики, которое, начиная со
времен Галилея (формула колебания маятника), складывается к XIX в. как теория колебаний и теория волн
(см. ее изложение Дж. В. Стреттом — лордом Релеем — в «Основах акустики», 1877). Колебательно-
циклические процессы, оказавшиеся очень распространенными, с тех пор стали предметом пристального
изучения.
При этом выяснилось, что о ритмической организации в отличие от колебательно-циклической часто
хочется говорить тогда, когда имеется качественная неоднородность разных фаз цикла, что особенно
наглядно в том случае, если имеет место распределение ограниченного ресурса энергии.
Это видно на примерах, перечень которых далеко не полон.
Физических:
— явления резонанса колебаний с малой энергией (механических, световых, электромагнитных), в
результате чего источники колебаний низкой энергии запускают вследствие резонанса макроэнергетические
процессы;
— циклы в небесной механике и возникающие при этом биения.
Геолого-географических:
— волны на поверхности водоемов, барханные структуры, знаки ряби, седиментационные циклы.
Химических:
— структурных — ритмически закономерно располагающиеся неспаренные электроны молекул за счет
квантово-механического резонанса обеспечивают повышенную устойчивость ароматических структур
органики;
— кинетических — в случае автоколебательных реакций (типа реакции Жаботинского — Белоусова [6,
9]).
Биологических:
— повторяющиеся (ритмические!) остатки фосфорной кислоты за счет квантово-механического
резонанса образуют макроэргические связи;
— Р. активности и покоя (в т. ч. сезонные);
— Р. сна и бодрствования, в т. ч. циркадные (околосуточные);
— онтогенетические Р. активности и энергетики жизненного цикла (всплеск при оплодотворении,
возможная остановка, нарастание активности, единичный или множественные всплески, достижение плато и
угасание);
— Р. численности популяций, обеспечивающие наиболее полное использование имеющихся
трофических ресурсов биоценоза (см.: модель хищник-жертва Люка — Вальтерра);
— Р. квазициклической смены биоценозов на данной территории (сукцессионные серии),
обеспечивающие наиболее полное использование ресурсов ландшафта.
Психологических:
— когнитивные, эмоциональные, волевые циклы Н. Пэрна [20], — социально-психологические циклы
становления коллективов.
Социально-культурных и экономических, в разных фазах которых решаются преимущественно задачи
определенного типа:
— экономические циклы Н.Д. Кондратьева [11];
— циклы этногенеза в понимании Л .Н. Гумилева [3] ;
— цивилизационно-культурные циклы в духе Шпенглера—Тойнби [28];
— разные циклы тех или иных процессов (смены костюма или его компонентов [8], производства
печатной продукции, образования, деятельности [13] и т. д.).
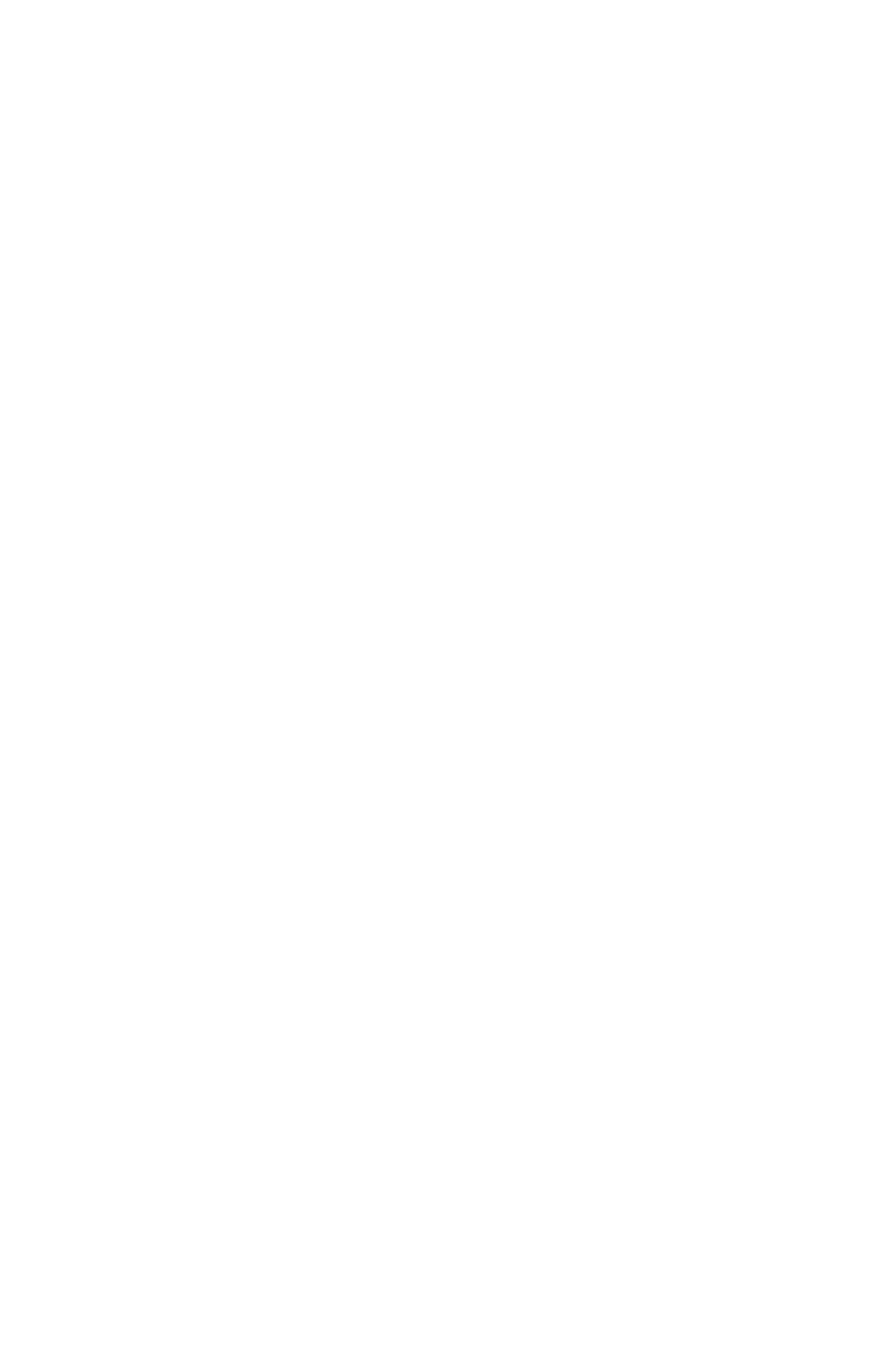
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
503-
-503
В перечисленных областях фигурируют различные представления об энергии. В одних — это энергия в
строго физическом смысле; в других речь идет о «макроэргах» (химических связях с высокой энергией),
которые накапливаются или расходуются в ходе физиологических процессов; в третьих — соединение
интуитивного и экспертного понимания психической энергии, которое отчасти может быть соотнесено с
понятиями макромолекулярной биоэнергетики, а отчасти с неоплатоническими категориями о
божественных энергиях (силах) в духе св. Дионисия Ареопагита [7]. Однако, так или иначе, речь идет о
некотором факторе (энергии в физическом или ином понимании), который лимитирован, но может как-то
перераспределяться во времени и пространстве. При этом, так как процессы, протекающие с участием
энергии, ритмически организованы, при определенных соотношениях частотных характеристик этих
процессов возникает их резонанс, который проявляет ритмическую организацию данных процессов.
Благодаря резонансу возникает качественное различие разных фаз цикла, поскольку имеют место эффекты,
свойственные энергиям, более высоким, чем у исходных процессов.
Совокупность указанного материала и приведенных интерпретаций позволяет трактовать Р. как способ
компактной «упаковки» энергии. Любопытно, что в отношении акустических колебаний в этой трактовке
переплетаются представления физиков и музыкантов. В ХХ в. также и формирование волновой механики
позволило еще раз обратиться к пониманию Р. как
533
способа компактной «упаковки» энергии в области явлений микромира.
На протяжении первых двух третей ХХ в. стала ясна исключительная распространенность циклико-
ритмических явлений и теоретическая плодотворность представлений о ритмах и колебаниях. Вот лишь
некоторые примеры.
В физике:
— показано фундаментальное значение колебательных процессов в явлениях микромира.
В химии:
— обнаружены колебательные реакции. В биологии:
— открыты и изучены биоритмы мозга и осознана их значимость [18];
— описаны и систематизированы «жизненные циклы» разных групп организмов [14] (строго говоря, это
не циклы — послерепродукционные стадии онтогенеза не являются стартовыми для онтогенеза следующих
поколений, — а именно ритмы);
— сформировано представление о клеточном цикле;
— показано фундаментальное значение внутриклеточных циклов во временной организации клетки
(именно в связи с этим Б. Гудвином формулируется представление о живом организме как многоуровневой
колебательной системе [2]);
— изучены и систематизированы физиологические циклы разных организмов;
— изучены сезонные и околосуточные (циркадные) Р. [4];
— обнаружены циклы численности популяций [31];
— обнаружено ритмическое (иногда превращающееся в цикл) развитие биоценозов — сукцессии [23].
В геологии:
— показана многоуровневая цикличность многих процессов (тектонических, денудационных,
седиментационных, палеоклиматических, включая макроциклы вплоть до Галактического года).
В астрофизике:
— создана фридмановская модель Вселенной, существование которой мыслится как складывающееся из
фаз расширения (разбегания) Галактик и их сжатия.
В экономике:
— показана цикличность экономических процессов [11, 32].
В истории:
— сформулировано представление о цикличности истории [28] и отдельных историко-культурных
циклах (напр., развития костюма — [8]).
В психологии:
— показан циклический характер психических состояний и активности человека.
В технике:
— сложилось несколько фундаментальных областей, построенных на ритмико-колебательных
процессах, в том числе:
— электроэнергетика и электротехника;
— радио- и электрическая связь;
— электронные коммуникации, включая электронные средства массовой информации;
— техническая акустика, включая техническое использование инфра- и ультразвука.
Помимо того, что была осмыслена значимость перечисленных явлений, выяснилось, что между
некоторыми из них существуют глубинные взаимосвязи. Так, Р. в музыке и поэзии связан с
физиологическими и психическими ритмами; околосуточные и сезонные периоды социальной активности
связаны с вращением Земли (см.: Чижевский [29]); внутриклеточные циклы связаны с молекулярными и
атомными колебаниями и колебательными химическими реакциями; тектонические циклы связаны с
сукцессионными сериями и сезонами Галактического года и т. д. [25].

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
504-
-504
Новым этапом развития представлений о колебательно-циклических процессах оказалось установление
распространенности (прежде всего в биологических, сложных химических, технических и социальных
системах) т. н. нелинейных колебаний — колебаний, при которых одна колеблющаяся величина зависит от
другой колеблющейся величины нелинейным образом. При этом нарушается принцип суперпозиций
колебаний и возникают сложного вида волны, т. е. те пороговые явления, которые в качестве эпифеноменов
порождают эффекты самоорганизации, изучаемые в синергетике.
Т. о., учение о колебательно-циклических процессах оказалось частью гирлянды междисциплинарных
концепций (синергетики, теории бифуркаций, учения о самоорганизации и т. п.), которые занимаются
процессами организации сложных динамических образований. Беда этих концепций, однако, в том, что
конструктивностью и вычислительной ценностью они обладают только в отношении простейших
модельных случаев, постоянная апелляция к которым придает всем подобным построениям налет
механицизма. Для категории же «Р.» это обернулось своего рода «выигрышем» — о нем стали говорить
тогда, когда расчетные методы теории колебаний и волн не работают, а представление о неком
периодическом процессе как объяснительном конструкте сохраняет силу.
В результате понятие «Р.» получило универсальное значение, а Мир в целом и отдельные его части стал
восприниматься как многоуровневая взаимосвязанная ритмическая система с неопределенно большим пери-
534
одом основного тона (еще один претендент на универсальный водитель Р. — о водителе Р. подробнее
далее). Выявленная картина поставила несколько фундаментальных вопросов.
1) В какой мере связаны между собой разные циклические процессы: не зависимы ли они друг от друга,
существует ли несколько разных групп взаимосвязанных процессов или же вообще можно говорить об
универсальной взаимосвязи всех ритмико-циклических процессов? Возможно ли говорить о том, какой
процесс является фундаментальным в том случае, если на поставленный вопрос дается второй ответ, т. е.
выдвигается тезис об универсальной взаимосвязи этих процессов?
2) Что является источником ритмов? Имеют они эндогенную природу или внешний источник? Ответы,
даваемые в частных случаях, показывают, что возможны обе ситуации. Однако описание эндогенного
происхождения ритмов базируется на весьма общих принципах, лежащих в основе организации Мира.
Вместе с тем обнаружение внешних источников Р. (например, суточного цикла вращения Земли по
отношению к циркадному) ставит вопрос о природе соответствующего процесса — водителя Р. Причем
степень общности подобной постановки вопроса о водителе Р. может весьма варьироваться: от анализа роли
синоатриального или атриовентрикулярного узлов сердца или других физиологических центров от влияния
ритмов Солнца на земные процессы (как это интересовало исследователей от Чижевского до Гумилева) — и
до Единого в понимании Плотина.
Однозначного ответа на эти вопросы сейчас не существует, однако накоплен чрезвычайно интересный и
разнообразный материал, позволяющий искать такие ответы.
Весьма примечательно, что исследование ритмико-циклических процессов тесно переплетается с
исследованием природы времени, а конкретные эталонные циклические процессы выступают в качестве тех
или иных часов [12]. Обычно в качестве часов используются те или иные циклические процессы.
Исследования геологического времени С.В. Мейеном привели его к созданию типологической
концепции времени [15, 22]. В ее основе лежит представление о времени как аспекте изменчивости
(описываемой в своей полноте рефреном — см.: Разнообразие, II), отнесенном К одному индивиду. Такой
отмеченный индивид и является часами (а рефрен — их циферблатом, причем ветвящимся и с фрактальной
структурой), а далее возникает вопрос только о его калибровке.
При этом в последовательности событий, происходящих с таким индивидом-хронометром могут быть
(но не обязательно!) обнаружены ритмы (например, седиментационные), причем они могут быть
обнаружены
как по морфологии отложений (тогда это пространственные ритмы), так и по относительному времени.
Для измерения относительного времени калибровкой часов служит фиксация последовательности
некоторых событий (тектонических, климатических, биологических, исторических и т. д.) индивида-
хронометра, а процедура измерения заключается в установлении одновременности (корреляции) какого-
либо события, происходящего с индивидом-хронометром, и события (-ий) дру-гого(-их) индивида(-ов). Для
перехода к абсолютному времени необходимо осуществить корреляцию относительного и абсолютного
хронометра.
Сама идея существования абсолютного хронометра покоится на ряде фундаментальных физических
допущений, в числе которых представления о существовании абсолютно равномерных процессов и
абсолютно равномерном течении времени. Принимая их, в качестве часов (хронометра) выбирается какой-
либо равномерный однонаправленный (например, распространение света в изотропном пространстве) или
циклический процесс. Однако физики так или иначе в качестве часов часто выбирают циклические или
описываемые как циклические процессы (вращение Земли вокруг своей оси, Земли вокруг Солнца,
переходы электронов атомов определенных элементов с уровня на уровень и т. д.). То, что С.В. Мейеном
была показана фундаментальная возможность создания часов, основанных не на циклическом принципе,
принципиально важно для осознания отсутствия жесткой связи Р. и времени.
Несколько в стороне от рассматриваемого междисциплинарного подхода достаточно долго находились
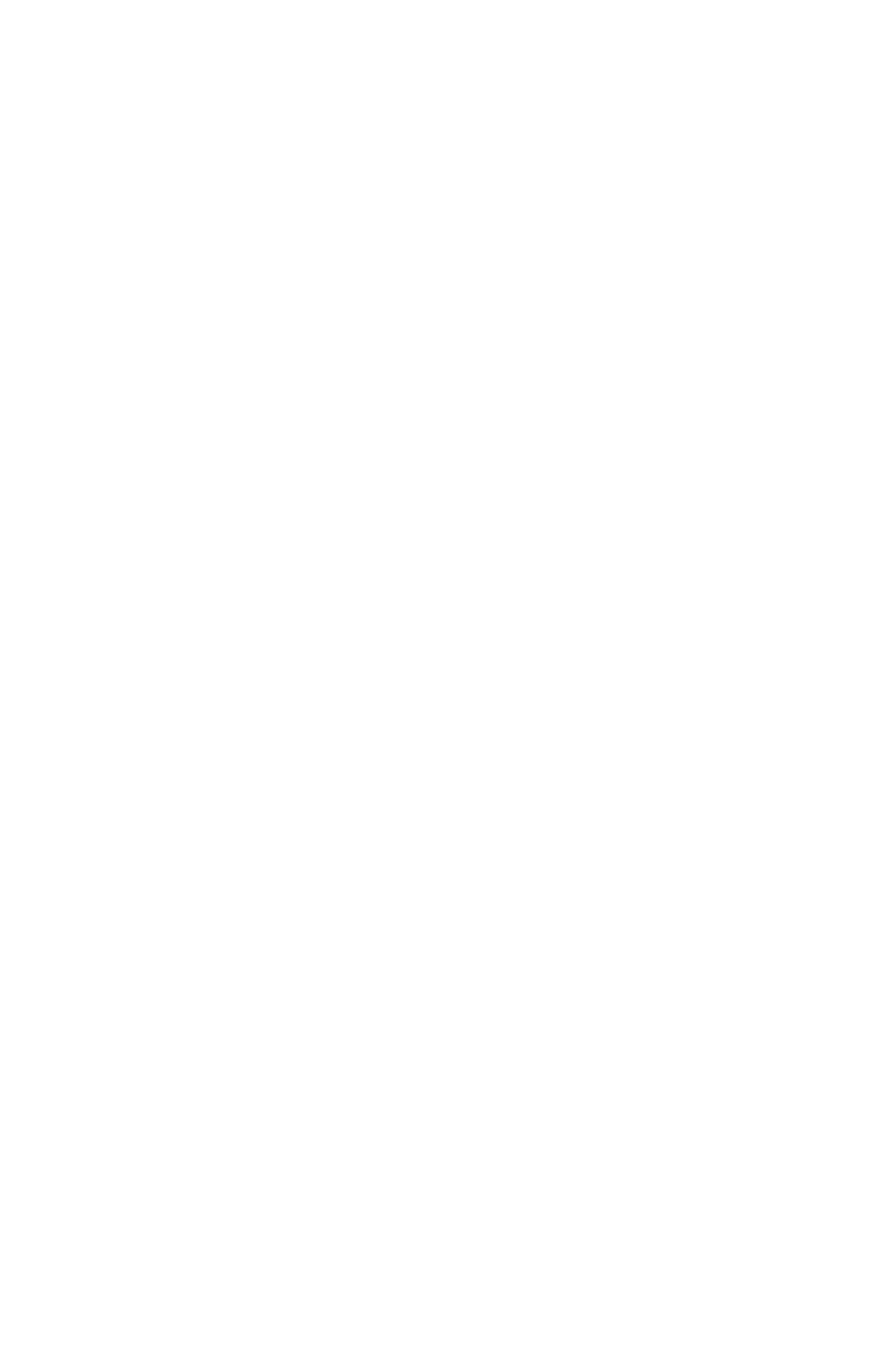
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
505-
-505
работы филологов и фольклористов, и в частности их психологические интерпретации. При этом были
накоплены данные об особых свойствах ритмически организованных текстов — их мнемоническое и
суггестивное значение, психолингвистические особенности, роль в отдельных областях жизни [10].
Развитие междисциплинарных знаний о природе языка и речевой деятельности, акустическая
(основанная на звуковых волнах) и оптическая (связанная со световыми волнами) природа (т. е. опять же
ритмико-циклическая) плана выражения языка подвели к возможности инструментального исследования
семантики. Нейрофизиологическое изучение речевой деятельности, измененных состояний сознания (при
высокой концентрации сознания, после больших и длительных физических нагрузок, в горных условиях, в
горячих цехах производств), аскетических практик, психофармакологических воздействий обнаружили их
связь с ритмическими процессами в организме человека, и прежде всего — в его мозге [26].
535
В результате в 1970-е гг. сложилось представление о семантическом значении Р. (семантике Р.), которое
было явно сформулировано В.В. Налимовым и его сотрудниками [17], что внесло Р. в круг таких
фундаментальных категорий, как смысл, форма, число, энергия, цвет, звук, вкус в их физическом,
физиологическом, психологическом, эстетическом и натурфилософском аспектах (см.: Форма культуры, I).
Немаловажным при этом оказывается и наличие синестезии Р. и перечисленных реалий (при широкой
распространенности синестезии Р. цвета, Р. звука и т. д.).
Другим направлением нащупывания связи Р. и смысла является изучение т. н. фликкер-шумов, которые
фиксируются в разных природных средах (Мировом океане, атмосфере, отдельных водных потоках, шелесте
листвы деревьев и т. д.). Статистика частот этих шумов оказывается подчинена распределениям типа
Ципфа—Мандельброта, что рядом исследователей рассматривается как индикатор наличия организованной
формы или смысла (последняя постановка вопроса также принадлежит В.В. Налимову [17]).
Интересным в этом контексте является опыт некоторых экспертов по персоналу, которые, отбирая
претендентов по степени их компетентности в специальных областях, слушая их профессиональные
выступления, отключают у себя восприятие словесной речи претендента, воспринимая только ее
ритмическую организацию.
Итак, можно говорить о том, что к настоящему времени сложилось единое пространство постижения
ритмико-циклических процессов, обнаруживаемых во всех областях действительности, что указывает на их
универсальность. Такое положение дел и — более того — старое представление о музыке сфер позволяют
трактовать категорию Р. весьма широко, а ритмические процессы как традиционный объект астрологии и
астрономии свидетельствуют о том, что категория Р. имеет универсальное значение и стала если не
философской категорией, то по крайней мере сопоставимой с ней универсальной категорией
междисциплинарного знания.
При этом, однако, надо отдавать себе отчет в том, что категория Р. в разных областях очерченного
междисциплинарного поля имеет очень разный статус: в каких-то областях четко различается цикл и Р., а в
каких-то — нет; в некоторых из них ритмико-циклическая организация является предметом
инструментального исследования, в других же — экспертных оценок и весьма расплывчатых метафор;
довольно часто это предмет вполне конкретных исследований, а иногда-философских спекуляций и т. д.
Так или иначе, категория Р. в последние десятилетия воспринимается как универсальная, а изучение Р.
—
ритмология — выступает как единая самостоятельная область знания, порождая новые типы дискурса.
В этом дискурсе становится возможным обсуждение широкого спектра междисциплинарных проблем:
старых: натурфилософских, астрологических, алхимических — и новых: космологических, физических,
биологических, психологических. Возникают представления о наличии фундаментальных мужских и
женских ритмов и их роли в организации космоса и семьи (усвоение ребенком в качестве индивидуального
Р. матери или играющей ее роль женщины, усвоение Р. супруга в браке, причем более легкое для мужчины
— см.: «...оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». —
Быт., 2, 24), связи ритмов космоса и Солнца с ритмами психической, социальной и экономической жизни,
ритмами истории, осознается значимость слова и музыки в организации общественной жизни, и получают
новую интерпретацию представления о музыке сфер. Естественно, такие представления очень неоднородны
по своему эпистемическому статусу — это и обобщения твердо установленных фактов, и какие-то догадки,
и реконструкции на основании косвенных данных. Однако так или иначе понятно, что речь идет о каком-то
очень важном аспекте — если не об одном из оснований — существования мира. Закономерна поэтому
трактовка Р., наряду со смыслом, формой, числом, энергией, цветом, звуком, вкусом, как одной из
первоэманаций Единого. Об этом свидетельствует возможность взаимопереописаний указанных категорий
друг через друга (см.: Форма культуры, I в позиции 6.2).
Если говорить о месте Р. в культуре и его изучении как одной из задач культурологии, то следует
подчеркнуть следующее.
1. Р. может изучаться в культурологии в двух совершенно разных областях, причем такие исследования
могут быть как независимыми, так и одно их них может быть базой для другого:
— эмпирическое исследование большого числа ритмов жизни человека культуры, субкультурных групп
(половозрастных, профессиональных, социальных), включая такие ритмы, как жизненный путь в качестве
особого Р., ритмы ритуалов и обычаев, суточные, недельные, месячные (в особенности в женских когортах),

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
506-
-506
годовые и т. д. ритмы; в этой же логике могут изучаться многие вопросы о характере и механизмах
взаимосвязей разных ритмов друг с другом (биологических, психических, социальных, космических и т. д.),
выявляться конкретные водители Р. в самом «приземленном» их понимании;
— концептуализация Р. как одного из фундаментальных проявлений природы человека и Мира; в та-
536
ком случае индивидуальный Р. отдельного человека, Р. группы и Р. культуры (субкультуры) будут теми
базовыми категориями, которые определяют статус культуры (ср. дух народа Гердера, ergon языка А. фон
Гумбольдта и т. п.), и заслуживают в этом качестве того, чтобы быть основным предметом
культурологического исследования и задавать рамку культурологическим исследованиям первого типа,
быть базой для получаемых в их ходе результатов.
2. Культурология обладает колоссальным фактологическим материалом по различным значимым для
культуры ритмам, полученным этнографами, фольклористами, историками, экономистами, социальными
психологами, биологами, врачами, урбанистами и т. д. Вопрос заключается в том, чтобы эти данные
получили культурологическую интерпретацию и были бы включены в культурологический дискурс,
превратившись из тех или иных культурных казусов (напр., использование в разных культурах либо лунных,
либо солнечных, либо лунно-солнечных календарей) в сквозные (а может быть, и несущие) структуры
культуры, определяющие ее лицо.
Библиография
1. Ахиезер A.C. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы
философии. 2000. № 9.
2. Гудвин Б. Временная организация клетки. М., 1966.
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
4. Дедов И.И., Дедов В.И. Биоритмы гормонов. М., 1992.
5. Дрогалина Ж.А., Налимов В.В. Семантика ритма: ритм как непосредственное вхождение в
континуальный поток образов // Бессознательное. Т. 3. Тбилиси, 1978.
6. Жаботинский А.М. Концентрационные колебания. М., 1974.
7. Киприан, архм. Антропология св.Григория Паламы. Париж, 1950.
8. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М., 1982.
9. Колебания и бегущие волны в химических системах. М., 1988.
10. Коломийцева O.A. Структурно-семантические особенности текстов-заговоров // Семантика
и прагматика языковых единиц. Тюмень, 1989.
11. Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры // Проблемы экономической
динамики. М., 1989.
12. Конструкции времени в естествознании: на пути к пониманию феномена времени. Ч. 1.
Междисциплинарное исследование. М., 1996.
13. Кордонский С.Г. Циклы деятельности и идеальные объекты. М., 2001.
14. Левушкин СИ., Шилов И.А. Общая зоология. М., 1994.
15. Мейен С.В. Введение в теорию стратиграфии. М., 1989.
16. Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Семантика и ритм молитвы // Вопросы языкознания.
1993. № 1.
17. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М., 1979.
18. Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. М., 1986.
19. Николаев A.A. Интонационная речемузыкальная теория стихосложения. М.-Челябинск,
1998.
20. Пэрна Н.Я. Ритм жизни и творчества. Л.-М., 1925.
21. Пригожин И.Р. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991.
22. Развитие учения о времени в геологии. Киев, 1982.
23. Разумовский СМ. Закономерности динамики биоценозов. М., 1981.
24. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
25. Солнечная и солнечно-земная физика. М., 1980,
26. Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: Психология и лингвистика. СПб., 2000.
27. Сухонос СИ. Масштабная гармония Вселенной. М., 2000.
28. Тойнби А. Исследование истории. М., 1992.
29. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976.
30. Шаскольская М.П. Кристаллография. М., 1976.
31. Шилов И.А. Экология. М„ 2001
32. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы, М., 1999.
33. Müller H. An Introduction to Global-Scaling-Theory / http://www.raum-energie-
forschung.de/IREF-home-engl/Theor.htm
САМОСТЬ (к позиции 6.1)
Самость — термин, появившийся лишь сравнительно недавно в словарях по философии, — оказался там
отчасти контрабандой из области психологии и социологии. Важно осознать тот контекст, в котором он
сформировался и по каким причинам оказался в числе понятий современной философии и культурологии

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
507-
-507
(см. также: Самоидентификация, I). Первоначально предметом наибольшего внимания С. становится, во-
первых, в рамках американского символического интеракционизма, основанного Дж. Мидом, и, во-вторых,
в аналитической психологии Карла Юнга.
Для понимания смысла этого термина показательным является контекст, в котором он начинал
использоваться в философии. Диалектика Я и не-Я раннего Фихте была важным этапом в постановке
проблемы С. в философии. Не случайно именно на его философию ссылается В. Хесле в своем анализе
кризисов идентичности. Субстантивацию местоимения «сам», что можно перевести как «С», можно
встретить в «Науке логики» Гегеля. Он пишет о С. (Selbst), когда, например, развивает диалектику сущности
как субстанции, где говорится о начинании с себя, в котором впервые только и полагается «то самое»
[3:672] (или «та самость» [2: 205] ), с которого начинают. Субстанция во всех своих акциденциях
высвечивает только себя же саму. В ней разум обнаруживает за всеми явлениями сущность как
непосредственно всплывающую за всеми видимостями реальность, как бытие. С, о которой здесь идет речь,
— это субстанция как самополагание сущности в качестве бытия. Важно для дальнейшего, что контекст, в
котором, хотя и эпизодически, появляется субстантивированное местоимение «сам» (selbst) как «эта
самость» (dieses Selbst), — это контекст полагания тожде-
537
ства сущности со своими явлениями, т. е. определениями наличного бытия; С. выражает полагание
бытия в его непосредственности, исходя из опосредствования, из рефлексии. О С. речь заходит тогда, когда
поставлена под вопрос непосредственная идентичность (тождество) вещи с собой, когда она оказывается
перед необходимостью самоопределения.
Существующие подходы к проблеме С. позволяют вычленить в ней три узловые точки. Первая состоит в
том, что вопрос о С. тематизируется в контексте постановки проблемы становления человека как вопрос о
сущности человека, о его качественной специфичности (Фихте, Гегель, Юнг). В связи с этим подходом
исследуются также исторические границы вопроса о С, определяется эпоха, в которой формирование
человека осознается как проблема [1, 9, 14]. Второй узел завязывается вокруг проблемы Другого. Другой
выступает конститутивным моментом формирования С. (Дж. Мид, Ч.Х. Кули, Р. Жирар [10, 6, 7, 4, 8]).
Третий проблемный узел соединен с постановкой вопроса о роли рефлексии (см.: Рефлексия, I; Субъект, I) в
определении природы С. (Гегель, Э. Гидденс [14], Ч. Тэйлор [15]).
Карл Юнг обозначал термином С. архетип целостности человеческого существа, имеющийся в
коллективном бессознательном [13: 95 — 128, 203 — 222]. Этот архетип репрезентирует себя во множестве
символов — божественное дитя, мудрый старец и других. Говоря о концепции Юнга, имеет смысл обратить
внимание на то, что С. фигурирует в ней либо в контексте анализа патологических проявлений психики,
либо в рамках описания индивидуального развития человека от младенчества до старости. В обоих случаях
С. лежит в основе подлинных потребностей развития человека, причем таких, которые укоренены в его
принадлежности человеческому роду (Юнг связывает эту «родовую сущность» с коллективным
бессознательным). В первом случае неспособность человека установить общение между «эго» и самостью
проявляется в психической патологии. Во втором — внимание или невнимание «Я» к голосу самости
ответственно за продуктивный или непродуктивный выход из возрастных кризисов (специальному анализу
кризиса среднего возраста с позиций аналитической психологии посвящена работа Дж. Холлиса [ 12] ).
С. оказывается понятием, которое используется в ходе объяснения механизма достижения нарушенной
целостности «Я» или способа формирования этой целостности. В таком отношении есть определенное
сходство со смыслом этого понятия в диалектике Гегеля, где оно появилось в контексте полагания
тождества сущности со своими явлениями, т. е. определениями наличного бытия. Существенное отличие в
том, что в логике Гегеля в основе становления С. лежит рефлексия, которая показывает себя стоящей за
непосредственностью наличного бытия. За целостность С. отвечает полагающая себя мысль, которая в
конечном итоге и сознает себя в качестве идеи С. В этом смысле в сознании достигается истина всего
становления. С точки зрения Юнга, психическая жизнь как целостность принципиально шире сознания,
поэтому она представлена прежде всего в архетипе коллективного бессознательного. Роль сознания
существенна, но она состоит в том, что с его помощью человек может вступить в общение с
бессознательным содержанием своей С, чтобы не становиться слепой игрушкой бессознательных сил.
Истина «эго» и его сознания лежит в С, которая шире и индивида, и его сознания. Рефлексия сознания здесь
лишь инструмент, а не основание истины.
Зигмунт Бауман (английский социолог польского происхождения) особенностью «модерна» считает
принуждение к самоопределению [1: 180 — 182]. Сточкой зрения Баумана перекликается концепция другого
английского социолога — Энтони Гидденса, который пишет о том, что С. в Новое время становится
рефлексивным проектом [14]. С этой позиции описанные выше интерпретации понятия С. у Гегеля и у Юнга
являются своего рода моделями двух полярных подходов к задаче самоопределения, т. е. к осуществлению
С. как рефлексивного проекта. В логике Гегеля выражается классическая позиция европейского
рационализма: мысль, рефлексия лежит в основе С. и осуществляет себя в качестве ее осознанной идеи.
Разум составляет истину С. В концепции Юнга, напротив — С, архетипы коллективного бессознательного,
есть истина мышления и сознания, которые лишь являются средством осуществления (или
неосуществления) плана развития — своего рода предназначенной человеку судьбы.
Второй момент, на который в данном контексте следует обратить внимание, это учение Юнга о том, что

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
508-
-508
человеку свойственно проецировать свою психическую жизнь вовне. Согласно Юнгу, лишь присущее
Новому времени стремление видеть сущность человека прежде всего в его разуме, в сознательной
рефлексии поместило душу внутрь человека. В прежние эпохи люди имели дело с жизнью своей души и вне
себя; ее неосознанное, воплощенное вовне содержание могло быть затем осознано и осмыслено. Человек
Нового времени перестал видеть вне себя — в культуре, в мире — проявления своей психической жизни.
Тогда и выявилась проблема бессознательного, поскольку человек столкнулся с тем, что внутри себя
обнаружил эмоционально заряженные области, над которыми он не властен и, что еще важнее, к которым не
имеет дос-
538
тупа. Одновременно он столкнулся с тем, что эти бессознательные силы выражают себя в символической
форме в неконтролируемых сознанием проявлениях его жизни — снах, неожиданных поступках и т. д. Юнг
настаивает, что в символической, образной форме выражают себя общие всем людям бессознательные силы,
которые предстают в виде связных насыщенных смыслом и эмоциональной энергией комплексов,
называемых им архетипами.
Концепция Юнга о коллективном бессознательном благодаря его же идее о внешней жизни души имеет
множество выходов в культурологическое истолкование, и не случайно, что оно породило попытки анализа
архетипов в символах культуры (см. примеры у Кнабе [5] ). Тем не менее оправданны возражения многих
культурологов [5], что получаемые в таких исследованиях результаты трудно отнести к научным. Они
оказываются чрезмерно субъективными, слишком зависят от пристрастий и особенностей психологии
исследователя. Сам Юнг, применяя эти идеи в практике психотерапии, весьма ограничивал их значение вне
такого применения. С одной стороны, можно предположить, что фундаментальные принципы, лежащие в
основе формирования С. (например, описанная Дж. Мидом двухэтапность ее развития), могли бы порождать
сходные структуры в самых разных культурных формах и тем самым служить объяснением архетипов. Но, с
другой стороны, очевидна огромная дистанция между такими общими предположениями и деталями
описываемых Юнгом в качестве архетипов структур.
У истоков появления понятий С. и идентичности в языке социологии и психологии находился также
американский символический интеракционизм. Характерно, что это понятие и здесь тоже используется при
описании механизмов формирования человека, становления его индивидуальности. Однако в концепции Дж.
Мида в основе формирования зрелой С. лежит возникновение у человека образа обобщенного другого [10:
225-234]. Не всеобщий разум и не коллективная бессознательная целостность души, а Другой (и отклик на
ситуацию взаимодействия с ним) кладется Мидом в основу его концепции С. Выделяя два этапа в развитии
С, он иллюстрирует их особенности на примере различия между соревнованием (game) и игрой (play). Дети,
не имея еще целостного представления о других и их ролях, осваивают ситуацию взаимодействия с
другими, последовательно проигрывая, воспроизводя разные роли. В отличие от последовательного
принятия на себя ребенком разных ролей в обыгрываемой им ситуации, участники соревнования действуют
исходя из индивидуально усвоенной общей модели всего состязания и своего места в команде. В основе их
поведе-
ния и единства С. лежит образ обобщенного другого. Мид пишет: «.. .Самость достигает своего полного
развития посредством организации этих индивидуальных установок других в организованные социальные
или групповые установки, становясь тем самым индивидуальным отражением всеобщей систематической
модели социального или группового поведения, в которое она вовлечена наряду со всеми другими...»
[8:230].
Тип С, согласно Миду, различается в разных культурах, соответствуя разным возможностям
интегрировать иное в свой отклик на него. В архаичных культурах отклики людей на природные явления
(как другое) организуются подобно тому, как это делают дети, когда в игре учатся усваивать значение
другого, понимать его роль. Не имея опоры на интегрированный образ иного как целого, они строят свое
поведение как набор отдельных действий. Этот набор, с точки зрения Мида, потому и организуется в
ритуал, что не исходит из абстрактного образа природы как обобщенного другого, а является исторически
сложившейся последовательностью откликов. И лишь вторично ритуальная последовательность получает
истолкование в рамках мифов. Этому соответствует и характер С, присущий подобному типу сознания,
когда оно, следуя логике такой реакции на природу, населяет ее персонифицированными силами — богами
и героями. При этом в своей повседневной деятельности представители той же культуры ведут себя по-
другому, о чем свидетельствует их поведение. Оно строится по модели соревнования, т. е. исходя из
наличия образа обобщенного другого. Иными словами, Мид вводит представление о разных способах
интеграции отношений с другими, которым соответствует и разная степень интегрированности самого
человека как в разных культурах, так и в разные возрастные периоды.
Понятие С. (self) использовалось также Ч. Кули [6, 7], который подчеркивал эмпирический, а не
абстрактный характер своего понятия социальной С. Оно выражает, с его точки зрения, инстинктивно
присущее каждому человеку «чувство присвоения», которое наиболее ярко проявляется в ситуации
посягательства на то, что принадлежит человеку. Согласно Кули, в основе С. лежит врожденная
конкуренция с другим. Узнаваемое всеми тождество этого «чувства моего» у всех людей позволяет нам
понимать слова «Я», «мое» и т. п. По мнению Кули, чувство «Я» способно стимулировать и объединять
действия индивида. С. рассматривается как орган свойственных человеку стремлений, включая сюда

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
509-
-509
стремления как высшего, так и низшего порядка. Усложнение и развитие чувства «я» происходит по мере
развития человека и приобретения им все более богатого опыта, но в главном чувство остается не-
539
изменным: оно строится как самоощущение, основанное на отождествлении себя с чем-то иным,
выступающим в качестве присвоенного, моего. Согласно Кули, агрессивность «Я» в наибольшей мере
проявляется в стремлении присвоить объекты, которые равно притягательны для всех. Социальная С.
охватывает те представления живого общения в рамках общественной жизни, которые индивид считает
своими собственными. Причем в реальном опыте чувство присвоения выступает как тень общественных
отношений, иначе говоря, проявляется прежде всего в ситуациях взаимодействия с другими. С чувством
своего связаны и чувства гордости, стыда или угрызений совести, которые также затрагивают ощущение
себя в глазах других. В их основе лежит воображение того, как мы выглядим для значимого другого. Вместе
с тем другой, как и то иное, в стремление к которому «Я» себя вкладывает, может выступать как наиболее
концентрированное его осуществление; другой может становится сутью «Я».
Интересный и глубокий анализ конкуренции с другим как конститутивного фактора становления С.
предложил французский историк культуры и философ Рене Жирар [4]. Своей концепцией «миметического
желания» он стремится объяснить повсеместную и фундаментальную роль жертвоприношения во всех
древних культурах, сохраняющую в измененной форме свое значение до сего дня, и не только в такой
религии, как христианство, но и в европейской судебной системе. В основе ее лежит представление, что
внутренняя социальность человека, его потребность в другом человеке, в его обращении и признании для
своего развития и самого существования в качестве человека может принимать и принимает форму
стремления утвердиться в своем бытии, присвоив бытийный статус другого.
Жирар анализирует логику, которая свойственна желанию. По самой своей природе желание
основывается на подражании, и поэтому неизбежно возникает конкуренция за объект желания. Особенно
опасным для общества оказывается желание подражать тому, кто передает основные ценности культурной
традиции (учителю — в широком смысле слова). Во-первых, оно неизбежно порождает конкуренцию с
«учителем» за обладание этими ценностями (за причастность к подлинному бытию), ведь именно они,
казалось бы, и должны быть переданы, а во-вторых, оно запрещает на уровне сознания подобную
конкуренцию, поскольку она несовместима с традиционным отношением учителя и ученика. Возникает
ситуация неосознаваемого конфликта императивов («двойного зажима»), который механизмы
традиционных культур стремятся блокировать.
В основе миметического желания лежит различие в бытийном статусе. Другой потому и становится
пред-
метом желания для человека, что выступает обладателем бытия. Однако подражание (мимесис) стирает
это различие, и человек вновь, теряя возможность различить себя и другого, лишается и опоры в бытии,
поскольку это бытие было построено на подражании другому. Определение себя самого, утверждение своей
С. через подражание другому по мере достижения статуса другого уничтожает собственное основание.
Тогда именно в ситуации неразличимости начинается эскалация отличия. Оно предельно концентрируется в
создании образа врага, в отношении которого оправданно насилие, Насилие, таким образом, становится
естественным моментом логики миметического желания. Но по той же причине — что оно есть выражение
зависимости от различия с другим — насилие не может решить проблему. Оно требует ответа и постоянного
возобновления — эскалации. Насилие, порожденное миметическим желанием, оказывается «заразным».
Жертвоприношение и представляет собой способ «очищения», т. е. разрешения жертвенных кризисов —
прекращения эскалации насилия в условиях стирания различий. Но достигается это разрешение вновь в
логике миметического желания. В жертву приносится тот или то, что в некотором смысле совершенно
неотличимо от каждого из участников цепи насилия — жертвенного кризиса — и в то же время
принципиально от него отличается своей неспособностью распространять «заразу» насилия. Иными
словами, жертва должна быть «чистой». По мысли Жерара, любая культура, в ядре которой находится
жертвоприношение или его субституты со свойственной им логикой миметического желания, направляет
формирование С. (утверждение человека в бытии) каждого из членов объединяемой ею общности по пути
мимесиса и тем самым по пути порождения насилия, что неизбежно в какой-то момент приводит к его
эскалации — «жертвенным кризисам». Э. Гидденс — английский социолог — анализирует С, свойственную
человеку общества позднего модерна [14], в контексте исследования происходящей в этот период активной
институциализации рефлексии (см.: Рефлексия, I в позиции 6.1). В его исследованиях проблема места
рефлексии в становлении С. получает социологическую разработку и обоснование. В этой эмпирической
трактовке идеи С. как рефлексивного проекта состоит отличие от подхода к ней Гегеля, у которого
рефлексивность самости является следствием диалектики саморазвития духа (см.: Рефлексия, I в позиции
3.2). Согласно Гидденсу, «Я», С. в эпоху модерна (Нового времени) становится рефлексивным проектом. В
основе этого превращения лежит действие трех основных факторов: разделение пространства и времени,
«высвобождающие» механизмы и институционализация
540
рефлексии. Свойственное индустриальному капитализму разделение труда меняет организацию
пространства и времени, в котором живут люди. Время четко делится на время работы и досуга.
Пространство промышленного производства собирает вместе людей, не вступающих в процессе
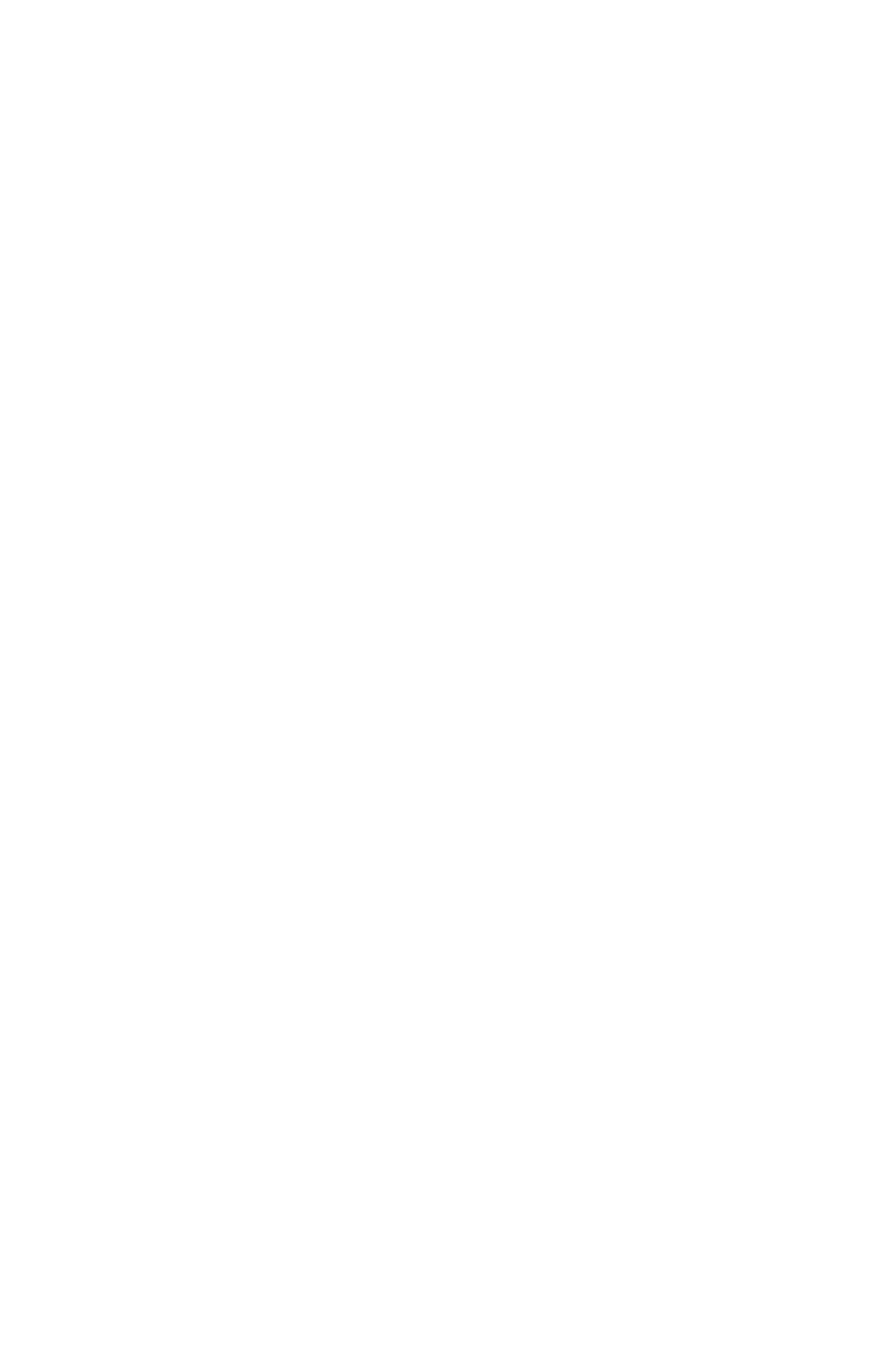
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
510-
-510
совместного труда в личный контакт. В итоге и пространство, и время социума теряет органическую связь с
человеческой жизнью, они превращаются в пустые вместилища абстрактных индивидов, объединенных
потребностями производства или случайными обстоятельствами досуга.
Этому способствуют «высвобождающие» механизмы: абстрактные системы экспертных знаний и
универсальные символические знаки (деньги и т. п.). Первые призваны восполнить индивиду
поддерживавшую его в повседневной жизни сумму традиций и верований, которая существовала в
устроенных на традиционной основе общинах, распавшихся под действием образа жизни модерна. Вторые
обеспечивают человеку возможность свободно менять социальные контексты в процессе передвижения по
очищенным от традиционного наполнения подразделениям пространства и времени. В отношении к
традиционной «почве» эти механизмы выступают как бы «разрыхляющими», способствующими
освобождению из нее людей. Лишенный традиционных форм своей идентичности индивид постоянно
оказывается перед выбором способа поведения и осознания себя в разных социальных ситуациях. Это
способствует тому, что появляются специальные институты, призванные помочь человеку сделать этот
выбор — институты рефлексии (социальное знание, моральное знание и т. п.). Принципиальная
незавершимость подобной рефлексии, относительность экспертных оценок, их авторитета и полноты, а
также неопределенное множество возможных социальных контекстов жизни человека в условиях модерна
ставят его перед неосуществимостью рефлексивного проекта С, а следовательно, перед проблемами
экзистенциальной безопасности и доверия к другим. Вместе с тем абстрактность систем экспертного знания,
призванного помочь в рефлексии, отрывает человека от традиционного оценивания поведения. При этом
возникает проблема выбора принципов радикальной, а не только ситуационной оценки поведения,
поскольку именно с их отсутствием связано чувство экзистенциального недоверия, онтологического риска.
Именно этой проблеме принципов, на которых строится ответственность человека и его нравственная
рефлексия, посвящены исследования Ч. Тэйлора.
Тэйлор [15] исходит из того, что способность отвечать за свои действия является конститутивной для С.
Анализируя эту способность, он ссылается на различие двух типов желания — первого и второго
порядка, где последние представляют собой стремления контролировать первые. Ответственность за самого
себя выражается в желании контролировать желания первого порядка. Способность к осуществлению
желаний реализуется благодаря рефлексии. В последней Тэйлор также различает два типа. Рефлексию
первого типа он называет неквалитативной. Это способность оценивать несовместимость друг с другом
различных обстоятельств, препятствующих или благоприятствующих совершению желаемых действий. Их
несовместимость случайна, и рефлексия на основе подобных оценок не является нормативной.
Рефлексия второго типа получает название квалитативной. Здесь конфликт с другим желанием не
случаен, он имеет более глубокую основу. Храбрость противоположна трусости независимо от
обстоятельств. Желание спасти свою жизнь само по себе законно, но в некоторых случаях следование ему
означает трусость, поэтому стремление к самосохранению квалитативная рефлексия ограничивает
нормативной оценкой, основанной на качественном различии храбрости и трусости. Утилитаризм
современной цивилизации склонен заменять квалитативную рефлексию на неквалитативную, тем самым
разрушая специфическую структуру человеческой С. — способность человека отвечать за свое поведение.
Рефлексия основана на ценностях. Господство утилитарных ценностей, точнее — замена ценностей
калькуляцией удовольствия, разрушает радикальное оценивание себя. Поскольку само это господство не
осуществляется автоматически, а совершается при посредстве решения человека о себе самом, то всегда
остается вопрос, имеем ли мы право жить без радикального оценивания. По мысли Тэйлора, благодаря
наличию в нашем поведении самоконтроля мы все равно оказываемся ответственны за свое бытие, которое в
этом смысле является «бытием под вопросом» (Хайдеггер), поскольку в его основе лежит рефлексия —
оценивание собственных действий.
Разбирая пример Ж.-П. Сартра, которым тот стремится проиллюстрировать свою идею радикального
выбора, Тэйлор отмечает в нем некоторую некорректность. Сартр описывает моральную дилемму, которую
должен решить некий молодой человек — остаться с больной матерью или уйти, чтобы участвовать в
антифашистском Сопротивлении. С точки зрения Сартра, оба варианта для него морально обязывающие, и
выбор между ними — это радикальный выбор, который порождает ценность одного из них для этого
человека. В этом смысле проект С. основан на радикальном выборе человека, т. е. на выборе, не имеющем
оснований.
541
Тэйлор пишет, что описанная дилемма не могла бы возникнуть, если бы оба варианта уже не были
морально обязывающими для этого человека, если бы они для него не были значимы как ценности до
всякого выбора. Это выбор между оценками в сильном (квалитативном) смысле, но не выбор самих оценок.
Проблема возникает из-за отсутствия для этого человека языка оценки самой дилеммы, она не «измерима»
для него на основе квалитативных различий. Действительно радикальный выбор существует между
следованием долгу и пренебрежением им. Именно в этом выборе решается, что для человека по настоящему
значимо, он принимает решение о том, что представляет собой в своей глубине. В этом смысле такое
решение осуществляет радикальную рефлексию о наиболее фундаментальных моментах С, это глубинная
саморефлексия. Но она предполагает существование обязывающих квалитативных различий — ценностей;
только относительно них возможен выбор самого себя, решение вопроса о собственном бытии в его
