Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология
Подождите немного. Документ загружается.


Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
471-
-471
сначала выступают деньги, а затем, капитал, для неискушенного наблюдателя мистически творящий «из
ничего» проценты.
Таким образом, фетишизм товарного хозяйства отражает в себе глубочайшую особенность этой системы
хозяйства — а именно независимость хозяйственных явлений от воли отдельных товаропроизводителей
и всех их в совокупности. «При товарном хозяйстве общество теряет власть над хозяйственными
процессами, происходящими в нем самом; одухотворяя товар, общество совершенно правильно
характеризует свою слабость и беспомощность управлять движением товаров. Поэтому товарный
фетишизм, хотя и является иллюзией, но необходимой иллюзией товарного хозяйства» [4: 89]. Фетишизм
товарного хозяйства неразрывно связывается Марксом с отчуждением (см.: Техника, II).
Предпринятый Марксом анализ товарной формы многими авторами рассматривался в качестве
фундаментального прорыва в сфере теории сознания. «Маркс входит в тот весьма немногочисленный круг
мыслителей в истории человечества — во всей истории их можно перечислить по пальцам, — которые
поднимали мыслью целые пласты реальности, обнажали целые массивы новых предметных переплетений и
зависимостей. Отчетливо фиксируя условия и посылки подобного нового «геологического обнажения», они
на столетия вперед определяли сам стиль познающего мышления... Вместе со многими другими предметами
подобной перестройке после Маркса подверглось и сознание как область исследований или просто
интуитивное представление, полагаемое вообще социальным анализом» [5: 295]. Более того, методология
исследования товарной формы многими исследователями рассматривалась в качестве основы некоего
универсального метода анализа любых знаковых и фетишизированных форм, которая может быть
применена в самых разных научных сферах, от изучения лингвистических знаков и до анализа сновидений.
«Несмотря на совершенно правильное объяснение «тайны величины стоимости», — писал известный
современный неомарксист В. Жижек, — товар остается для классической политэкономии мистичной,
загадочной вещью — и точно такая же ситуация складывается при анализе сновидения. Даже после того, как
мы объяснили его скрытый смысл, его латентную мысль, сновидение остается загадочным феноменом; то,
что все еще остается необъясненным, — это его форма; процесс, посредством которого скрытый смысл
маскирует себя в подобной форме» [6: 23]. И не случайно, что некоторые исследователи связали умирание
классических товарно-денежных отношений и, соответственно, закона стоимости, с отмиранием
классической формы знака вообще [9].
Что же касается вопроса о действии закона стоимости во всех реалиях и на всех уровнях
капиталистической экономики и, соответственно, объяснения на его
499
основе таких явлений, как обмен между трудом и капиталом, средняя прибыль, рента, то наиболее
известный анализ Марксовых методологических новаторств в этой сфере был предпринят Э.В. Ильенковым
[7, 8]. Однако обсуждение этих вопросов уже выходит за рамки данной статьи, так что заинтересованному
читателю мы предлагаем самостоятельно ознакомиться с творчеством этого автора.
Библиография
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
2. Рикардо Д. Соч. Т. 1. М., 1956.
3. Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 23.
4. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. М., 1998.
5. Мамардашвили М. Анализ сознания в работах Маркса // М. Мамардашвили. Как я понимаю
философию. М., 1990. С. 295-315.
6. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
7. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении.
М., 1999.
8. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
Сорвин К.В.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ (к позиции 4.2)
Ц. м. — структурные компоненты цивилизации, обеспечивающие возможность ее существования во
времени как целостного образования.
Бытие любого общества покоится на деятельности людей, которая делится на определенные виды,
выполняющие необходимые для него функции. В процессах деятельности между людьми складываются
общественные отношения. Устойчивые, сохраняющиеся в смене поколений отношения образуют
характерные для различных сфер общественной жизни структуры. Назначение и разнообразие последних
определяет уровень развития и сложность строения самого общества. Так, марксизм обратил внимание на
то, что созидательный труд есть вечное естественное и необходимое условие и основа жизни общества, ибо
человеческое общество не сможет существовать, если люди не будут производить пищу, одежду, строить
жилища и т. д. Но в первобытном обществе производство было настолько слабо и примитивно, что люди
могли выживать только сообща, едиными и сплоченными группами противостоя природе. Этому состоянию
соответствовала родоплеменная организация жизни людей того времени, включавшая в себя отношения
родства, традиции, обычаи с их системами запретов (табу), родовое сознание. В подобных формах

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
472-
-472
проявлялись тогда механизмы объе-
динения людей. Человек осознавал себя не как личность, а как члена рода и племени. Возникавшие
внутри рода противоречия быстро гасились с помощью этих механизмов и не разрушали его.
Возникновение цивилизации, вызванное ростом производства и населения, появлением общественного
разделения труда, прибавочного продукта, неравенства, развитием культуры и т. д., привело к тому, что
прежние механизмы, скреплявшие общество, в новых условиях оказались непригодными для выполнения
такого рода функций.
Три новых фактора приобрели здесь решающее значение:
1. Возникновение вызванных разделением труда экономических связей — рынка, внутренней и внешней
торговли, частной собственности и связанной с ней экономической зависимости и т. д.
Рынок сопровождает развитие цивилизации с самого начала. Экономические связи, олицетворяемые
рынком, являются важнейшим фактором сохранения и укрепления цивилизации, а также каналом
межцивилизационного общения. Масштабы экономических связей конкретного рынка могут быть самыми
разнообразными, начиная с местного, национального, регионального и вплоть до мирового рынка. Как Ц. м.
рынок выполняет разнообразные функции, которые в совокупности вносят существенный вклад в
обеспечение целостности цивилизации. Интегрирующая роль рынка в жизни цивилизации является
общепризнанной.
Рынок, торговля возникли еще в предцивилизационный период (обмен и торговля между племенами).
Цивилизация превратила его из случайного в постоянное явление общественной жизни, придала ему более
развитые формы, связанные с появлением денег, затем с превращением в товар рабочей силы человека,
переходом от стихийного рынка к регулируемому и т. д. Но интегративная роль экономических рыночных
связей только усиливалась.
2. Перемещение центра тяжести в вопросе выживания общества с его противостояния природе на
внутренние для самого общества противоречия.
Достижение цивилизации означает выделение человека из природы, его высвобождение из рабской
зависимости от природы. Человек уже прочно утвердился на Земле, расселился по ее поверхности и в
наиболее продвинутых ареалах поднялся на новую ступень, когда простое приспособление человека к
природе сменяется приспособлением природы к потребностям человека.
Цивилизация возникает у земледельческих народов. Пашня — вот первая форма окультуривания при-
500
родной среды. Она является предпосылкой цивилизации, которая возникает вместе с созданием
городских поселений — дальнейшим продолжением процесса выделения человека из природы и ее
преобразования. Это принципиальное изменение во взаимоотношении человека и природы вытекает из
самих основ цивилизации, которая способна существовать не в девственной, а только в окультуренной
природе, приспособленной к потребностям цивилизованного образа жизни.
Но с развитием индустриального общества его давление на природу достигло таких масштабов, что без
помощи человека уже невозможно поддержание естественного равновесия в биосфере Земли, что угрожает
подрывом естественных оснований существования человеческого общества. Чтобы не допустить здесь
опасного развития событий, человечество обязано выработать Ц. м., включающие в себя новую культуру с
такой системой ценностей, которая ориентирует на установление гармонических отношений между
обществом и природой. Это становится непременным условием дальнейшего существования современной
цивилизации.
3. Появление внутренних экономических и социальных противоречий. Их источником стали отношения
собственности, порождающие, в противовес первобытному равенству, экономическое и социальное
неравенство, отношения господства и подчинения, эксплуатацию человека человеком, первоначально в
таких грубых и примитивных формах, как рабство. Общество разделилось на большие социальные группы с
подчас непримиримыми интересами. С точки зрения цивилизационного подхода на первый план выступают
уже не проблемы сплочения человеческих сообществ перед лицом чуждой и враждебной им природы, а
задачи сохранения их способности поддерживать свое существование, воспроизводить материальные и
культурные основы жизни, сохранять свою целостность в условиях раздирающих их внутренних
противоречий.
К внутренним противоречиям цивилизации можно отнести и межэтнические конфликты. Конечно,
столкновения между племенами имели место и в условиях первобытности. Но цивилизация придала
межэтническим и межгосударственным столкновениям новое качество. Войны стали источником дохода,
перераспределения богатства, захвата рабов и новых территорий. Гибелью конкретной цивилизации
начинает угрожать уже не земная природа, а внутренние причины, коренящиеся в самом обществе, в том
числе межцивилизационные противоречия. Известно, что многие древние цивилизации погибали в
результате завоеваний.
В самом общем виде теоретическая проблема формулируется так. Цивилизация не только не устраняет
противоречия в обществе, но с необходимостью их порождает. Поэтому для нее существенно, чтобы ни
классовая борьба, ни другие острые внутренние противоречия, столкновения, войны не разрушали
социальные связи, не приводили к их распаду, к прекращению производства, разрушению семьи,
нарушению связи поколений, преемственности в области культуры и т. д.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
472-
-472
проявлялись тогда механизмы объе-
динения людей. Человек осознавал себя не как личность, а как члена рода и племени. Возникавшие
внутри рода противоречия быстро гасились с помощью этих механизмов и не разрушали его.
Возникновение цивилизации, вызванное ростом производства и населения, появлением общественного
разделения труда, прибавочного продукта, неравенства, развитием культуры и т. д., привело к тому, что
прежние механизмы, скреплявшие общество, в новых условиях оказались непригодными для выполнения
такого рода функций.
Три новых фактора приобрели здесь решающее значение:
1. Возникновение вызванных разделением труда экономических связей — рынка, внутренней и внешней
торговли, частной собственности и связанной с ней экономической зависимости и т. д.
Рынок сопровождает развитие цивилизации с самого начала. Экономические связи, олицетворяемые
рынком, являются важнейшим фактором сохранения и укрепления цивилизации, а также каналом
межцивилизационного общения. Масштабы экономических связей конкретного рынка могут быть самыми
разнообразными, начиная с местного, национального, регионального и вплоть до мирового рынка. Как Ц. м.
рынок выполняет разнообразные функции, которые в совокупности вносят существенный вклад в
обеспечение целостности цивилизации. Интегрирующая роль рынка в жизни цивилизации является
общепризнанной.
Рынок, торговля возникли еще в предцивилизационный период (обмен и торговля между племенами).
Цивилизация превратила его из случайного в постоянное явление общественной жизни, придала ему более
развитые формы, связанные с появлением денег, затем с превращением в товар рабочей силы человека,
переходом от стихийного рынка к регулируемому и т. д. Но интегративная роль экономических рыночных
связей только усиливалась.
2. Перемещение центра тяжести в вопросе выживания общества с его противостояния природе на
внутренние для самого общества противоречия.
Достижение цивилизации означает выделение человека из природы, его высвобождение из рабской
зависимости от природы. Человек уже прочно утвердился на Земле, расселился по ее поверхности и в
наиболее продвинутых ареалах поднялся на новую ступень, когда простое приспособление человека к
природе сменяется приспособлением природы к потребностям человека.
Цивилизация возникает у земледельческих народов. Пашня — вот первая форма окультуривания при-
500
родной среды. Она является предпосылкой цивилизации, которая возникает вместе с созданием
городских поселений — дальнейшим продолжением процесса выделения человека из природы и ее
преобразования. Это принципиальное изменение во взаимоотношении человека и природы вытекает из
самих основ цивилизации, которая способна существовать не в девственной, а только в окультуренной
природе, приспособленной к потребностям цивилизованного образа жизни.
Но с развитием индустриального общества его давление на природу достигло таких масштабов, что без
помощи человека уже невозможно поддержание естественного равновесия в биосфере Земли, что угрожает
подрывом естественных оснований существования человеческого общества. Чтобы не допустить здесь
опасного развития событий, человечество обязано выработать Ц. м., включающие в себя новую культуру с
такой системой ценностей, которая ориентирует на установление гармонических отношений между
обществом и природой. Это становится непременным условием дальнейшего существования современной
цивилизации.
3. Появление внутренних экономических и социальных противоречий. Их источником стали отношения
собственности, порождающие, в противовес первобытному равенству, экономическое и социальное
неравенство, отношения господства и подчинения, эксплуатацию человека человеком, первоначально в
таких грубых и примитивных формах, как рабство. Общество разделилось на большие социальные группы с
подчас непримиримыми интересами. С точки зрения цивилизационного подхода на первый план выступают
уже не проблемы сплочения человеческих сообществ перед лицом чуждой и враждебной им природы, а
задачи сохранения их способности поддерживать свое существование, воспроизводить материальные и
культурные основы жизни, сохранять свою целостность в условиях раздирающих их внутренних
противоречий.
К внутренним противоречиям цивилизации можно отнести и межэтнические конфликты. Конечно,
столкновения между племенами имели место и в условиях первобытности. Но цивилизация придала
межэтническим и межгосударственным столкновениям новое качество. Войны стали источником дохода,
перераспределения богатства, захвата рабов и новых территорий. Гибелью конкретной цивилизации
начинает угрожать уже не земная природа, а внутренние причины, коренящиеся в самом обществе, в том
числе межцивилизационные противоречия. Известно, что многие древние цивилизации погибали в
результате завоеваний.
В самом общем виде теоретическая проблема формулируется так. Цивилизация не только не устраняет
противоречия в обществе, но с необходимостью их порождает. Поэтому для нее существенно, чтобы ни
классовая борьба, ни другие острые внутренние противоречия, столкновения, войны не разрушали
социальные связи, не приводили к их распаду, к прекращению производства, разрушению семьи,
нарушению связи поколений, преемственности в области культуры и т. д.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
474-
-474
Ж.-Ж. Руссо, согласно которой Ц. является не прогрессивным, а регрессивным явлением в истории
человечества, ибо она разрывает единство человека и природы — позиция, нашедшая сторонников и в XIX
столетии, вплоть до Л.Н. Толстого, и своеобразно преломившаяся в культурологии романтиков, и на Западе,
и в России. В противоположность славянофилам, противопоставлявшим Ц. культуре как деятельность
научно-техническую духовному творчеству, религиозному в своей основе, преобладающему в России и тем
самым возвышающему ее над покоренным бездуховной буржуазной Ц. Западом, Т.Н. Грановский настаивал
на необходимости видеть в Ц. единство «духовного» и «материального» начал. Впрочем, и такой видный
представитель славянофильской идеологии, как Н.Я. Данилевский не проводил принципиального различия
между понятиями «Ц.» и «культура», подобно Э.Тэйлору, тогда как О. Шпенглер, который в данном
отношении, как и ряде других (о чем было сказано в разъяснении понятия «культура») (см.: Культура, ΙΙ),
существенно отличался от своего русского предшественника и потому не заслуживает не раз звучавших
обвинений в плагиате в книге «Закат Европы» (см.: «Закат Европы», II) оказавшей большое влияние на
культурологическую мысль ХХ в., трактовал Ц. как последнюю стадию развития каждого типа культуры,
выражающую ее омертвление, вытеснение одухотворенности прозаическими материально-техническими
интересами.
Изменение отношения к Ц. и ее противопоставление культуре было неслучайным — оно отражало
противоречия реального процесса развития западного мира, в котором научно-технический прогресс с
появлением железных дорог, электричества, телефона и радио, фотографии и кинематографии — и т. д., и т.
п., стремительно изменял повседневную жизнь людей, придавая все более высокую ценность материальным
удобствам, совершенствованию быта, комфорту; вместе с тем радикально возрастала роль денег, власть
которых шла на смену религиозно освященной власти
502
высших сословий и которые оттесняли на задний план, а подчас попросту вытесняли бескорыстные,
духовные, нравственно высокие интересы, устремления, идеалы. Так развивался, углублялся, обострялся
конфликт между научно-техническим прогрессом, неразрывно связанным с капиталистической экономикой,
и духовно-нравственным, религиозным, художественным потенциалами культуры. Кульминационными
точками стали использование научных достижений химии для массового уничтожения людей в Первой
мировой войне, атомная бомбардировка японских городов в конце Второй мировой войны, неодолимо
развивающийся экологический кризис, породивший все более мощное движение «зеленых», а в наши дни и
консервативный антиглобализм, наконец, опасные для сохранения человеком своих человеческих качеств
эксперименты генной инженерии, сделавшей возможным вторжение соответствующих технологий в
генофонд человека.
Таким образом, разведение понятий «культура-» и «Ц.» является не досужей игрой теоретиков в
дефиниции и дистинкции, а попыткой теоретически описать фундаментальные противоречия жизни
человечества в эпоху капитализма, индустриализма, тотальной технизации бытия, реальной угрозы
превращения человека в «киборга» — кибернетический организм, утративший обретенное им в ходе истории
духовное содержание.
В советское время такое понимание Ц. не получало распространения в нашей философии — и потому,
что господство примитивно трактовавшегося марксизма утверждало ценностный примат материального
над духовным, а высокая ценность духовной жизни казалась скомпрометированной ее связью с поверженной
религией, и потому, что бедность, нищета, техническая неразвитость быта порождали ревностное
стремление «догнать и перегнать Америку» именно в этом, материально-техническом и комфортно-
бытовом направлениях. Однако с крушением ленинско-сталинской примитивной версии марксизма как
«единственной подлинно научной идеологии» и переориентацией общественного бытия на рыночные
отношения, замена социалистической ориентации социального процесса на капиталистическую заставила
пересмотреть казавшееся единственно верным формационное — социально-экономическое — членение
исторического процесса; в результате в отечественной культурологии сложился так называемый
«цивилизационный подход», в котором под Ц. понимается единство определенного типа общества и
соответствующего ему типа культуры; так синонимом Ц. становится вошедшее в научный обиход понятие
«социокультурный».
Но и более того — в исследовании И.Н. Ионова и В.М. Хачатрян «Теория цивилизаций от Античности
до конца XIX века» в разряд таких теорий попадают и все теории культуры, как если бы последние были
иначе формулируемым изложением того же самого содержания; это оказалось возможным потому, что
авторы не усмотрели сколько-нибудь принципиальных различий между самими понятиями «Ц.» и
«культура»; возможно, они выявит эти различия в обещанном продолжении упомянутого исследования,
посвященного ХХ в. Уже в «Закате Европы» О. Шпенглера эти различия приобрели принципиальный
характер и потому сохранились даже в категориальном составе «цивилизационного подхода». Нельзя все же
не учитывать и того, что далеко не все ученые разделяют методологические установки данного подхода, и
того, что XIX в. в отличие от XVIII содержательно «развел» эти понятия, исходя прежде всего из
намеченной уже в историософской мысли Просвещения, но еще не ставшего не только общепринятым, но
даже доминирующим, понимания Ц. как этапа истории культуры, отмеченного рождением городов и всем
тем, что в городе «содержалось», от письменности, школы, профессионализированного ремесла,
денежного посредника торговли, бюрократии до городской архитектуры, отвечающей потребностям

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
475-
-475
организации совместной жизни большой и все возраставшей массы людей. При этом необходимо иметь в
виду, что доцивилизационный период существования культуры, генезис которой совпадает с антропогенезом
— ведь человек становился человеком в процессе превращения его животного предка в биосоциокультурное
существо, — был во много раз более длительным, чем цивилизационный период, который длится не более
четырех тысячелетий, тогда как культурогенез в системе социогенеза и антропогенеза насчитывает, по
последним археологическим данным, несколько миллионов лет! Поэтому так называемый
«цивилизационный подход», не вступающий в противоречие со своим названием, должен пренебречь
изучением всего гигантского доцивилизационного периода истории человечества, более того, должен
исключить из поля зрения и фольклор (в широком понимании данного термина, т. е. крестьянскую
культуру), который является по всем признакам доцивилизационным типом культуры, родственным ее
синкретическому первобытному состоянию. (Только политической демагогией, утверждающей
равноценность всех типов культуры, можно объяснить нередкое обозначение нынешних конфликтов в
Чечне, в Афганистане, в тропической Африке как «столкновение цивилизаций» — речь должна идти о
последних отчаянных попытках средневекового варварства любыми доступными ему средствами
противостоять объективно раз-
503
вивающемуся процессу исторического наступления Ц., неодолимо распространяющегося с Запада на
Восток и на Юг).
Существенным аргументом следует наконец признать и то, что поскольку онтогенез, как известно,
изоморфен филогенезу, «цивилизационный подход» должен будет отвлечься от изучения всего
доцивилизационного процесса формирования культуры ребенка, поскольку к культуре он начинает
приобщаться с первых лет своей жизни, а цивилизованным человеком становится — или не становится!
— лишь благодаря многим годам учения.
Таким образом, наряду с изложенной точкой зрения, которая растворяет культуру в Ц., в наше время
сохраняется и «классическая» концепция А. Фергюсона — Л. Моргана — Ф. Энгельса, рассматривающая Ц.
как высшую стадию исторического развития культуры, связанную с тем, что можно было бы назвать
«урбанистической революцией» со всеми ее материально-производственными, социально-
организационными и духовными последствиями (разумеется, «высшую стадию» лишь в пределах известной
нам истории человечества, ибо будущее может — и должно ! — сформировать новое, постцивилизационное
состояние культуры, контуры которого начинают смутно вырисовываться в наше время и уже стали
предметом обсуждения ученых-футурологов, а не только писателей-фантастов).
Сторонники «цивилизационного подхода» видят его преимущество в том, что он преодолевает
противоположность линейно-прогрессивной модели истории человечества и локально-цивилизационной ее
трактовки; однако действительного их преодоления на основе данного подхода все же не происходит,
потому что все сводится к выявлению разных вариантов каждого исторического типа цивилизации, а они
сменяют друг друга по той же линейной схеме. Между тем современная методология познания законов
развития сложных и сверхсложных систем, которую выработала синергетика, дает возможность более
убедительного решения данной задачи, ибо раскрывает нелинейный механизм
развития и процесса становления самой Д., параллельно с сохранением доцивилизационных состояний
культуры у народов, не вышедших и поныне из ее первобытных, раннеземледельческих и скотоводческих
форм, и позволяет объяснить многообразие форм Ц. разным соотношением ее основных подсистем —
политической, светско-духовной и религиозной, а затем нелинейным ходом вызревания
постцивилизационных форм в нынешней индустриальной Ц. Поскольку же история Ц. в контексте истории
культуры рассматривается как развитие диссипативной системы, взаимодействующей с ее средой —
природной, социальной и антропологической, постольку полифуркация (диверсификация) цивилизационных
структур в кризисных фазах процесса развития культуры, в которых силы «хаоса» превосходят энергию
«порядка» (по терминологии И. Пригожина), порождается перекрестным воздействием на эти структуры
особенностей природы в каждом конкретном ареале, особенностей общественного бытия каждого народа и
особенностей физического и психического типа человека, создающего данную разновидность Ц.
Библиография
1. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. М., 1999.
2. Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000.
3. Теория цивилизаций от Античности до конца XIX века. СПб., 2002.
4. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995.
5. Ерасов B.C. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1989
6. Толстых В.И. Цивилизация: Новый философский словарь. Т. IV.
7. Степин B.C. Цивилизационного развития типы. Там же.
8. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Ч. 1-2. СПб., 2001-2002.
9. Civilizations and World Systems. Studying World-Historical Change. Wealnut Greek Altamira
Press. 1995.
10. Wallerstein I. The Politics of the World Economy. Cambridge, 1981.
Каган М.С.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
476-
-476
4. ДИНАМИКА ФОРМ КУЛЬТУРЫ
ИГРА (к позиции 6.5)
И. — самоустремленная активность живого существа, направленная на самое себя как чистую
(незаинтересованную в конечном прагматическом результате) возможность. Феномен культуры, уходящий
корнями в глубины природной жизни. С древнейших времен И. входит в культовые, воспитательные,
образовательные и иные практики (см.: Культурная форма, I; Интериоризация, II; Экранная культура, п).
Имеет принципиальное значение для различения базисных оппозиций культуры: сакрального и профанного,
условного и реального, тайного (загадочного) и явного.
В связи с другими проблемами (сотематически), литературные данные об И. появляются достаточно
давно. Гераклит, по свидетельству Лукиана, отводил И. онтологическое значение: «Об этом я плачу, а еще о
том, что нет ничего постоянного, но все смешано как в болтанке (кикеоне) и одно и то же: удовольствие и
неудовольствие, знание — незнание, большое — малое — [все это] перемещается туда-сюда и чередуется в
И. Вечности (Эона), а что такое Вечность? — Дитя играющее, кости бросающее, то выигрывающее, то
проигрывающее». Существенными в приведенном фрагменте являются такие аспекты И., как повтор
противоположных характеристик (движения, настроения, переживания, осмысленности и т. д.) и
имманентный повтору риск удачи и неудачи. Причем оба этих элемента связуются Гераклитом в форме
загадок (парадоксов), обращающих мысль к первоначалам и удерживающих ее в этом аутентичном
состоянии.
Игровой характер мышления наиболее полно в античной Греции был реализован софистами,
превратившими И. не просто в форму интеллектуальной практики, а в культивируемый образ жизни
образованного человека. Платон, несмотря на всю оппозицию к софистам, в «Законах» называет человека
«игрушкой бога» и поэтому считает, что И. для него есть основа «душевного склада» и его предназначение.
Лишь Божество достойно серьезной заботы. Тема И. и в отношении бытия в целом, и как специфическая
ситуация человеческой жизни, многократно повторяется в античной философии.
Особое значение И. — под влиянием кантовской «Критики способности суждения» — приобретает у
поэта, философа и историка Фридриха Шиллера, который в «Письмах об эстетическом воспитании
человека» рассмотрел И. как специфическую деятельность, через которую человек выходит из «рабства
звериного состояния» в мир культуры и свободы. Этот выход означает не подавление природных
склонностей моральными ценностями (как, к примеру, в философии Канта), а культивирование их
гармоничной связи. В И. чувственное влечение к материи и разумное влечение к форме становятся
культурным произведением. Поэтому только в И., в мире условного, человек оказывается действительно
свободным и, следовательно, по-настоящему человеком.
И. как сфера свободного общения выступает у протестантского теолога Фридриха Шлейермахера как
основание нравственности (см.: Мораль и нравственность, II). Существенное значение игровые
моменты имеют в развитой Шлейермахером концепции герменевтики, в частности в «психологической
интерпретации» в связи с проблемой «угадывания» смысла. В работах одного из ведущих идеологов
романтизма Фридриха Шлегеля происходит непосредственно возвращение к гераклитовскому
представлению об И. как онтологическом основании мира, которое воспроизводится наиболее адекватным
образом в художественном произведении. Тема И. и конфликта в жизни универсума многообразно
разыгрывается в поэзии и философии Фридриха Ницше (см.: Ценность, I).
И. как центральная тема осмысления появляется лишь к началу ХХ века сразу в многообразии
философских, культурологических, эстетических, психологических, этологических, экономических и иных
исследований. Особое культурологическое значение имеет трактат нидерландского историка культуры
Йохана Хейзинги «Homo Ludens» (Человек играющий). Опыт определения игрового элемента культуры». В
некоторой степени его подход является развитием и радикализацией идей Шиллера. По Хейзинге, И. старше
культуры и уходит своими корнями в глубины природной жизни. Последнее, однако, не означает
возможности
505
биологического (этологического) исчерпания концепта И. В И. «мы имеем дело с такой функцией живого
существа, которая полностью может быть столь же мало определена биологически, как логически или
этически. Понятие И. странным образом остается в стороне от всех остальных интеллектуальных форм, в
которых мы могли бы выразить структуру духовной и общественной жизни».
Тезис Хейзинги о том, что «И. старше культуры» не означает и того, что исторически сначала была И., а
затем из нее возникла культура. Культура возникает из И., развивается через И. и существует в современном
мире в формах И.
И. по своей сути «избыточна» в отношении любой серьезной целеполагающей деятельности. Она
«празднична» и локализована в специфичном хронотопе «свободного времени», отгороженного условными
границами от мира обыденной, каждодневной жизни. Как необычное, оно вынесено за границы обычности.
Внутри этого хронотопа действуют свои правила, отличные от правил серьезной деятельности. И. всегда
играется по правилам. Базисной чертой временения (основания ее правильности) в И. является не линейное
разворачивание событий, но ритмично воспроизводящийся повтор исходной ситуации. В И. оппозиция
«серьезному» весьма условна и открыта к взаимному оборачиванию — И. в серьезность, а серьезности в И.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
476-
-476
4. ДИНАМИКА ФОРМ КУЛЬТУРЫ
ИГРА (к позиции 6.5)
И. — самоустремленная активность живого существа, направленная на самое себя как чистую
(незаинтересованную в конечном прагматическом результате) возможность. Феномен культуры, уходящий
корнями в глубины природной жизни. С древнейших времен И. входит в культовые, воспитательные,
образовательные и иные практики (см.: Культурная форма, I; Интериоризация, II; Экранная культура, п).
Имеет принципиальное значение для различения базисных оппозиций культуры: сакрального и профанного,
условного и реального, тайного (загадочного) и явного.
В связи с другими проблемами (сотематически), литературные данные об И. появляются достаточно
давно. Гераклит, по свидетельству Лукиана, отводил И. онтологическое значение: «Об этом я плачу, а еще о
том, что нет ничего постоянного, но все смешано как в болтанке (кикеоне) и одно и то же: удовольствие и
неудовольствие, знание — незнание, большое — малое — [все это] перемещается туда-сюда и чередуется в
И. Вечности (Эона), а что такое Вечность? — Дитя играющее, кости бросающее, то выигрывающее, то
проигрывающее». Существенными в приведенном фрагменте являются такие аспекты И., как повтор
противоположных характеристик (движения, настроения, переживания, осмысленности и т. д.) и
имманентный повтору риск удачи и неудачи. Причем оба этих элемента связуются Гераклитом в форме
загадок (парадоксов), обращающих мысль к первоначалам и удерживающих ее в этом аутентичном
состоянии.
Игровой характер мышления наиболее полно в античной Греции был реализован софистами,
превратившими И. не просто в форму интеллектуальной практики, а в культивируемый образ жизни
образованного человека. Платон, несмотря на всю оппозицию к софистам, в «Законах» называет человека
«игрушкой бога» и поэтому считает, что И. для него есть основа «душевного склада» и его предназначение.
Лишь Божество достойно серьезной заботы. Тема И. и в отношении бытия в целом, и как специфическая
ситуация человеческой жизни, многократно повторяется в античной философии.
Особое значение И. — под влиянием кантовской «Критики способности суждения» — приобретает у
поэта, философа и историка Фридриха Шиллера, который в «Письмах об эстетическом воспитании
человека» рассмотрел И. как специфическую деятельность, через которую человек выходит из «рабства
звериного состояния» в мир культуры и свободы. Этот выход означает не подавление природных
склонностей моральными ценностями (как, к примеру, в философии Канта), а культивирование их
гармоничной связи. В И. чувственное влечение к материи и разумное влечение к форме становятся
культурным произведением. Поэтому только в И., в мире условного, человек оказывается действительно
свободным и, следовательно, по-настоящему человеком.
И. как сфера свободного общения выступает у протестантского теолога Фридриха Шлейермахера как
основание нравственности (см.: Мораль и нравственность, II). Существенное значение игровые
моменты имеют в развитой Шлейермахером концепции герменевтики, в частности в «психологической
интерпретации» в связи с проблемой «угадывания» смысла. В работах одного из ведущих идеологов
романтизма Фридриха Шлегеля происходит непосредственно возвращение к гераклитовскому
представлению об И. как онтологическом основании мира, которое воспроизводится наиболее адекватным
образом в художественном произведении. Тема И. и конфликта в жизни универсума многообразно
разыгрывается в поэзии и философии Фридриха Ницше (см.: Ценность, I).
И. как центральная тема осмысления появляется лишь к началу ХХ века сразу в многообразии
философских, культурологических, эстетических, психологических, этологических, экономических и иных
исследований. Особое культурологическое значение имеет трактат нидерландского историка культуры
Йохана Хейзинги «Homo Ludens» (Человек играющий). Опыт определения игрового элемента культуры». В
некоторой степени его подход является развитием и радикализацией идей Шиллера. По Хейзинге, И. старше
культуры и уходит своими корнями в глубины природной жизни. Последнее, однако, не означает
возможности
505
биологического (этологического) исчерпания концепта И. В И. «мы имеем дело с такой функцией живого
существа, которая полностью может быть столь же мало определена биологически, как логически или
этически. Понятие И. странным образом остается в стороне от всех остальных интеллектуальных форм, в
которых мы могли бы выразить структуру духовной и общественной жизни».
Тезис Хейзинги о том, что «И. старше культуры» не означает и того, что исторически сначала была И., а
затем из нее возникла культура. Культура возникает из И., развивается через И. и существует в современном
мире в формах И.
И. по своей сути «избыточна» в отношении любой серьезной целеполагающей деятельности. Она
«празднична» и локализована в специфичном хронотопе «свободного времени», отгороженного условными
границами от мира обыденной, каждодневной жизни. Как необычное, оно вынесено за границы обычности.
Внутри этого хронотопа действуют свои правила, отличные от правил серьезной деятельности. И. всегда
играется по правилам. Базисной чертой временения (основания ее правильности) в И. является не линейное
разворачивание событий, но ритмично воспроизводящийся повтор исходной ситуации. В И. оппозиция
«серьезному» весьма условна и открыта к взаимному оборачиванию — И. в серьезность, а серьезности в И.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
478-
-478
С.Л. [23], Леонтьева А.Н.[14, 15], разрабатывалось Гальпериным П.Я.[7], материалы по этому
вопросу можно найти в работах Зинченко В. П. [10], Поливановой К.И.[22], Обуховой Л.Ф., Давыдова
В.В., Эльконина Д.Б., Левиной P.E., Луковой Г.Д. и др.
Наиболее широко трактовал это понятие Л.С. Выготский. Оно получило принципиальное значение в
культурно-исторической концепции — как одно из центральных положений этой теории (закон культурного
развития): «.. .Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах,
сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая,
затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая... переход извне внутрь трансформирует сам
процесс, изменяет его структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отношениями стоят
социальные отношения, драма, которая происходит между людьми» [5]. В работе «История культурного
развития ребенка как социогенез высших форм поведения» Выготский описывает социальную реальность
как внешнюю, определяет реальность внутреннюю, как формирование внутреннего плана сознания, а
именно фор-
мирование высших психических функций. Вместе с понятием «экстериоризации» понятие «И.» позволяет
удерживать динамическую картину психической реальности.
Экстериоризация — обнаружение (exterior — наружный), в психологии процесс, в результате
которого внутренняя психическая жизнь человека получает внешне выраженную (знаковую и
социальную) форму. Человек овладевает собой извне, как одной из сил природы, при помощи особой
техники знаков, создаваемой культурой [3]. Обычно экстериоризация подразумевается тогда, когда
говорят об И., так как экстериоризация обнаруживает И. Экстериоризация и И. — неразрывно
связанные процессы, образующие культурную пульсацию.
У Выготского И. получает наиболее обобщенное прочтение, но у него же И. имеет и узко специальное
значение. В первом случае И. представлена как закон или механизм формирования высших психических
функций в онтогенезе, во втором случае — как одна из стадий этого процесса.
Ж. Пиаже использовал понятие И. в своей операциональной теории развития интеллекта для описания
операций, сочетающих обобщенные, сокращенные, взаимообразные действия, полагая, что только в
идеальном плане можно построить схему действий и вывести из их результатов «принцип сохранения»
основных свойств вещей, основные константы предметного мира. Образование внутреннего плана у Пиаже
не составляло самостоятельной проблемы и выступало следствием развития мышления, в этом случае И. —
явление вторичное, означающее создание плана идеальных собственно логических конструкций. Для Пиаже
человеческая психика — инструмент адаптации к условиям жизни. Процесс социализации, усвоение
социально-общественного опыта ребенком происходит в результате преобразования, социализации
естественных, природных биологических механизмов. Отсюда своеобразные стадии интеллектуального
развития (моторный интеллект, т. е. ручной, двигательный, сенсомоторный интеллект, стадия
интеллектуальных операций) [20]. Это постепенный перенос механизмов приспособления в идеальный план
(их «вращивания», но остается открыт вопрос «куда?», который каждый раз вновь возникает в очередном
исследовании). В отличие от Пиаже, Выготский, как уже упоминалось, понимал психику человека и ее
развитие как результат культурно-исторического процесса. Пиаже результатом И. считал очеловечивание
психики (социализацию), биологической по своей природе; согласно Выготскому, присвоение
человеческого ребенком — это не вытеснение биологического, а вбирание в себя культурно-исторического
опыта. Иными словами, для Пи-
507
аже И. — результат собственного опыта, для Выготского — человеческого действия, начинающегося в
коллективе; и ребенок только благодаря этапу совместного действия с другим человеком оказывается в
состоянии осуществить действие самостоятельно.
Очевидно, что понятие «И.» связано с представлением о развитии (онто- и филогенезе). В зависимости
от того, как представляется идея развития (субъект развития, среда развития и т. д.), меняется нагрузка и на
понятие «И.». Например, у Пиаже и у его последователей развитие — это прежде всего развитие интеллекта.
У Пиаже И. объясняет перенос действия и его объекта в план представления, она осуществляется с
помощью символической функции — продукта индивидуального развития ребенка. В данном случае акцент
часто переносится с понятия «И.» на использование символической функции как ее механизма. У Пиаже
развитие есть следствие взаимодействия субъекта с предметом, у Выготского — с другим человеком.
А.Н. Леонтьев, акцентировавший в концепции Выготского роль орудия (что спорно), излагая ее
основные положения, писал следующее: «Благодаря опосредованности деятельности орудием
психические процессы человека приобретают структуру, имеющую в качестве своего обязательного
звена общественно-исторически сформировавшиеся средства и способы, передаваемые ему
окружающими людьми в процессе сотрудничества, в общении с ними. Передача средства, способа
выполнения того или иного процесса может происходить только во внешней форме — в форме
действия или речи» [14].
Центральное содержание развития ребенка — присвоение им достижений исторического развития
человечества, которые выступают первоначально перед ним в форме внешних предметов и внешних
словесных знаний. Их общественное значение ребенок может отразить в своем сознании путем
осуществления по отношению к ним деятельности, адекватной той, что в них воплощена и опредмечена.
Она всегда совместна. По мнению Леонтьева, для построения ребенком мыслительного действия надо дать
его содержание во внешне-предметной экстериоризированной форме, и затем путем ее преобразования,

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
479-
-479
умственное. Всякое понятие есть продукт деятельности, поэтому само понятие не может быть передано
учащемуся в готовом виде, но можно организовать, построить адекватную для его формирования
деятельность.
Этапы освоения умственных действий и понятий были тщательно описаны и изучены П.Я. Гальпериным.
Одним из ключевых терминов теории поэтапно-планомерного формирования умственных дей-
ствий и понятий явился термин И.: первоначально-развернутое действие обобщается, сокращается и на
заключительной стадии в умственном плане приобретает характер психического процесса. Умственный
план формируется в ходе и в результате И.; происходит преобразование непсихического явления в
психическое [7]. СЛ. Рубинштейн считал, что И. — не механизм, а характеристика направления, в котором
идет процесс. И. идет не от материально-внешней деятельности, лишенной внутренних психических
компонентов, а от одного способа существования психических процессов к другому способу их
существования — относительно независимого от внешнего материального действия, т. е. И. возможна, если
субъект уже обладает способностью усваивать человеческие способы действий, уже обладает психикой.
«Всякая внешняя материальная деятельность человека уже содержит внутри себя психические компоненты
(явления, процессы), посредством которых осуществляется ее регуляция» [23].
В заключение обзора по проблеме И. в психологической литературе приведем критические замечания в
отношении использования этого понятия, наиболее содержательно высказанные В.П. Зинченко.
Зинченко подчеркивает сложность и органичность этого явления, а также его двунаправленность,
употребляя такие метафоры, как «вращивание» и «выращивание». Однако, по его мнению, в ходе
употребления понятий «Э.» — «И.» стоящая за ними реальность перестала восприниматься как драма и
загадка развития, и в этом случае логика этих понятий элиминирует творческий характер развития. Он
обращает внимание на то, что нет единого философского и теоретического понятия внутреннего и внешнего.
Развитие представления об И. не будет успешным, пока не удастся освободиться от натуралистически
понимаемого внутреннего (так как в этом случае И. — это «вращивание в никуда»). Зинченко также
обращает внимание и на то, что отсутствует единое философское и теоретическое понятие предметной
деятельности. По его мнению, предметная деятельность «в такой же степени материальна, как и идеальна; в
такой же степени предметна, сколь и ментальна, а порой и духовна; если признать, что живое движение
живо не только (и не столько) своими внешними формами, но и формами внутренними, если признать, что
предметное действие опосредовано не только внешними орудийными или знаковыми средствами, но
содержит в себе, в своей внутренней картине, или форме, образ, цель, интенции, мотив, слово; если признать
наконец, что сама предметная деятельность есть идеальная форма, то понятие «И.» в теоретической
психологии станет излишним». Зинчен-
508
ко считает, что это «место уже начинает занимать понятие дифференциации живого движения,
предметного ли (или совокупного) действия, предметной ли (или совокупной) деятельности. В результате
дифференциации изначально имеющиеся в предметной деятельности зачатки ментальных образований
никуда не интериоризируются, а, напротив, объективируются, экстериоризируются, т. е. вырастают и
автономизируются от предметной деятельности» [10].
Однако Зинченко полагает, что еще не пришло время отказываться от понятия «И.» Нам кажется, что
критические замечания Зинченко касаются не самого явления И., а использования понятия «И.» в
сложившемся научном дискурсе. Подытоживая приведенные выше материалы к истории этого
использования, можно только сказать, что явление «Э. — И.» нуждается в дальнейшем исследовании и
анализе, поскольку то, что ранее воспринималось в психологии как данное (развитие, деятельность, психика
и т. д.), на самом деле представляет собой комплекс проблем, нуждающихся в глубоком анализе (в том
числе — философском).
2. Судьба понятия «интериоризация» в современной культурной ситуации
Понятие «И.» образует «векторный фонд» науки, оно как бы «уточняет» контекст существенных, но
весьма неопределенных понятий, таких как развитие, социализация, адаптация, формирование внутреннего
плана сознания, психики и т. д. Проблема состоит в том, что для понятия «И.» трудно указать область его
собственной предметности, т. е. совокупность явлений, имеющих свой собственный генезис, атрибутику,
широко представленную в культуре практику.
Найти область собственной предметности этого понятия, с нашей точки зрения, способна помочь идея
«демонстрирующей культуры», которая основана на том, что в современной ситуации начинают себя
показывать, становятся явлением сами механизмы формирования человека в культуре (см.: Культурная
форма, I). Характер современного культурного поля приобретает плотность, подчеркнутую наглядность,
вызывающую активность, демонстративность. В контексте идеи демонстрирующей культуры к проблеме
И. возможно отношение как к сугубо практической, а не только абстрактно-теоретической. Но за культурой
демонстрирующей возможно наблюдать только в духе документальных съемок, как с камерой за объектом,
чтобы не упустить детали. Вписывание в некогда сложившийся в связи с понятием И. философский дискурс
в таком случае не является основной задачей.
Прежде всего отметим некоторые важные характеристики явления И. Если мы обозначаем И. как переход
извне внутрь, то, чтобы правильно его понять, необходимо найти место в культуре явлению перехода как
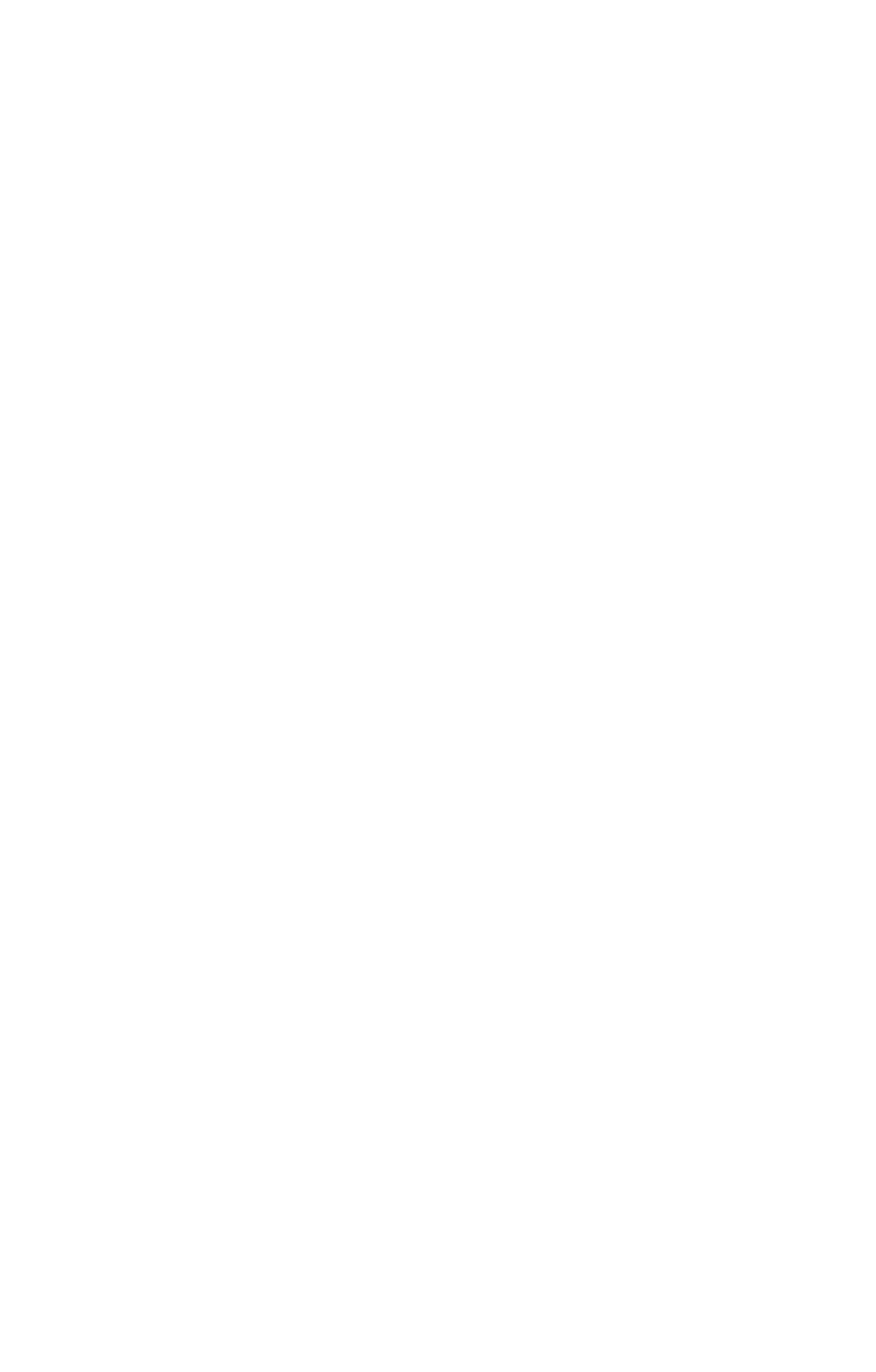
Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.
480-
-480
таковому. Сейчас эта задача, особенно в связи с размытостью границ между внешним и внутренним,
становится одной из наиболее актуальных.
Предварительно специфическую особенность тех процессов, на которые указывает термин «И.», мы
обозначим в общем виде так: маркировка границы между внутренним и внешним. Прежде всего эта
формула ставит вопрос о формировании в процессе развития самого различия внешнего и внутреннего, а
затем и вопрос об определении этого различия в процессе исследования, причем оба аспекта взаимосвязаны.
Особенно важно учесть, что осуществление и удержание этой маркирующей функции предполагает
целостность процесса, в котором внешнее и внутреннее оказываются его аспектами. Т. о., И. как маркировка
границы направляет внимание исследователя и на само это целое, и на его формирование как в исследуемом
феномене, так и в сознании самого исследователя. Это особенно важно, потому что мы живем в
многослойной и динамичной реальности, которую трудно уложить в заранее заданную схему дефиниций
(например, культурная и социальная реальности, психика и сознание, и т. д. в зависимости от контекста в
чем-то совпадают, а в чем-то отличаются друг от друга). Вследствие этого даже корректный исследователь,
в силу особенностей человеческой психики, восприятия, не в состоянии удерживаться только в одной
реальности, в одном ее слое, плане, а значит, он должен учитывать моменты перехода из одной реальности в
другую и уметь эти переходы маркировать. Маркировка различия внутреннего и внешнего становится
существенной, т. к. она выражает специфику нашего жизненного мира. Следует учитывать, что различие
внешнего и внутреннего имеет для нас не просто гносеологическое, но и этическое измерение.
Несоответствие внешнего выражения и внутреннего содержания проявляется в явлениях стыда и вины, в
феномене лицемерия и т. п.
Так, библейское повествование говорит о «кожаных одеждах», которые Творец дал падшим
людям для покрытия их наготы. Характерно, что само ощущение наготы как несоответствия
маркирует в Библии падение, что предполагается вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг?» (Бытие,
3:11, 21). Сходный смысл имеет переживание вины, а также феномен лицемерия (ср. фарисейство и
евангельский образ повапленных (окрашенных) гробов, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны нечистоты: Мф.23:27)
Изучение формирования подобных различий в культуре и личности этически затрагивает и
исследователя, адресует ему вопрос не чисто гносеологическо-
509
го свойства, на который нельзя не обратить внимания, иначе он будет мешать самому исследованию. В
свою очередь, этический аспект отношений внешнего и внутреннего имеет и гносеологические следствия. И.
позволяет увидеть структуру познавательного акта, обнаруживая ценностную (этическую) и аффективную
компоненты познания, а также их важность в познавательном процессе.
В пронизанной культурными опосредованиями жизни человека внешнее всегда представлено во
внутреннем уже на генетическом, далее на рефлекторном, психическом и др. уровнях. Этот сложный
механизм представленности дает основу для аналогических принципов. В настоящее время они используются
на периферии научного знания (именно эти аналогии кладутся в основу таких «подозрительных», с
классической научной точки зрения, областей знаний, как гомеопатия, антропософская медицина и т. д.).
Нам кажется, что на пути к целостному видению человека иногда полезно сравнение всех систем,
обеспечивающих связь организма со средой, например пищеварительной и нервной, что и делается, в
частности, в области психоанализа и гештальттерапии (3. Фрейд, Ф.Перлз).
Например, в гештальттерапии придается большое значение взаимодействию индивида со средой
(обмену психологическими содержаниями по типу питания) — прекращение этого обмена
оценивается как невротическое.
Принцип аналогии высоко оценивался О. Шпенглером, который отмечал, что аналогия есть средство
понимания живых форм. В данной статье мы неоднократно будем обращаться к принципу аналогии как
позволяющему проявить, наметить глубинные культурные опосредования всех уровней жизни человека.
Сложность взаимоотношений внутреннего и внешнего, с одной стороны, говорит, казалось бы, о
неперспективности работы в отношении разделения внешнего и внутреннего в силу необычайного
динамизма их взаимодействия, но, с другой стороны, практика нашей жизни говорит о необходимости и
возможности этого разделения каким-то особым, условным способом.
Культурология, обращаясь к области явлений перехода, открывает поле культуры как сферу
взаимодействия ее форм, где последние преобразуются и меняются. Эти процессы и запечатлеваются в
культурных формах (см.: Культурная форма, I). Причем чем сложнее культура и чем более
дифференцировано многообразие ее явлений, тем сложнее добраться до ее культурных форм, до внутренних
законов их организации, тем меньшее число людей в данной культуре оказывается к этому способно. У
человека почти не остается шан-
сов стать носителем культуры как целого: и автором, субъектом в отношении включающих его
культурных процессов в условиях всесторонней детерминации культурной средой. Отсюда ясна роль
тематизации феноменов, маркирующих границу перехода внешнего и внутреннего.
Одним из таких феноменов, маркирующих эту границу, может быть представлена мифология. Это
кажется странным, поскольку миф обычно понимается как такая культурная среда, о которой не
рассуждают, в которой живут, не задаваясь вопросом, откуда и почему возникли ее образы. Но если
обратить внимание на сами эти образы и выполняемую ими функцию, то миф оказывается одним из
