Баткин Л.М.Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления
Подождите немного. Документ загружается.

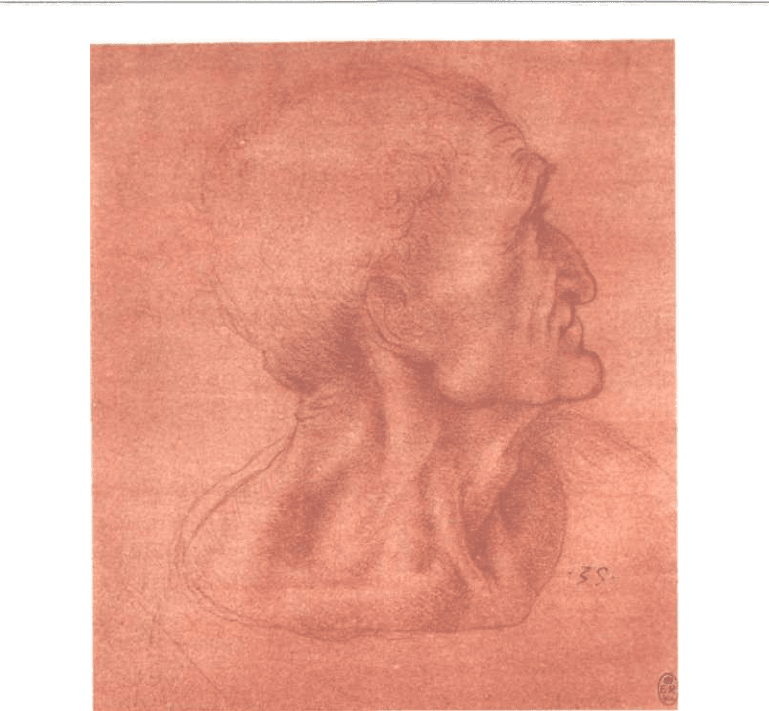
120
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
также и благодаря интимному переживанию уникальной земной судьбы и стра-
стей Христовых, переживанию, позволявшему каждому верующему с предель-
ной остротой ощутить себя индивидом, однако не как „себя", а как сумевшего
вместить Того, кто стал богочеловеком ради спасения всего человечества. Так
или иначе, отказываясь от индивидности и приникая к индивидности Христа,
молясь Богу-Отцу и Богу-Сыну, средневековый европейский человек обретал
себя приобщаясь, причащаясь, то есть делаясь частью внеположного целого. Ма-
ксимум личной яркости – это богоизбранность, это святой, иначе говоря, тот,
кому дано отречься от себя в наибольшей степени, а вместе с тем принять собст-
венный искус и пройти собственный страстнотерпческий путь по вечному при-
меру. Единственный же перед умственным взором Средневековья случай того,
кто стал, так сказать, личностью через отпадение от бога, – это Люцифер, Са-
тана; и все, в чем выражалось самоутверждение (гордыня, честолюбие, потака-
ние своим страстям и т.п.), было грехом сатанинским.
Всеобщее умаление довлеющей себе индивидуальности (речь идет, конечно,
не об эмпирической картине жизни в Средние века, а об оформленной, концеп-
туальной, парадигматической стороне этой культуры
21
) получало необходимое
возмещение в представлении о мировом, абсолютном индивиде как творце
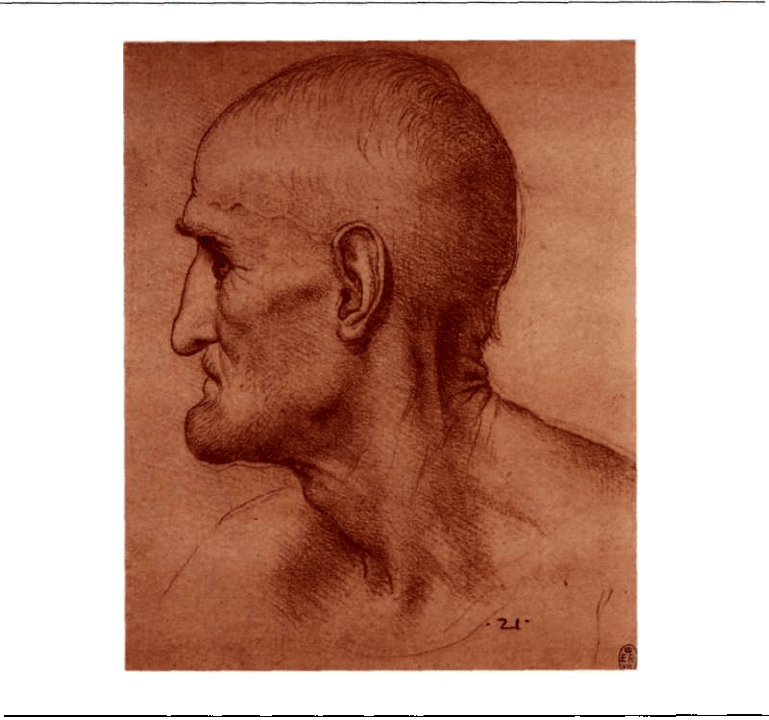
Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■
121
29, 30. Головы апостолов Иуды и Симона
всего сущего или как распятом Спасителе. Когда же пришло время для поисков
человеческой личности каждого, ренессансный ум поневоле должен был „от-
талкиваться" от прежнего представления, стало быть, не только отрицать, но и
исходить из него. Понять человека как суверенного индивида значило его обо-
жествить. Другого исторического способа в XV веке не было.
Но тем самым индивидуальность, которую напряженно ищет и возносит
Возрождение, сразу же оказывается логически неуловимой, парадоксальной.
Она есть отдельное, вот это, имеющее основание в себе самом, и она не смеет
быть чем-то частным, не может иметь основания в своей обособленности, на-
против – она сразу все, восхитительный образец человеческой божественности.
Это позже „общечеловеческое" превратится в результат отвлеченного рассмо-
трения. Возрождение же видит в каждом индивиде непосредственную потен-
цию общечеловеческого, и притом в полном объеме. В каждом „достойном" ин-
дивиде торжествуют бог и природа! – и в другом индивиде они торжествуют
снова, как бы впервые, иначе, всегда иначе. Непохожесть каждого индивида на
остальных индивидов и есть то, что делает всех индивидов похоже всеобщими,
поскольку трансцендентно-всеобщее уступает место природному, а природно-
всеобщее полагается как конкретное „разнообразие". „Одинокость" человека
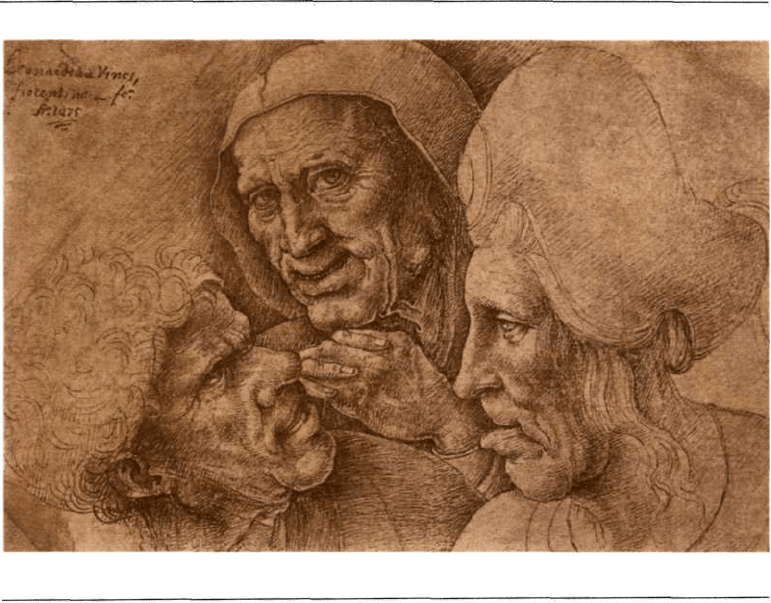
122
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
31, 32, Гротескные головы
противоположна одинокости Бога, индивид – один из одиноких, он „герой", но,
так сказать, в толпе героев, он исключителен, лишь будучи вставлен в почти бес-
конечный ряд. Словом, он нечто несусветное; выступает как всеобщее по-
стольку, поскольку еще не стал всеобщим, а лишь способен к этому. Он невоз-
можен. Только он и возможен.
Специфическая проблематика ренессансного индивидуализма – индивиду-
ализма „переходной" эпохи, иначе говоря, эпохи, мышление которой утвержда-
лось как логика переходности, – по-видимому, не случайно сказалась не прямо,
не через понятие „личности", которого еще не было, а через внешне непритяза-
тельные, не обнаруживающие решающего мировоззренческого значения и
окольно ведущие к личности „обилие и разнообразие".
Но к личности „обилие и разнообразие" в состоянии были вести только бла-
годаря своему столкновению, и в этом плане смысловые шероховатости, стран-
ности, трудности разбиравшегося альбертиевского текста кажутся весьма знаме-
нательными.
В самом деле. Если бы „разнообразие" совпадало с порядком и мерой (а
именно этого, казалось бы, требует Альберти), если бы „достоинство" состояло
только в том, что вещи (фигуры) находятся „на своих местах", так что все не-
сходное было бы соединено в высшей гармонии, – тогда „разнообразие" утра-
тило бы собственный независимый смысл и свелось бы к concinnitas в качестве
одного из ее определений. Тогда это было бы разнообразие, предполагаемое
между частями, которые постепенно восходят к целому, то есть не рядополо-
жены, а соподчинены иерархически: мелкие детали – крупным, крупные – еще
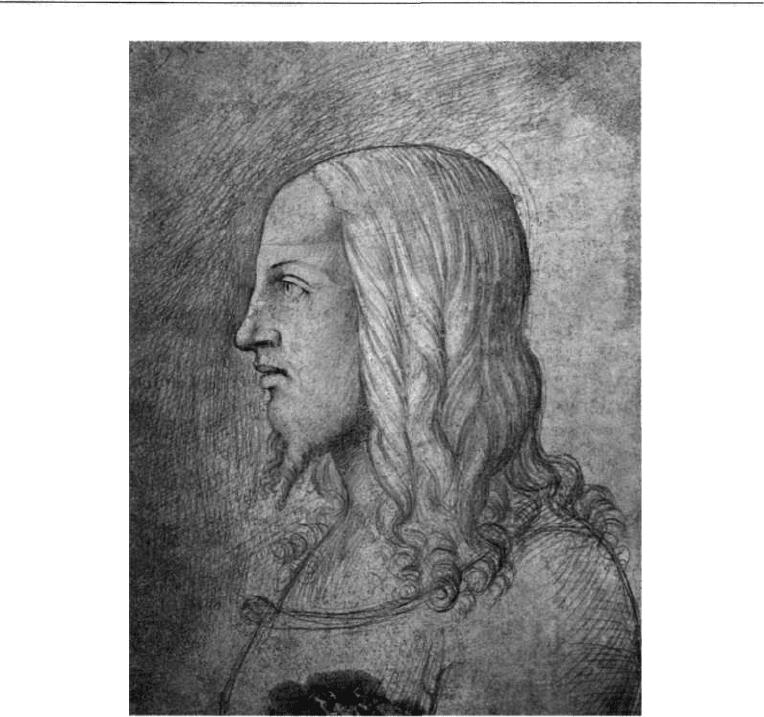
Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■
123
более крупным, вплоть до завершенной живописной композиции (мирозда-
ния). Тогда „разнообразие" лишь частный и производный момент этой прекрас-
ной и упорядоченной целостности, тогда множество стягивается к единству, и
встроенная в это единство индивидуальность в конечном счете вынуждена рас-
статься со своими прерогативами. В исследованиях об Альберти всюду на пер-
вом плане concinnitas, „разнообразие" же лишь изредка отмечается в связи с
нею. Что ж, это действительно есть у Альберти и во всем искусстве итальянс-
кого Возрождения. Это, если можно так выразиться, близкая ренессансному
мышлению тенденция к архитектурности, и в ее рамках можно говорить об „ар-
хитектурном" предощущении индивидуальности.
„Во всякой вещи приправа изящества – разнообразие, если только оно спло-
чено и скреплено взаимным соответствием разъединенных частей. Но если эти
части одна от другой будут разобщены и будут разниться между собой разногла-
сящим различием, то разнообразие будет совершенно нелепо"; „...красота есть
строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они при-
надлежат, – такая, что ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, не сделав хуже".
Поэтому художник должен всегда основываться на „строгом и устойчивом пра-
виле". Недопустим „произвол, который не обуздывается никакими предписани-

124
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
ями искусства". Эти предписания „необходимо соблюдать как законы"
22
. „Не-
льзя, – справедливо замечает В. П. Зубов, – резче и определенней
формулировать мысль о существовании абсолютных законов в искусстве"
23
.
Но в другом месте тот же Альберти пишет с типично ренессансной непосле-
довательностью: „Мы не должны действовать, словно по принуждению зако-
нов". И поясняет, что любая часть архитектурного целого сама тоже целое,
даже части дома, скажем, „столовая, портик и тому подобное также суть некие
жилища". В своей самостоятельности части уже не могут быть просто выведены
из общего
24
. Проницательно обратив внимание на это противоречие, В. П. Зубов
считал его все же „мнимым", внешнесловесным и полагал, что Альберти при-
шел к „синтезу детерминированности и свободы"
25
. Мне же думается, что это
противоречие, столь важное для понимания культуры Возрождения вообще, от-
нюдь не было мнимым, что оно не было и не могло быть преодолено Возро-
ждением, по крайней мере в форме теоретической рефлексии, но, оставаясь по-
стоянно решаемой и вновь возникающей проблемой, отпечаталось в структуре
ренессансного творчества, послужив его скрытым стимулом, став его историче-
ским содержанием.
Дело в том, что concinnitas, знаменитая гармония Возрождения, взятая сама
по себе, немедленно обнаруживает, как это ни странно, – вопреки античным ре-
минисценциям и окраске – средневековое происхождение. Ведь в устроенном, за-
конченном, архитектурно-едином мире индивид – лишь часть, закрепленная на
своем месте. В порядок и меру можно только „входить", но выйти уже нельзя,
как нельзя выйти портику из здания или фигуре из средневековой иконографи-
ческой схемы (в этом смысле иконопись „архитектурна", а не „живописна").
Значит, мировая гармония противоречила ренессансному индивидуализму?
Именно так. Но потому-то понятие „разнообразия" и раздваивалось на copia
e varietà, на concinnitas и tumultus, на „обилие" и „одинокость". Внутреннее ло-
гическое напряжение у Альберти, неотвязность идеи „обилия" (почти бесконеч-
ного перечня, вселенской сумятицы – словом, неупорядоченного разнообразия)
получают, кажется, существенное объяснение. Особость ренессансной вещи
смутно сознавалась обусловленной ее включенностью в мировой поток, бессвяз-
ную непрерывность, мешанину (dissoluta confusione). Достигнутая гармония не
позволяет индивиду сдвинуться, определяться собой, а не местом; „мешанина"
же дает возможность индивиду проявить инициативу. Из „обилия" можно вый-
ти, выделиться – и прийти к „достоинству". Скрытый диалог „обилия" и „разно-
образия" дает возможность самоопределения вещей (фигур), которые не стоят
„на своих местах" изначально, а занимают, очерчивают их собою, вносят поря-
док в сумятицу и оказываются сами мерой и порядком. Так – не заданной раз и
навсегда схемой, а движением фигур данной „истории" – устанавливалась „ком-
позиция" ренессансной картины. Этот новый (тоже заимствованный из рито-
рики) термин понадобился Альберти не потому, что до Возрождения, в иконо-
писи, не было композиции, она даже слишком там была, а потому, что отныне
картину („историю") следовало изобретать, компоновать заново – правда, еще с
чувством, что изобретать надо согласно норме, в соответствии с вечными зако-
нами „природы"
26
. Можно было бы назвать идею выделения фигур из „обилия",
перехода от „обилия" к „композиции" живописной концепцией ренессансного
мышления. Спор изобретения и нормы, свободы и выстроенности, „живопис-
ной" и „архитектурной" концепций индивидуального, спор принципиально не-

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■
125
33. Гротескные головы. Ок. 1490
завершенный, но создающий некое смысловое поле, в котором рождается сво-
еобразный индивидуализм, – это, если угодно, и есть культура Возрождения.
Если позволительно считать ее итогом „гармонию", то лишь в крайне драмати-
ческой форме движения к гармонии.
И движения к идее личности, зашифрованной в категории „разнообразия".
Это – проблема „одинокой" фигуры, которая не нуждается и все-таки нужда-
ется в других, возникает из „обилия" и вопреки „обилию", требует вокруг себя
пустоты, обеспечивающей дискретность (выход из ряда вон, самодостаточ-
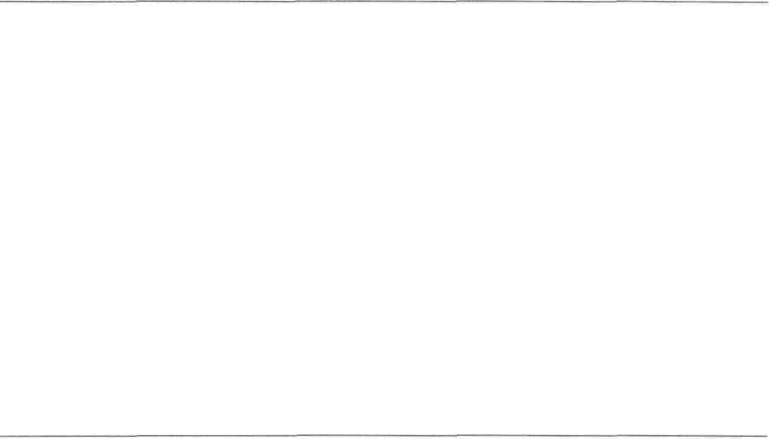
126
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
ность), но и сама предстает, в сущности, как некое пустое, неопределенное ме-
сто неведомых возможностей. Потому-то, очевидно, в портретах (да и в пейза-
жах, вообще в любых живописных творениях итальянского Возрождения) нас
более или менее поражает противоречие между индивидуальной конкретно-
стью изображения и совмещением в нем сразу всех состояний человеческого
духа и природы. Это делает ренессансных персонажей монструозными, усколь-
зающими от понимания. Это приковывает к ним внимание, но может и раздра-
жать современного ценителя „искусственностью", сделанностью – и отсутст-
вием итога
27
. Что такое леонардовская „Дама с горностаем", или „Портрет
кардинала" Рафаэля, или „Спящая Венера" Джорджоне, или „Мадонна Аннун-
циата" Антонелло да Мессины? Всюду нечто парадоксальное: индивидуальная
редкостность всеобщего.
НЕБЕСНЫЙ ШУТ MOM
Во введении к трактату „Мом, или О государе" Альберти пишет, что бог распре-
делил все достоинства между сотворенными им вещами, но – „пожелал сохра-
нить только для себя, одного и единственного, полноту и целостность божест-
венности, сосредоточенной в нем в наивысшей степени". Звездам досталась
сила, земле – красота, душе – разумность и бессмертие, в божестве же сосредо-
точилась его единственность, его исключительность. „Из всего, что должно быть
оценено в божестве, наипервейшее, если не ошибаюсь, – это то, что оно единст-
венно единое, единственно одно (ut sit unice umis, unice solus)". „Отчего и про-
истекает, что все редкое и непохожее на остальное издревле почитается в чело-
веческих мнениях как бы божественным". Поэтому нас поражают известия о
всяких чудищах или знамениях и вообще „все, что случается редко". И наобо-
рот: все подлинно выдающееся редко. „Природа вещей такова, что соединяет
величайшее и невиданное с редкостностью и ничто изящное и значительное не-
льзя представить иначе как редким". „Потому-то, пожалуй, если мы замечаем,
что некие люди, благодаря превосходной одаренности, выделяются из толпы,
так что оказываются в неком похвальном роде занятий столь же необыкновен-
ными, сколь и редкими, то мы таких людей называем божественными и, науча-
емые природой, окружаем их восхищением и почестями, почти как богов. Ибо,
без сомнения, мы познаем во всем редком божество, ведь редкие вещи тяго-
теют к тому, что едино и в превосходной степени единственно (ut unica, atque
egregie sola) и что выделяет их среди множества прочих". Примером служат до-
стоинства античных авторов.
В связи с этим Альберти рассуждает о том, что хотя писателю трудно и по-
чти невозможно что-либо добавить к тому, что сказано бесчисленными авто-
рами до него, но все же долг сочинителя – писать лишь то, что неизвестно чита-
телям и не приходило им в голову: „... принадлежит, надо полагать, к редкому
роду людей тот, кто выскажет вещи новые, неслыханные. А также тот, кто из-
вестные и обычные вещи описал бы в неком новом и неожиданном роде". Ко-
нечно, именно такую задачу и ставит перед собой он, Альберти! Он убедился на
собственном опыте, „сколько требуется усилий и предприимчивости, если ста-

Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■
127
раешься любой ценой оказаться непохожим на других в достойном и торжест-
венно-значительном [роде]". Однако изложить серьезнейшие вещи смеясь и
играя куда трудней, чем полагают несведущие люди. Ведь многие, стремясь вы-
сказать нечто редкостное, на деле говорят „самое заурядное и плебейское", но с
важным и напыщенным видом, дабы снискать похвалу. „Мы же, напротив, до-
биваемся, чтобы наши читатели смеялись", научаясь при этом лучшей жизни
28
.
Далее, в начале первой книги „Мома", Альберти рассказывает, что среди бо-
гов можно найти воплощения „разных и почти невероятных дарований и нра-
вов" (поясняя, что под богами впредь следует разуметь в этой аллегории „силы
души"). Есть боги серьезные и суровые, есть легкомысленные и веселые. Они
непохожи друг на друга. Но притом, как сильно ни разнятся боги своими повад-
ками, все же нет никого среди богов, как и среди людей, кто оказался бы „нату-
рой настолько исключительной и исполненной духа противоречия", чтобы не
походить на других хотя бы отчасти. Один лишь среди всех богов ни на кого ни-
чуть не похож – это бог смеха, божественный шут Мом, задирающий даже
близких „словами и поступками", не щадящий никого и никем не любимый
29
.
Понятие „редкостности" или „единственности" в „Моме" – то же, что и по-
нятие „одинокости" в живописной композиции. И тот же парадокс: в пределе
„единственность" есть достояние только божества. Индивид же и непохож; на
других и похож; абсолютная непохожесть сделала бы человеческого индивида
несопоставимым и, следовательно, невозможным в качестве такового, сделала
бы его богом. Между тем индивид потому и индивид, что существует также
множество других индивидов; однако в этом ряду, перечне, „обилии" скрадыва-
ется его индивидность, его особенность и непохожесть.
Так завязывается коллизия ренессансного индивидуализма. Чтобы стать
вполне индивидуальным, Мом должен выпасть из сонма богов, оказавшись
единственным богом, отличие которого состоит не в том или другом положи-
тельном качестве, но только лишь в самой единственности, если угодно, „одино-
кости", на отшибе от прочих. И, конечно же, не случайно этим богом, доводя-
щим до крайности принцип индивидуализма и воплощающим „несходство с
другими", в притче Альберти выступает бог смеха, небесный шут. Мом, подо-
бно Протею, не имеет ничего своего за душой. Он лишен определенного, собст-
венного облика, поскольку бывает собою лишь тогда, когда передразнивает дру-
гих, превращается в других, пусть в смеховом, пародийном плане. Концентра-
ция индивидуальности выглядит как ее опустошение, то есть индивидуальность
Мома, его „единственность" и несравненность, означает неограниченную спо-
собность становиться всем, что ни есть в мире (разумеется, выворачивая при
этом мир наизнанку: характеристика Мома отличается от характеристики чело-
века в трактате Пико делла Мирандолы лишь отрицательным знаком).
Замечательно, что в предшествующем рассуждении Альберти (из Введения
к „Мому") единственность божественного творца куда важней всех его осталь-
ных содержательных определений, важней силы, красоты, бессмертия, разума.
Господь щедро раздает свои качества звездам, земле, человеческим душам, сох-
раняя для себя лишь то, что он „единственно единый, единственно один". Самое
божественное в абсолютном индивиде – абсолютность его индивидности. Каче-
ство исключительности замыкается на себя: бог не исключителен в том или
ином отношении, а просто исключителен, исключителен именно своей исклю-
чительностью. Следовательно, бог – как образец ренессансного индивида – ак-
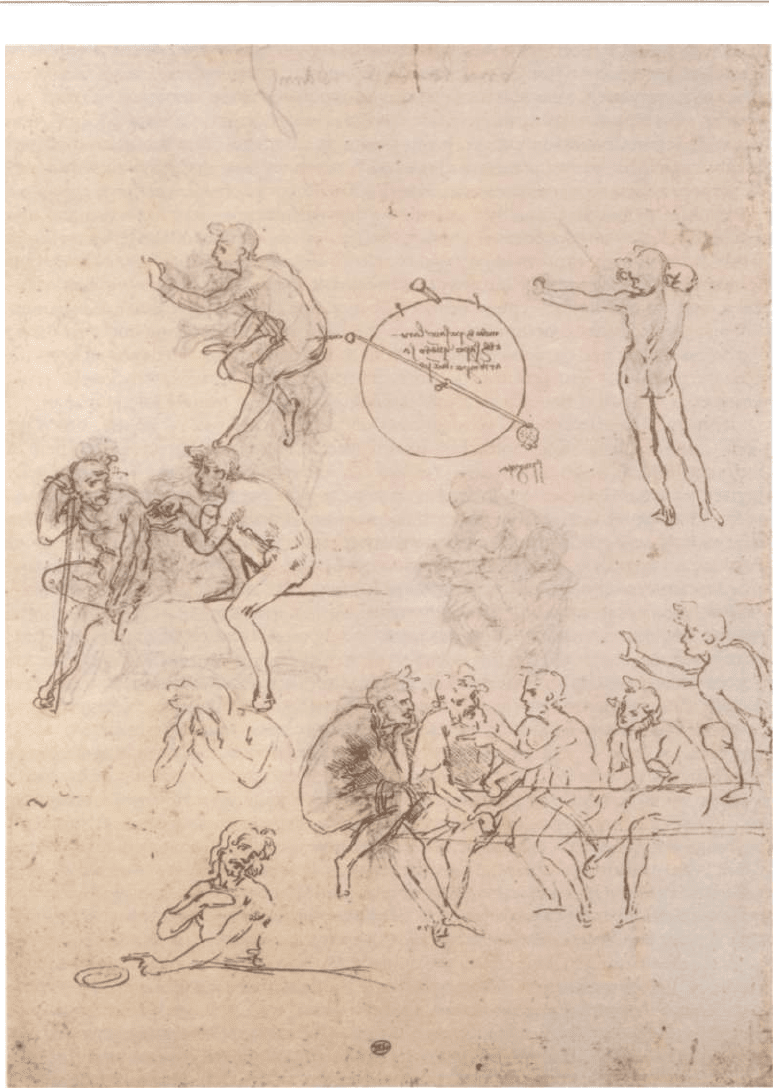
128
■ Часть первая. Внутренняя логика ренессансной культуры (категория варьета)
34. Наброски фигур
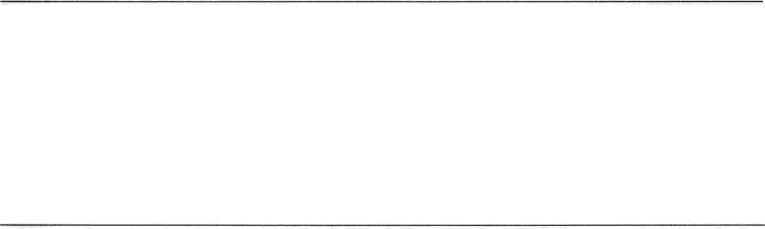
Категория варьета у Леона Баттисты Альберти ■
129
туально выглядит пустым и бессодержательным, но потенциально он есть Все.
Дополнением к единственности бога служит обилие конкретных состояний и
форм, которые он источает и в которые он переходит.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Поиски личности свершались ренессансной мыслью на основе традиционного
материала, в средневековом космосе, где „Единое" и „многое" сопряжены
иерархией мироздания. В антично-христианском кругу понятий, известных в
XV веке, понятия новоевропейской „личности" быть не могло, а между тем час
ее трудного рождения пробил. Рождение личности опережало ее логическую
экспликацию, но ведь культурная новизна никогда не сводится к „практике" в
эмпирически-описательном смысле, неосознанность духовных изменений все-
гда более или менее мнимая, поскольку действительная практика культуры со-
стоит как раз в перестройке модели мира, эта практика насквозь концептуальна,
насквозь теоретична, пусть ее ведет, так сказать, лишь теоретический инстинкт.
„Неосознанность" ренессансной концепции личности – специфическая форма
культурного сознания. Понятие личности в эпоху итальянского Возрождения
сквозило в точке пересечения иных, надличных (бог) или внеличных (природа)
понятий, которые в результате с необходимостью преобразовывались. Понятие
личности непосредственно возникало прежде всего в виде проблематики „раз-
нообразия", со скрытым спором „обилия" и „одинокости". Всего и вот этого.
Ренессансная личность в понятийном отношении свободно плавает между
этими тезой и антитезой. Для гуманиста нет ничего выше „единственности",
„редкостности", индивидности, но этот принцип не мог быть обоснован через
понимание индивида как „частного лица"; напротив, ренессансный индивид был
способен утвердиться в собственном сознании только как лицо всеобщее. Это
не было еще новоевропейским утверждением через себя, через свою конкрет-
ную, закрепленную особенность, самодостаточность – и не было уже средневе-
ковым утверждением через приобщение к богу, то есть через отрицание инди-
видуальности. Инстанцией, к которой апеллировал и с которой отождествлял
себя человек Возрождения, была мировая природа; индивидуальность находила
обоснование в природном разнообразии
30
.
„Разнообразие" – очень странное, текучее понятие. Оно указывает на пол-
ноту Вселенной и как будто бы не нуждается ни в каких логических субъектах,
заведомо вбирая их всех в себя. С другой стороны, „разнообразие" в качестве го-
тового, неподвижного понятия совершенно бессодержательно, это предикат,
оторванный от множества субъектов, которые все разные – но что, собственно,
разное? Поэтому „разнообразие" может осуществиться лишь в форме перечня.
Логический смысл перечня состоит как в возможности перехода от одного к
другому, так и в возможности остановки на том и другом. В каждый момент пе-
речисления „разнообразие" перестает быть предикатом и становится конкрет-
ным и особенным „вот этим", субъектом, но лишь с тем, чтобы тут же рас-
статься с ним и перейти к другому. В этой системе представлений будущая
(пока неопределенная) личность толкуется негативно – как несходство инди-
