Богатырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства
Подождите немного. Документ загружается.

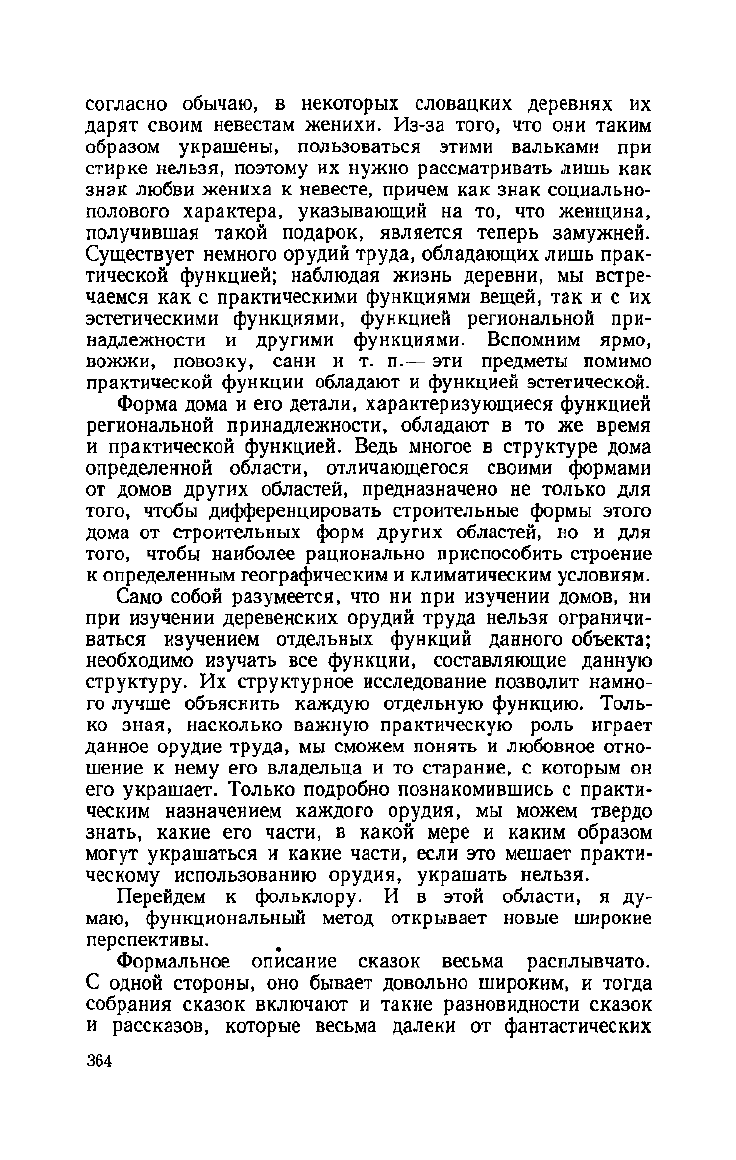
согласно обычаю, в некоторых словацких деревнях их
дарят своим невестам женихи. Из-за того, что они таким
образом украшены, пользоваться этими вальками при
стирке нельзя, поэтому их нужно рассматривать лишь как
знак любви жениха к невесте, причем как знак социально-
полового характера, указывающий на то, что женщина,
получившая такой подарок, является теперь замужней.
Существует немного орудий труда, обладающих лишь прак-
тической функцией; наблюдая жизнь деревни, мы встре-
чаемся как с практическими функциями вещей, так и с их
эстетическими функциями, функцией региональной при-
надлежности и другими функциями. Вспомним ярмо,
вожжи, повозку, сани и т. п.— эти предметы помимо
практической функции обладают и функцией эстетической.
Форма дома и его детали, характеризующиеся функцией
региональной принадлежности, обладают в то же время
и практической функцией. Ведь многое в структуре дома
определенной области, отличающегося своими формами
от домов других областей, предназначено не только для
того,
чтобы дифференцировать строительные формы этого
дома от строительных форм других областей, но и для
того,
чтобы наиболее рационально приспособить строение
к определенным географическим и климатическим условиям.
Само собой разумеется, что ни при изучении домов, ни
при изучении деревенских орудий труда нельзя ограничи-
ваться изучением отдельных функций данного объекта;
необходимо изучать все функции, составляющие данную
структуру. Их структурное исследование позволит намно-
го лучше объяснить каждую отдельную функцию. Толь-
ко зная, насколько важную практическую роль играет
данное орудие труда, мы сможем понять и любовное отно-
шение к нему его владельца и то старание, с которым он
его украшает. Только подробно познакомившись с практи-
ческим назначением каждого орудия, мы можем твердо
знать, какие его части, в какой мере и каким образом
могут украшаться и какие части, если это мешает практи-
ческому использованию орудия, украшать нельзя.
Перейдем к фольклору. И в этой области, я ду-
маю,
функциональный метод открывает новые широкие
перспективы.
Формальное описание сказок весьма расплывчато.
С одной стороны, оно бывает довольно широким, и тогда
собрания сказок включают и такие разновидности сказок
и рассказов, которые весьма далеки от фантастических
364
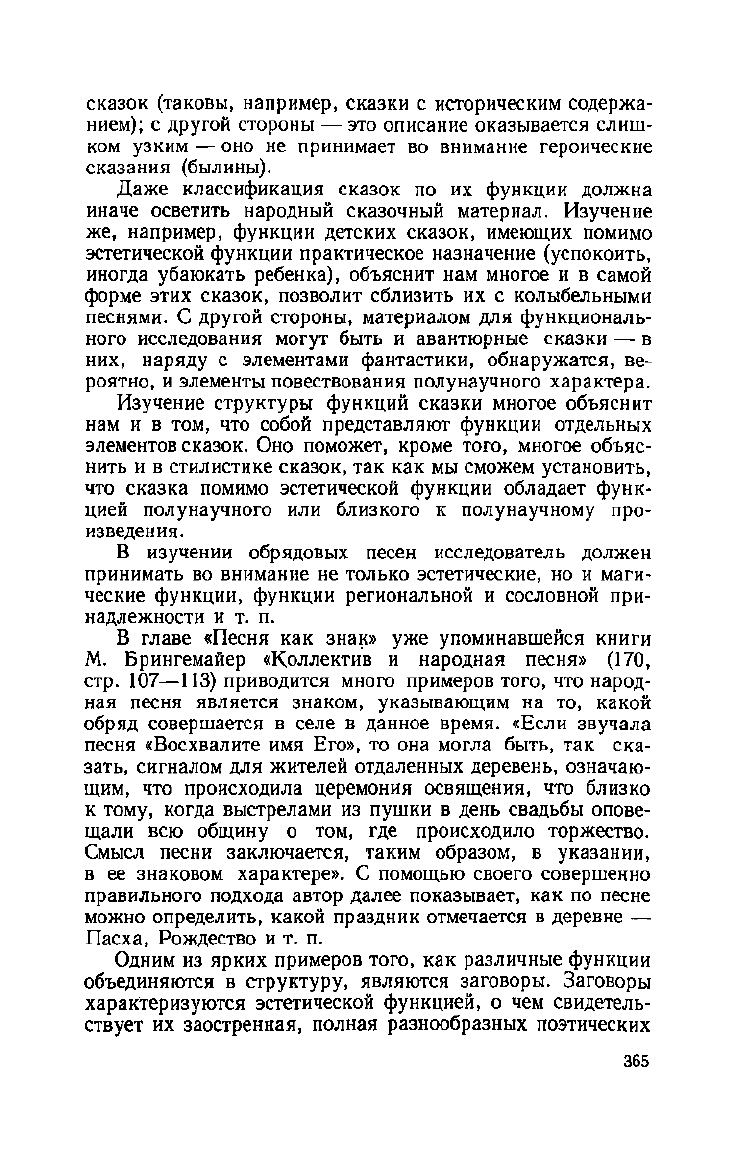
сказок (таковы, например, сказки с историческим содержа-
нием);
с другой стороны — это описание оказывается слиш-
ком узким — оно не принимает во внимание героические
сказания (былины).
Даже классификация сказок по их функции должна
иначе осветить народный сказочный материал. Изучение
же,
например, функции детских сказок, имеющих помимо
эстетической функции практическое назначение (успокоить,
иногда убаюкать ребенка), объяснит нам многое и в самой
форме этих сказок, позволит сблизить их с колыбельными
песнями. С другой стороны, материалом для функциональ-
ного исследования могут быть и авантюрные сказки — в
них, наряду с элементами фантастики, обнаружатся, ве-
роятно, и элементы повествования полунаучного характера.
Изучение структуры функций сказки многое объяснит
нам и в том, что собой представляют функции отдельных
элементов сказок. Оно поможет, кроме того, многое объяс-
нить и в стилистике сказок, так как мы сможем установить,
что сказка помимо эстетической функции обладает функ-
цией полунаучного или близкого к полунаучному про-
изведения.
В изучении обрядовых песен исследователь должен
принимать во внимание не только эстетические, но и маги-
ческие функции, функции региональной и сословной при-
надлежности и т. п.
В главе «Песня как знак» уже упоминавшейся книги
М. Брингемайер «Коллектив и народная песня» (170,
стр.
107—ИЗ) приводится много примеров того, что народ-
ная песня является знаком, указывающим на то, какой
обряд совершается в селе в данное время. «Если звучала
песня «Восхвалите имя Его», то она могла быть, так ска-
зать,
сигналом для жителей отдаленных деревень, означаю-
щим, что происходила церемония освящения, что близко
к тому, когда выстрелами из пушки в день свадьбы опове-
щали всю общину о том, где происходило торжество.
Смысл песни заключается, таким образом, в указании,
в ее знаковом характере». С помощью своего совершенно
правильного подхода автор далее показывает, как по песне
можно определить, какой праздник отмечается в деревне —
Пасха, Рождество и т. п.
Одним из ярких примеров того, как различные функции
объединяются в структуру, являются заговоры. Заговоры
характеризуются эстетической функцией, о чем свидетель-
ствует их заостренная, полная разнообразных поэтических
365
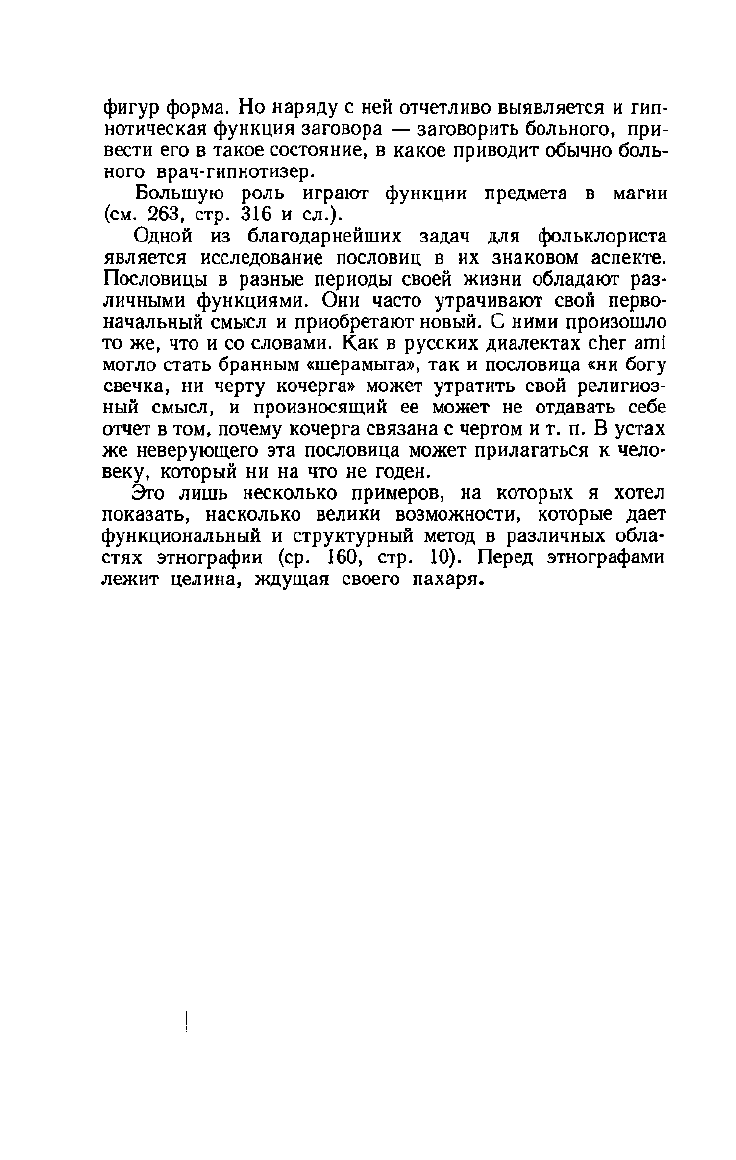
фигур форма. Но наряду с ней отчетливо выявляется и гип-
нотическая функция заговора — заговорить больного, при-
вести его в такое состояние, в какое приводит обычно боль-
ного врач-гипнотизер.
Большую роль играют функции предмета в магии
(см.
263, стр. 316 и ел.).
Одной из благодарнейших задач для фольклориста
является исследование пословиц в их знаковом аспекте.
Пословицы в разные периоды своей жизни обладают раз-
личными функциями. Они часто утрачивают свой перво-
начальный смысл и приобретают новый. С ними произошло
то же, что и со словами. Как в русских диалектах cher ami
могло стать бранным «шерамыга», так и пословица «ни богу
свечка, ни черту кочерга» может утратить свой религиоз-
ный смысл, и произносящий ее может не отдавать себе
отчет в том, почему кочерга связана с чертом и т. п. В устах
же неверующего эта пословица может прилагаться к чело-
веку, который ни на что не годен.
Это лишь несколько примеров, на которых я хотел
показать, насколько велики возможности, которые дает
функциональный и структурный метод в различных обла-
стях этнографии (ср. 160, стр. 10). Перед этнографами
лежит целина, ждущая своего пахаря.
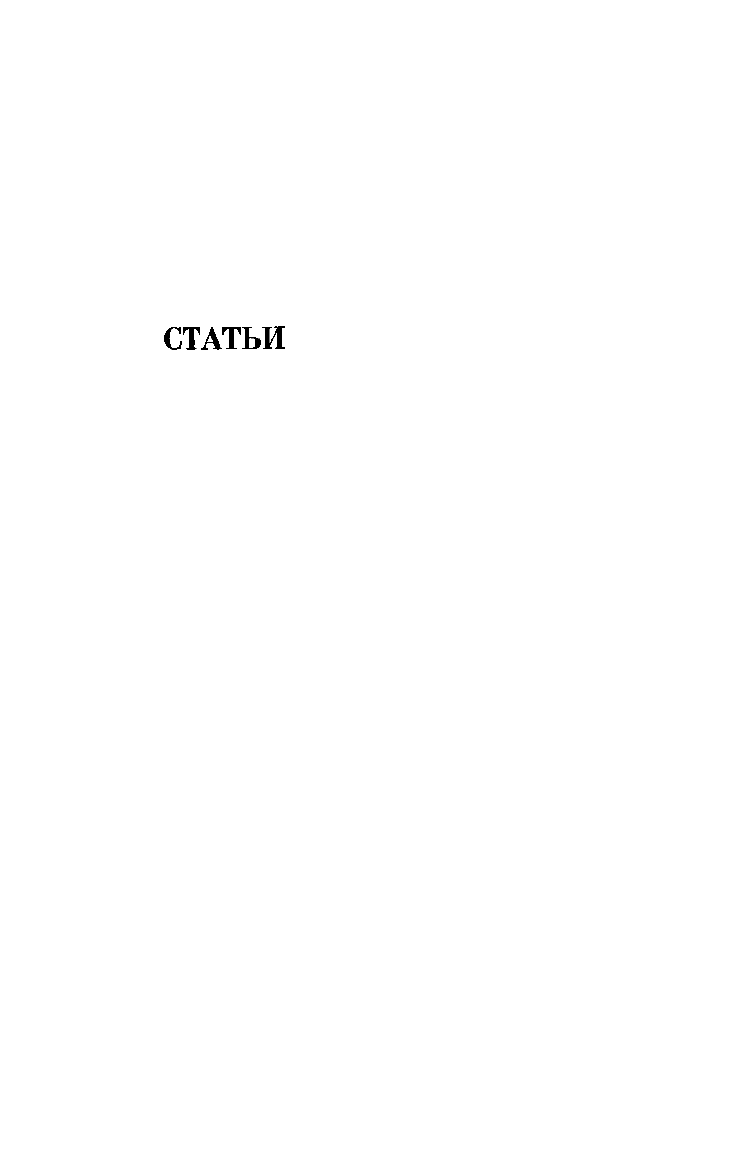
СТАТЬИ
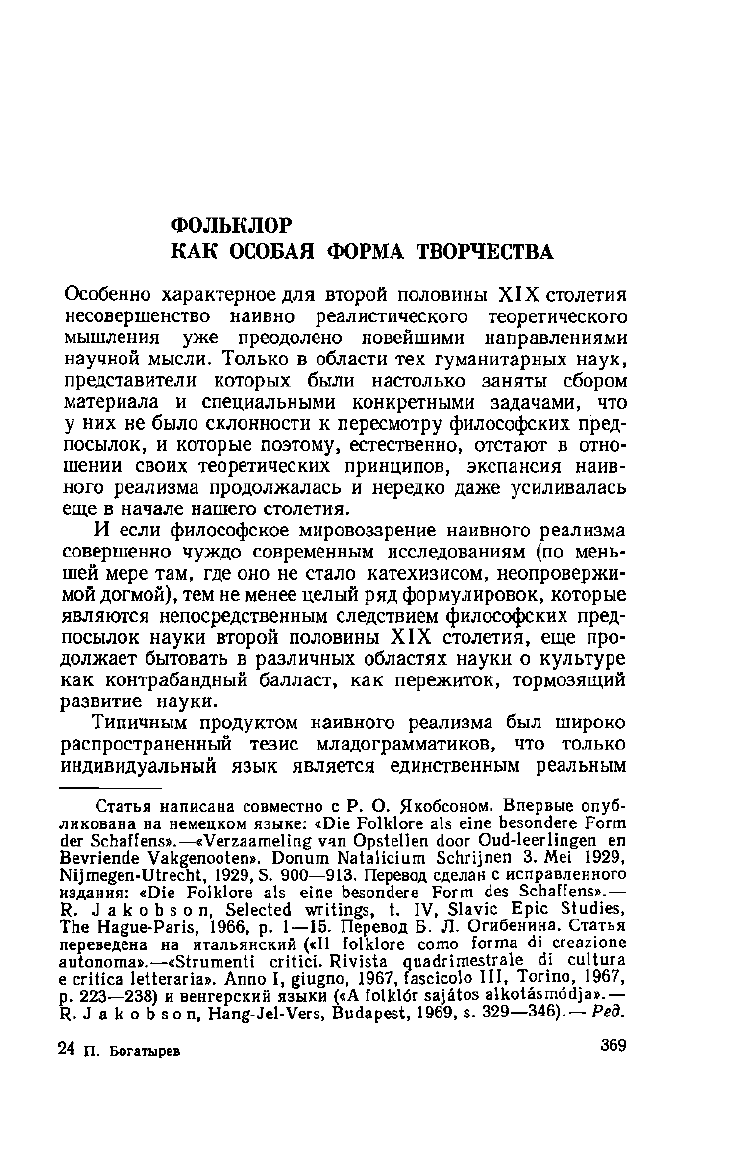
ФОЛЬКЛОР
КАК ОСОБАЯ ФОРМА ТВОРЧЕСТВА
Особенно характерное для второй половины XIX столетия
несовершенство наивно реалистического теоретического
мышления уже преодолено новейшими направлениями
научной мысли. Только в области тех гуманитарных наук,
представители которых были настолько заняты сбором
материала и специальными конкретными задачами, что
у них не было склонности к пересмотру философских пред-
посылок, и которые поэтому, естественно, отстают в отно-
шении своих теоретических принципов, экспансия наив-
ного реализма продолжалась и нередко даже усиливалась
еще в начале нашего столетия.
И если философское мировоззрение наивного реализма
совершенно чуждо современным исследованиям (по мень-
шей мере там, где оно не стало катехизисом, неопровержи-
мой догмой), тем не менее целый ряд формулировок, которые
являются непосредственным следствием философских пред-
посылок науки второй половины XIX столетия, еще про-
должает бытовать в различных областях науки о культуре
как контрабандный балласт, как пережиток, тормозящий
развитие науки.
Типичным продуктом наивного реализма был широко
распространенный тезис младограмматиков, что только
индивидуальный язык является единственным реальным
Статья написана совместно с Р. О. Якобсоном. Впервые опуб-
ликована на немецком языке: «Die Folklore als eine besondere Form
der Schaffens».—«Verzaameling van Opstellen door Oud-leerlingen en
Bevriende Vakgenooten». Donum Natalicium Schrijnen 3. Mei 1929,
Nijmegen-Utrecht, 1929, S. 900—913. Перевод сделан с исправленного
издания: «Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens».—
R. Jakobson, Selected writings, t. IV, Slavic Epic Studies,
The Hague-Paris, 1966, p. 1—15. Перевод Б. Л. Огибенина. Статья
переведена на итальянский («II folklore como forma di creazione
autonoma».— «Strumenti critici. Rivista quadrimestrale di cultura
e critica letteraria». Anno I, giugno, 1967, fascicolo III, Torino, 1967,
p.
223—238) и венгерский языки («A folklor sajatos alkotasmodja».—
R. J a k о b s о n, Hang-Jel-Vers, Budapest, 1969, s. 329—346).— Ред.
24 П. Богатырев
369
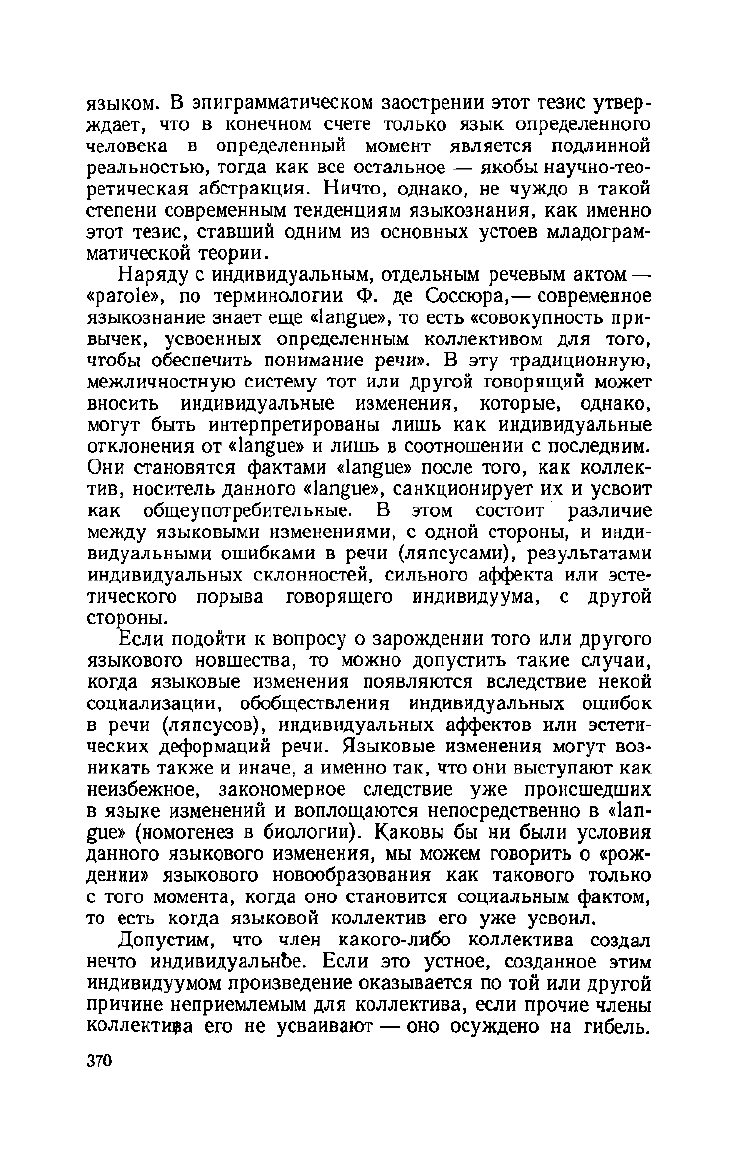
языком. В эпиграмматическом заострении этот тезис утвер-
ждает, что в конечном счете только язык определенного
человека в определенный момент является подлинной
реальностью, тогда как все остальное — якобы научно-тео-
ретическая абстракция. Ничто, однако, не чуждо в такой
степени современным тенденциям языкознания, как именно
этот тезис, ставший одним из основных устоев младограм-
матической теории.
Наряду с индивидуальным, отдельным речевым актом
—
«parole», по терминологии Ф. де Соссюра,— современное
языкознание знает еще «langue», то есть «совокупность при-
вычек, усвоенных определенным коллективом для того,
чтобы обеспечить понимание речи». В эту традиционную,
межличностную систему тот или другой говорящий может
вносить индивидуальные изменения, которые, однако,
могут быть интерпретированы лишь как индивидуальные
отклонения от «langue» и лишь в соотношении с последним.
Они становятся фактами «langue» после того, как коллек-
тив,
носитель данного «langue», санкционирует их и усвоит
как общеупотребительные. В этом состоит различие
между языковыми изменениями, с одной стороны, и инди-
видуальными ошибками в речи (ляпсусами), результатами
индивидуальных склонностей, сильного аффекта или эсте-
тического порыва говорящего индивидуума, с другой
стороны.
Если подойти к вопросу о зарождении того или другого
языкового новшества, то можно допустить такие случаи,
когда языковые изменения появляются вследствие некой
социализации, обобществления индивидуальных ошибок
в речи (ляпсусов), индивидуальных аффектов или эстети-
ческих деформаций речи. Языковые изменения могут воз-
никать также и иначе, а именно так, что они выступают как
неизбежное, закономерное следствие уже происшедших
в языке изменений и воплощаются непосредственно в «lan-
gue» (номогенез в биологии). Каковы бы ни были условия
данного языкового изменения, мы можем говорить о «рож-
дении» языкового новообразования как такового только
с того момента, когда оно становится социальным фактом,
то есть когда языковой коллектив его уже усвоил.
Допустим, что член какого-либо коллектива создал
нечто индивидуальнЬе. Если это устное, созданное этим
индивидуумом произведение оказывается по той или другой
причине неприемлемым для коллектива, если прочие члены
коллектива его не усваивают — оно осуждено на гибель.
370
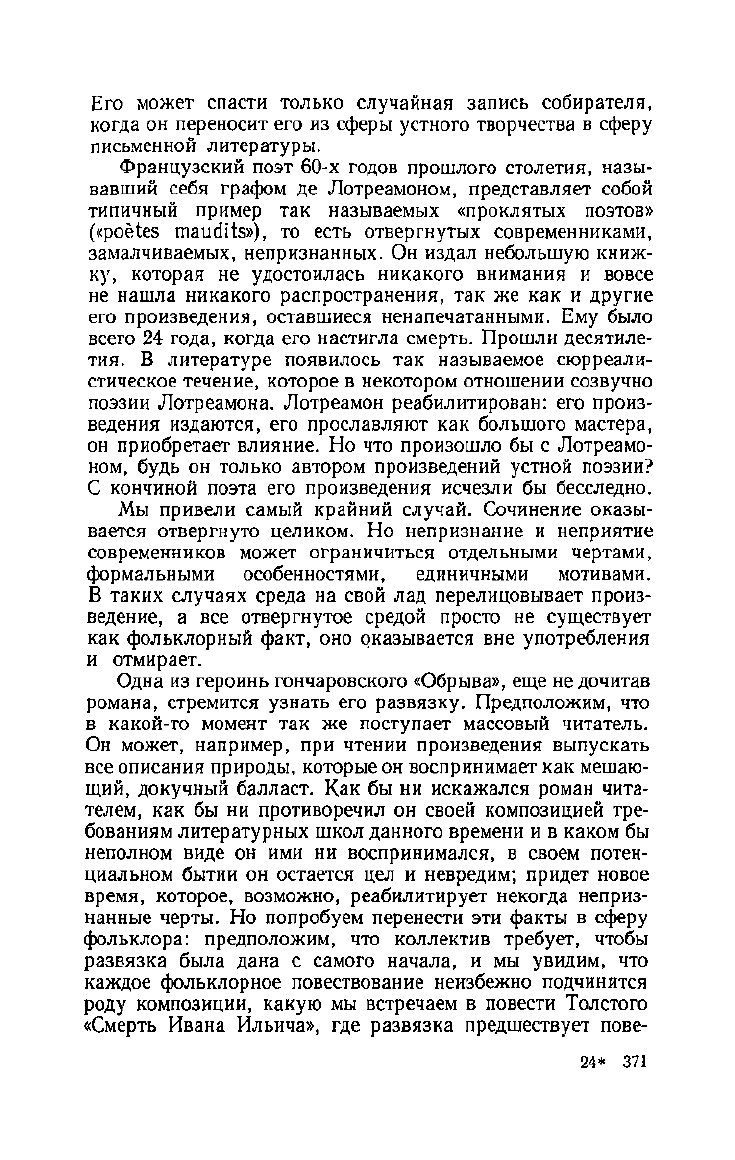
Его может спасти только случайная запись собирателя,
когда он переносит его из сферы устного творчества в сферу
письменной литературы.
Французский поэт 60-х годов прошлого столетия, назы-
вавший себя графом де Лотреамоном, представляет собой
типичный пример так называемых «проклятых поэтов»
(«poetes maudits»), то есть отвергнутых современниками,
замалчиваемых, непризнанных. Он издал небольшую книж-
ку, которая не удостоилась никакого внимания и вовсе
не нашла никакого распространения, так же как и другие
его произведения, оставшиеся ненапечатанными. Ему было
всего 24 года, когда его настигла смерть. Прошли десятиле-
тия.
В литературе появилось так называемое сюрреали-
стическое течение, которое в некотором отношении созвучно
поэзии Лотреамона. Лотреамон реабилитирован: его произ-
ведения издаются, его прославляют как большого мастера,
он приобретает влияние. Но что произошло бы с Лотреамо-
ном, будь он только автором произведений устной поэзии?
С кончиной поэта его произведения исчезли бы бесследно.
Мы привели самый крайний случай. Сочинение оказы-
вается отвергнуто целиком. Но непризнание и неприятие
современников может ограничиться отдельными чертами,
формальными особенностями, единичными мотивами.
В таких случаях среда на свой лад перелицовывает произ-
ведение, а все отвергнутое средой просто не существует
как фольклорный факт, оно оказывается вне употребления
и отмирает.
Одна из героинь гончаровского «Обрыва», еще не дочитав
романа, стремится узнать его развязку. Предположим, что
в какой-то момент так же поступает массовый читатель.
Он может, например, при чтении произведения выпускать
все описания природы, которые он воспринимает как мешаю-
щий, докучный балласт. Как бы ни искажался роман чита-
телем, как бы ни противоречил он своей композицией тре-
бованиям литературных школ данного времени и в каком бы
неполном виде он ими ни воспринимался, в своем потен-
циальном бытии он остается цел и невредим; придет новое
время, которое, возможно, реабилитирует некогда неприз-
нанные черты. Но попробуем перенести эти факты в сферу
фольклора: предположим, что коллектив требует, чтобы
развязка была дана с самого начала, и мы увидим, что
каждое фольклорное повествование неизбежно подчинится
роду композиции, какую мы встречаем в повести Толстого
«Смерть Ивана Ильича», где развязка предшествует пове-
24*
371

ствованию. Если коллективу не нравятся описания при-
роды, они исключаются из фольклорного репертуара,
и т. д. Одним словом, в фольклоре удерживаются только
такие формы, которые для данного коллектива оказываются
функционально пригодными. При этом, понятно, одна
функция данной формы может быть заменена другой. Как
только форма утрачивает свою функцию, она отмирает
в фольклоре, тогда как в литературном произведении она
сохраняет свое потенциальное существование.
Еще один историко-литературный пример: так называе-
мые «вечные спутники», писатели, которые на протяжении
веков интерпретируются по-разному разными направле-
ниями, каждым по-своему и по-новому. Некоторые осо-
бенности этих писателей, которые были чужды, непонятны,
ненужны и нежелательны современникам, получают позд-
нее высокую оценку, внезапно оказываются актуальными,
то есть становятся продуктивными факторами литературы.
Это тоже возможно только в области литературы. Что
произошло бы, например, в устном поэтическом творче-
стве со смелым и «несвоевременным» словесным творчеством
Лескова, которое только несколько десятилетий спустя
стало продуктивным фактором в литературном творчестве
Ремизова и последующих русских прозаиков? Лесковская
среда очистила бы его творчество от его причудливого
слога. Одним словом, само понятие литературной традиции
* глубочайшим образом отличается от понятия фольклорной
'"'
традиции. В области фольклора возможность реактуализа-
ции поэтических фактов значительно ниже. Если все носи-
тели известной творческой традиции умерли, то она уже
не может быть воскрешена, тогда как в литературе факты
вековой, даже многовековой давности появляются вновь
и снова становятся продуктивными! *
Из сказанного выше явственно следует, что существо-
вание фольклорного произведения предполагает усваиваю-
щую и санкционирующую его группу. При исследовании
фольклора нужно постоянно иметь в виду как основной
фактор предварительную цензуру коллектива. Мы созна-
тельно употребляем выражение «предварительная», так как
при рассмотрении фольклорного факта речь идет не о пред-
1
Заметим при этом, что не только традиция, но и одновре-
менное существование стилей как различных тенденций в одной
и той же среде в сфере фольклора значительно более ограничено,
то есть разнообразию стилей в фольклоре соответствует большей
частью разнообразие жанров.
372
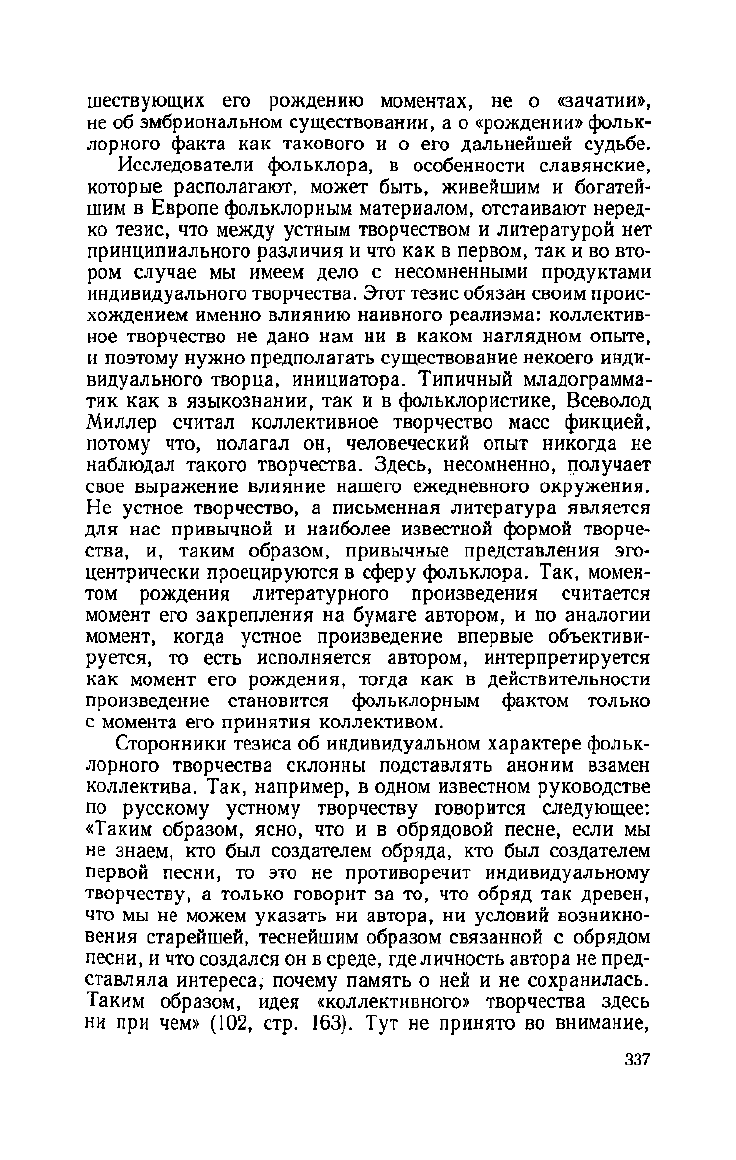
шествующих его рождению моментах, не о «зачатии»,
не об эмбриональном существовании, а о «рождении» фольк-
лорного факта как такового и о его дальнейшей судьбе.
Исследователи фольклора, в особенности славянские,
которые располагают, может быть, живейшим и богатей-
шим в Европе фольклорным материалом, отстаивают неред-
ко тезис, что между устным творчеством и литературой нет
принципиального различия и что как в первом, так и во вто-
ром случае мы имеем дело с несомненными продуктами
индивидуального творчества. Этот тезис обязан своим проис-
хождением именно влиянию наивного реализма: коллектив-
ное творчество не дано нам ни в каком наглядном опыте,
и поэтому нужно предполагать существование некоего инди-
видуального творца, инициатора. Типичный младограмма-
тик как в языкознании, так и в фольклористике, Всеволод
Миллер считал коллективное творчество масс фикцией,
потому что, полагал он, человеческий опыт никогда не
наблюдал такого творчества. Здесь, несомненно, получает
свое выражение влияние нашего ежедневного окружения.
Не устное творчество, а письменная литература является
для нас привычной и наиболее известной формой творче-
ства, и, таким образом, привычные представления эго-
центрически проецируются в сферу фольклора. Так, момен-
том рождения литературного произведения считается
момент его закрепления на бумаге автором, и по аналогии
момент, когда устное произведение впервые объективи-
руется, то есть исполняется автором, интерпретируется
как момент его рождения, тогда как в действительности
произведение становится фольклорным фактом только
с момента его принятия коллективом.
Сторонники тезиса об индивидуальном характере фольк-
лорного творчества склонны подставлять аноним взамен
коллектива. Так, например, в одном известном руководстве
по русскому устному творчеству говорится следующее:
«Таким образом, ясно, что и в обрядовой песне, если мы
не знаем, кто был создателем обряда, кто был создателем
первой песни, то это не противоречит индивидуальному
творчеству, а только говорит за то, что обряд так древен,
что мы не можем указать ни автора, ни условий возникно-
вения старейшей, теснейшим образом связанной с обрядом
песни, и что создался он в среде, где личность автора не пред-
ставляла интереса, почему память о ней и не сохранилась.
Таким образом, идея «коллективного» творчества здесь
ни при чем» (102, стр. 163). Тут не принято во внимание,
337
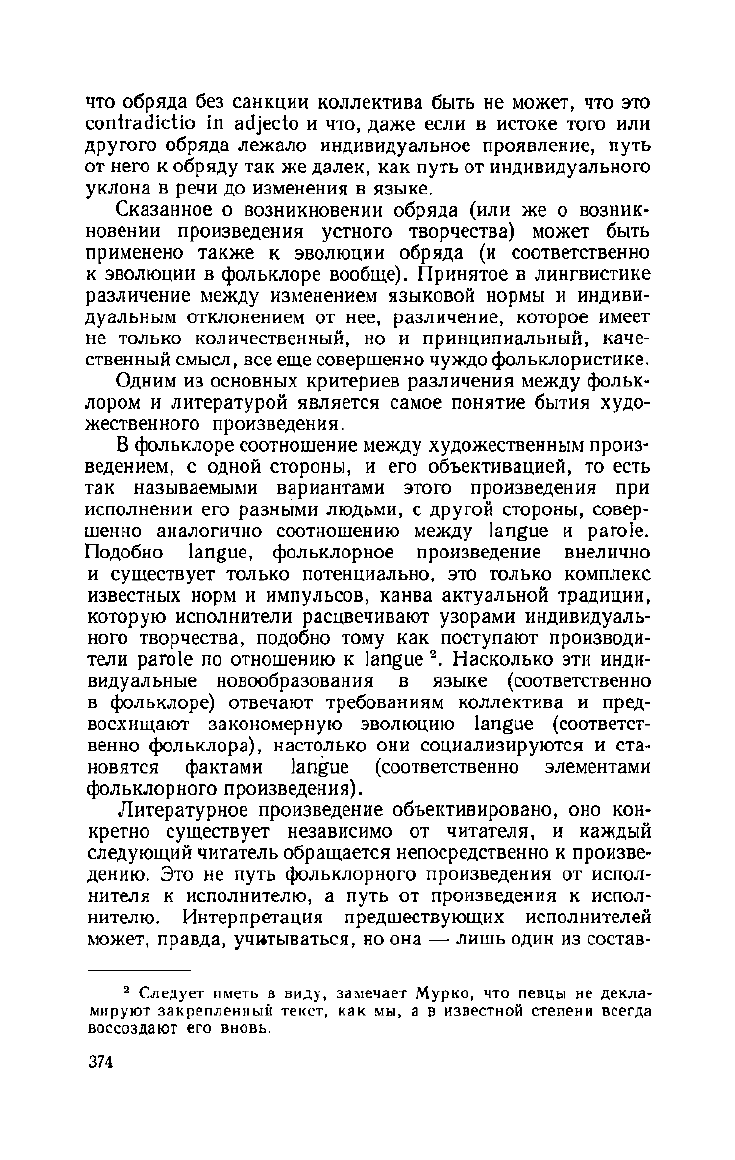
что обряда без санкции коллектива быть не может, что это
contradictio in adjecto и что, даже если в истоке того или
другого обряда лежало индивидуальное проявление, путь
от него к обряду так же далек, как путь от индивидуального
уклона в речи до изменения в языке.
Сказанное о возникновении обряда (или же о возник-
новении произведения устного творчества) может быть
применено также к эволюции обряда (и соответственно
к эволюции в фольклоре вообще). Принятое в лингвистике
различение между изменением языковой нормы и индиви-
дуальным отклонением от нее, различение, которое имеет
не только количественный, но и принципиальный, каче-
ственный смысл, все еще совершенно чуждо фольклористике.
Одним из основных критериев различения между фольк-
лором и литературой является самое понятие бытия худо-
жественного произведения.
В фольклоре соотношение между художественным произ-
ведением, с одной стороны, и его объективацией, то есть
так называемыми вариантами этого произведения при
исполнении его разными людьми, с другой стороны, совер-
шенно аналогично соотношению между langue и parole.
Подобно langue, фольклорное произведение внелично
и существует только потенциально, это только комплекс
известных норм и импульсов, канва актуальной традиции,
которую исполнители расцвечивают узорами индивидуаль-
ного творчества, подобно тому как поступают производи-
тели parole по отношению к langue
2
. Насколько эти инди-
видуальные новообразования в языке (соответственно
в фольклоре) отвечают требованиям коллектива и пред-
восхищают закономерную эволюцию langue (соответст-
венно фольклора), настолько они социализируются и ста-
новятся фактами langue (соответственно элементами
фольклорного произведения).
Литературное произведение объективировано, оно кон-
кретно существует независимо от читателя, и каждый
следующий читатель обращается непосредственно к произве-
дению. Это не путь фольклорного произведения от испол-
нителя к исполнителю, а путь от произведения к испол-
нителю. Интерпретация предшествующих исполнителей
может, правда, учитываться, но она — лишь один из состав-
2
Следует иметь в виду, замечает Мурко, что певцы не декла-
мируют закрепленный текст, как мы, а Б известной степени всегда
воссоздают его вновь.
374
