Февр Л. Бои за историю
Подождите немного. Документ загружается.

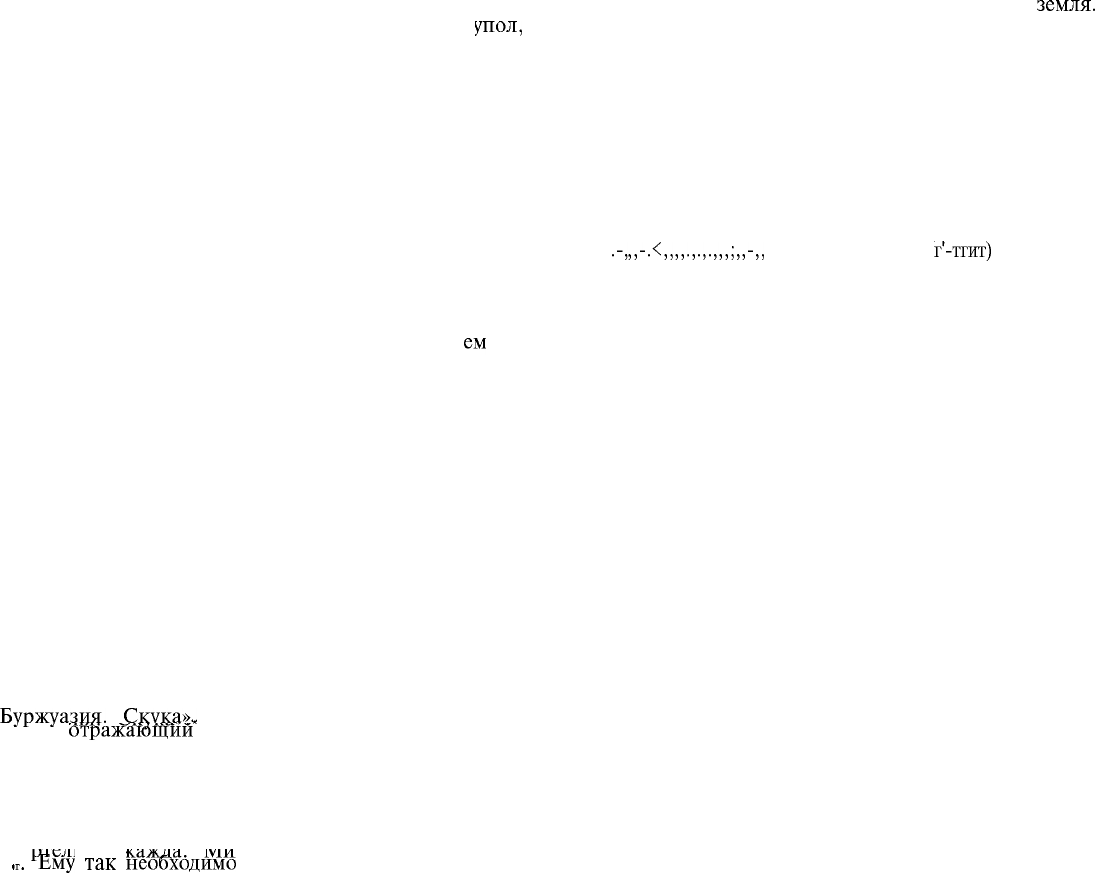
384
Люсьен Фсвр. Вой за историю
сумасшедший»! Карл Смелый, страстный любитель музыки, ко-
торый мог на долгие часы погрузиться в немое созерцание бу-
шующего моря и яростных волн; Карл Смелый, которого глоток,
вина приводил в лихорадочное состояние, которого душили кро-
вавые вспышки гнева, который то разражался потоками красно-
речия, то задыхался от ярости, не в силах вымолвить ни сло-
ва,— и собственными руками во время осмотра оружия убил в
строю лучника — он стоял не так, как положено. Карл Смелый,
который, как Пикрохол *, «брался за все» и не закончил ничего
и испустил дух возле Нанси, в ледяной грязи пруда Сен-Жан,
где его несчастные приверженцы нашли только обнаженное тело,
объеденное волками. Карл Смелый, боец и труженик. Великий
охотниА составлял· педантичные «рдр
^
чтгы. Кровожадный убий-
ца свирепых диких кабанов. Человек со светлыми, нежно-голу-
быми глазами на лице мулата.
Он притягивал, он отталкивал своего художника. Он внушал
ему некоторый страх. Но в общем меньший, чем его соперник,—
король-буржуа Людовик XI. И в Людовике XI ужас внушал
историку именно буржуа. Ибо Мишле полагалось — там, куда он
добрался,— ему было необходимо рассказать о пришествии бур-
жуазии. Но как тягостна была ему эта обязанность! Глядя на
всех этих буржуа, он не испытывал естественной радости, удов-
летворенного довольства какого-нибудь Огюстена Тьерри, счаст-
ливого тем, что он живет при Июльской монархии вместе со
своим братом Амедеем в мирной префектуре Везуль. И не мог
Мишле испытывать чувства гордости, как Гизо, который всегда
был готов провозглашать свое «Обогащайтесь» * — перед муж-
чинами и женщинами, готовыми следовать этому лозунгу с из-
лишним рвением.
Я выдумываю? Да нет же. Прочитайте письма Мишле, пол-
ные жалоб, стонов и презрения. Историк задыхается, он едва
волочит ноги «в этой прозе», как пишет он Альфреду Дюменилю
15 октября 1841 года. И он уже обдумывает двенадцатый пара-
граф своего «Введения в Возрождение» — параграф, который на-
зывается «Фарс о Пателене.
Буржуазия.
Скука».
«Пателен» -
марсельеза плутовства. «Пателен»
|0,
от
р
ажающ
и
й
низменность
народа и низменность буржуазии: «благородное взаимное обуче-
ние буржуазии и народа». Так же как «Маленький Жан из Септ-
ре» ", выводит на свет и изображает моральное падение знати.
Мишле изнемогает в этой буржуазной пустыне. Мишле жаж-
дет, у него страшная жажда, смертельная жажда. Мишле кри-
чит: «Пить!», как герои Рабле -
^
М
У
так
необходимо
помоло-
деть, посвежеть, обновиться! Внезапно он добирается до царст-
вования Карла VIII. До Итальянских войн. Славный ходок из
Арденн — он пускается в путь. Он следует за войском. И вот
он уже слышит на темных улицах Флоренции шаг гасконской
аехоты. Он слышит, как скачут по мостовым кони адъютантов,
Как мф.гъ Мишле открыл Возрождение
385
слышит грохот тяжелых орудий, от которого сотрясается
земля,
упол,
творение Брунеллески. и красное здание Сеньории,
Савонарола предстают перед ним. Внезапно, как на повороте
за большую скалу Гондо, на спуске с Симплона, перед нами вся
Италия — сразу, вдруг, с ее красивыми девушками под сверкаю-
щим небом, с ее золотистыми плодами, быстрыми, подвижными
людьми, с ее городами, обремененными историей, с церквами,
полными статуй и картин. Вся Италия и ее радость жить пре-
красной, вдохновенной, бескорыстной жизнью, украшенной тру-
дами и заботами духа. Вся Италия, и ее величие, и ее вечная
поэзия.
И тогда взлетело слово. Слово пришло на уста Мишле пре-
.-„,-.<,,,,.,.,.,,,;,,-,,
, .. - -.,,,
г'-тгит)
«Воярождр
нне». Вырождение литературы, иекуссть? Конечно, как же ина-
че! Возрождение: полное обновление всей жизни. Достаток, На-
дежда. Лица людей, которые теперь не наблюдают с отвращени-
ик,—ем
упадок, жестокую агонию средневековья, но, сияя, поворачи-
ваются к будущему. Исполненные веры, со светом в глазах и
счастливым смехом, смехом с ямочками на щеках, как у краси-
вых детей работы Донателло.
Вот так родилось понятие «Возрождение». Вот так Возрожде-
ние получило свое имя. Дитя Мнгале, родившееся из его головы?
Не столько из головы, конечно, сколько из его сердца, из его
чувств, из бунта н ожидания — из его непобежденной любви к
жизни "*. Он сам сказал об этом в одном из тех кратких изре-
чений, на которые был мастер: «Возрождение — это Возрожде-
ние сердца».
Здесь н заканчивается эта история? Нет, конечно. Чтобы по-
пятне «Возрождение» явилось на свет, чтобы оно обрело права
гражданства, нужно было не только, чтобы Мишле выбрался из
темного туннеля XV века, через который он шел с трезвой голо-
вой н отвращением в сердце. Позади XV века были века XIV и
ХШ и великий XII век, век Абеляра,— Мишле очень хорошо
сказал о бодрой силе и щедрой плодовитости этого века: когда-
нибудь из него народится истинная эпоха Возрождения, испол-
ненная юного пыла. Одним словом — позади Людовика XI и Кар-
ла Смелого лежало средневековье, которое современники Мишле
наделили таким престижем и обаянием и которому он сам неког-
да благоговейно поклонялся. Огромный собор средневековья.
Прекрасный отрывок из письма к Дюменилю от 15 мая 1841 года (12);
речь идет о Возрождении: «Никогда еще прежде мне не доводилось
поднять такую громаду, вобравшую в себя в живом единстве столько
внешне противоречивых элементов. Все эти элементы — они были в
моей голове, но только как знание, ныне они стали моими чувствами,
моими собственными мыслями; если вся эта внешняя по отношению
ко мне история стала теперь такой простой,- это потому, что, после
того как я отыскал ее в себе, она стала мною самим» (Michelet J.
Lettres... P. 12).

386
Люсьен Февр. Бои аа историю
Как Жюлъ Мишле открыл Возрождение
381
куда со времен Шатобриана образованные и чувствительные
X французы входили не иначе как отрешившись от суеты, обна-
жив голову, преклонив колено, как перед священнейшим алта-
рем их исконной цивилизации "...
Если бы этот алтарь сохранил все свое обаяние и престиж в
глазах Мишле — никакое «Возрождение» не было бы возможно.
Или, скорее, это было бы всего лишь «Возрождение» после стар-
ческого упадка — восстановление первоначального средневековья,
средневековья во всей его изначальной чистоте, истинного сред-
невековья, со всем лучшим, что в нем было... Но Возрождение
Мишле не было восстановлением средневековой чистоты. Оно
было отрицанием средневековья. Разрушением традиции. Оно не
прибавило нового звена к цепи. Оно вышло из небытия. Tabula
rasa (выскобленная
дощечка,—здесь
чистая, белая страница).
Или, если хотите,— Чудо. Мишле сказал об этом великолепно и
в своем стиле: «героический бросок исполинского стремления».
Так должно было быть. По причинам интеллектуального по-
рядка или, если хотите, порядка исторического? Да нет же. По
причинам личного характера. Такой человек, как Мишле, не
анатомирует историю с холодной головой. В сороковые годы в
нем самом завязывается драма — и разрешается. В сороковые
годы Мишле отдаляется от средневековья и — не знаю, как ска-
зать: от христианства или от Церкви? Прежде всего от Церкви,
от священников, от иезуитов и тем самым — от христианства.
И от его средневекового искусства, готического искусства. В со-
роковые годы Мишле отталкивает от себя все, что до этого вре-
мени питало его. И, будучи неистовым в своих страстях, он не
ограничивается отречением, тем, что отворачивается от своих
былых увлечений. Ему нужно было растоптать их. Отрицать,
убивать. Чтобы иметь возможность жить вольготно в своем
Возрождении, Мишле убивает, казнит, истребляет «этот при-
чудливый и чудовищный порядок, фантастически искусственный»:
христианское средневековье.
Драма духа, о которой он писал многократно. Впервые —
в «Народе» (1846); вспомним признание, которым заканчивается
эта книга: «Средневековье, в котором я провел свою жизнь,
средневековье, чье трогательное, еле слышное дыхание я воссоз-
дал в своих книгах... Я должен был сказать ему: „Прочь!" —
ныне, когда нечистые руки тащат его из могилы и ставят перед
нами этот камень, чтобы мы споткнулись и упали на дороге, ве-
дущей в будущее».
Драма духа? Но если человека, который страдает и отрекает-
ся, зовут Мишле... Однако что я такое написал и при чем здесь
гений?
Глупец, убожество, невежественный магистр обнаруживает
между «древним веком» (aetas antiqna) и «веком современным»
(aetas moderna), которые уже были выделены его современника-
ми,— он обнаруживает обширную страну фактов и деяний, не
имеющих своего прозвания. Он окрестил ее «промежуточным»
ш «средним веком» (aetas intermedia) '*. И это название оста-
ется. И «созданное» таким образом средневековье обретает плоть
и обретает жизнь. Мало-помалу становится реальностью. Чем-то
живым. Существом, которое рождается, растет, переживает пору
расцвета, деградирует и умирает. Личностью, чью психологию
изучают. Изучают всерьез. Как будто эта личность в самом деле
существует. Как будто она когда-нибудь существовала.
Великий историк, гениальный творец, Мишле тоже впервые
связал воедино факты разнородные, но из одной эпохи. Целое он
нарек прекрасным именем «Возрождение», словом, которое он
нашел в себе самом, а жило оно в нем благодаря сугубо личным
обстоятельствам самого Мишле. Так Возрождение, этот ярлык,
в свой черед тоже становится реальностью, которая противопо-
ставляется средневековью. Сталкивается с ним и побеждает.
Но, кроме того, в значительной мере определяет наше понимание
средних веков.
Безымянный педант. Гениальный Мишле. Результат одинако-
вый. Это учит нас скромности и тому, что все относительно. И я
был прав (еще более прав, чем мне представлялось), когда напи-
сал: «История — наука о человеке. История — дело рук чело-
века».
НАУЧНЫЙ ПОРЫВ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Продолжив рассказ об истории связей и соотношений между
гением науки и развитием человечества — рассказ, начатый здесь
же Анри Берром пятнадцать дней назад,— я, быть может, удив-
лю вас, если скажу, что глава о Возрождении — одна из самых
недавних и незаконченных. Ведь каждый полагает, что у него
ямеется достоверное представление о Возрождении. И к тому же
простое. У истоков — античная наука. Открытия древних греков,
создавших геометрию Евклида, механику Архимеда, медицину
Гиппократа и Галена, космографию и географию Птолемея, фи-
зику и естествознание Аристотеля. Целый мир знаний, которые
от греков перешли к римлянам. Затем — нашествия. Погружение
в ночь. Сокровища античности если не утрачены, то, во всяком
случае, затерялись. И ничего взамен. На протяжении веков -
ничего, кроме силлогистических рассуждений и бесплодной де-
дукции: никаких плодотворных теоретических достижений, ника-
ких важных технических изобретений.
Так продолжается до того дня, когда вдруг в конце XV —
начале XVI столетия разражается революция: люди осознают
свою интеллектуальную нищету. Они пускаются на розыски про-
павших сокровищ, находят один за другим куски, разбросанные
по библиотекам и чердакам монастырей; люди обретают способ-
ность пользоваться этими сокровищами, то есть героическим уси-
лием воли снова обучаются читать на настоящей латыни, на
классическом греческом языке и даже на древнееврейском, <5ес-
аолезном для познания наук, но необходимом для толкования
религиозных текстов. Тогда наступает опьянение. Битком на-
битые античностью, внезапно поступившей в их распоряжение,
эти гуманисты, осознав свой долг, принимаются за дело. Они
призывают себе на помощь книгопечатание, которое они только
недавно изобрели. На подмогу им приходят новые, только что
«ми полученные географические знания, которые резко расшири-
ли их духовный горизонт — так же как горизонт физический.
И тогда из Пифагора вырастает Коперник, из Коперника — Кеп-
лер, из Кеплера — Галилей '. Тогда же Андрей Везалий объеди-
няет плоды опыта с наследием гиппократовой традиции
г.
Все это логично, стройно, все просто. «Просто» — это ужас-
аое слово, которое историк должен изгнать не только из своего
словаря, но и из своего сознания. Ибо история — это одна из
яаук о человеке. А все, что относится к человеку,— непросто.
Что же мы знаем обо всех этих проблемах сегодня?
Прежде всего, мы уже не говорим про «ночь средневековья».
Не говорим, ибо эрудиты, терпеливые и упорные книжные чер-
ви, написали множество статей, чтобы доказать, что такие-то и
такие-то люди средневековья не были, как полагали прежде,
полными невеждами в античной словесности и античной науке.
Эти свидетельства не имеют большого значения. Ибо важно не то,
Научный порыв Возрождения
389
что какой-нибудь брат Жан или брат Бенуа из ордена домини-
канцев году в 1280-м прочел в рукописи тот или иной фрагмент
классического текста. Важно, как, каким образом брат Бенуа или
брат Жан прочитали этот фрагмент. Ибо люди средневековья,
читавшие античные тексты, были, несомненно, насквозь пропи-
таны, проникнуты такими идеями и понятиями; присущие им
способы и навыки мыслить, чувствоЕать, рассуждать оказывали
на них столь сильное влияние, что все это как бы иммунизиро-
вало их против всякой не христианской мысли и в особенности
против того типа мышления, против того способа рассуждать, ко-
торые были свойственны греко-латинской античности. Если вос-
пользоваться словом, взятым из современности, средневековое
христианство было «тотальным». Оно не ограничивалось тем, что
предлагало свои решения всех великих метафизических проблем
и забот, мучивших людей того времени. Сосредоточив в себе весь
авторитет, все знание той эпохи, средневековые «Суммы» с вы-
разительными названиями «Зерцало Мира», «Образ Мира» и т. д.
охватывали жизнь человека целиком и сопровождали его во всех
событиях и поступках его жизни, общественной и личной, рели-
гиозной и светской. Они вооружали человека вполне связанными
между собой и непротиворечивыми представлениями о природе и
науке, о нравственности и о жизни, об истории, о прошлом, о на-
стоящем, о ближних, дальних и конечных целях человечества.
В этих великих средневековых энциклопедиях человек узнавал о
себе все. И поэтому — как же мог он уразуметь дух античных
текстов, в которых (по счастливой случайности) мог разобрать
тот или иной отрывок, тот или иной фрагмент?
Нет, это не меняет дела. Если мы теперь не говорим про
«ночь средневековья», то потому, что не можем больше верить в
эти праздные вакации, о которых нам говорили: вакации чело-
веческого любопытства, стремления наблюдать (можно выразить-
ся и так), стремления изобретать. Это потому, что мы сказали
себе наконец, что эпоха, имевшая архитекторов такого размаха,
как строители наших великих романских соборов — в Клюни, Ве-
зеле или собора Сен-Сернин в Тулузе; и наших великих готиче-
ских соборов — в Шартре, Париже, Амьене, Реймсе, Бурже;
и могучих укрепленных замков знатных баронов — таких, как
Куси, Пьерфон, Шато-Гайар, строители, успешно разрешившие
все возникающие при этом геометрические, механические
3,
транспортные проблемы, вопросы материального обеспечения,
задачи, связанные с подъемом строительных материалов к рабо-
чему месту, использовав всю сокровищницу наблюдений, без ко-
торой не обойтись и которая при этом, в свою очередь, попол-
няется,— было бы издевательством отказать такой эпохе в
наблюдательности и изобретательности. Если поразмыслить здра-
во, если приглядеться повнимательней, станет ясно, что люди,
которые придумали, или переоткрыли заново, или перенесли в

390
Люсъен Февр. Бои за историю
нашу западную цивилизацию лошадиную упряжь с подгрудным
ремнем, обычай ковать лошадей, стремя, пуговицу, мельницу
(водяную и в
книгопечатание
называться изобретательными, и человечество должно быть им
благодарно.
Поэтому, когда нам говорят: «В эпоху Возрождения дух на-
блюдательности, стремление наблюдать появляются вновь»,
мы отвечаем: «Нет, у них не было нужды появляться вновь, они
никогда и не исчезали. Они продолжают быть. И прежде всего,
обзаводятся соответствующим снаряжением и материалами». Ибо
для того чтобы строить крупные ансамбли — теории, системы,—
нужны в первую очередь материалы. Много материалов. Средние
века никогда не располагали такими материалами.
Огромный труд античных компиляторов — средневековье его
как бы потеряло. Здесь и там в какой-нибудь рукописи сохраня-
лись какие-то обрывки — в рукописи, известной немногим людям.
В трех сотнях лье от этого места находилась, быть может, дру-
гая рукопись, но практически не было никакой возможности
сравнить их не торопясь, сопоставить с собственным опытом.
И вот появляется книгопечатание. В то же самое время отыс-
киваются разрозненные фрагменты античного знания. В дело
вступает книгопечатание. Оно становится передающим звеном.
В 1499 году в Венеции у Альдо Мануцио выходит сборник сочи-
нений древнегреческих астрономов. С 1495 по 1498 год у того же
Альдо печатается греческий текст Аристотеля. Уже в 1475 году
в Виченце была напечатана «Космография» Птолемея, сначала
без карт, затем, начиная с римского издания 1478 года,— с кар-
тами. Книги выходят одна за другою: в 1533 году в Базеле —
первое издание «Начал» Евклида; в том же Базеле — «Геогра-
фия» Птолемея с предисловием Эразма и в 1544 году тоже в Ба-
зеле — первое издание трудов Архимеда. Гиппократ был издан на
греческом языке в 1526 году у Альдо. А всех опередил Плиний,
впервые опубликованный в Венеции в 1469 году. Вот перед вами
в оригинале вся математика, вся космография, география, физи-
ка, все естествознание, вся медицина древних, ставшие доступ-
ными для всех. Теперь мы во всеоружии. Можно дополнять, ин-
терпретировать, если нужно — исправлять свидетельства древних.
За это принимаются с необузданным пылом. Швейцарец Геснер
с бешеной страстью каталогизирует всех животных, сказачных и
реальных, о которых он нашел упоминание в каких-либо пись-
менных источниках. Труд колоссальный, неблагодарный, необхо-
димый. То же самое с растениями: взгляните на старейшину
всех наших иллюстрированных «Флор» — на «Изображения ра-
стений» Брунфельса, три великолепные фолианта, вышедшие в
свет в Страсбуре с 1531 по 1536 год. Взгляните на «Описание
растений» Леонарда· Фукса, напечатанное в Базеле в 1542 году.
Научный порыв Возрождения
391
Посмотрите на «Рыб» Ронделе и Пьера Белова, на «Металлы» Аг-
риколы и т. д. За работу принялись труженики-титаны. Они мо-
гут предаться своей работе. Их труд не пропадет. Они знают,
что существует книгопечатание, которое размножит и распростра-
нит их книги. И Рабле (он из этой же компании) — Рабле в
своем «Гаргантюа» и в своем «Пантагрюэле» запевает гимны
ке, беспредельному человеческому "Знанию: Прогрессу.
Прогресс был стремительным: в 1543 году выходят в свет
два героических труда: «Об обращениях небесных сфер» Копер-
ника и «О строении человеческого тела» Везалия. Кто такой Ко-
перник? Питомец итальянской науки, приобщившийся к учению
пифагорейцев; имея возможность читать и перечитывать труды
древних авторов и своих современников, он вывел из них собст-
венную систему мира; только после этого он попытался сопоста-
вить свою теорию с несколькими наблюдениями, довольно эле-
ментарными. Кто такой Везалий? Воспитанник медицинских фа-
культетов в Париже и Монпелье; на собственный путь он вышел
в Падуе (куда явился, чтобы учиться хирургии), когда начал
анатомировать трупы; он ревизует или подтверждает Галена или
противоречит ему, опираясь на факты, которые он может наблю-
дать и проверять на вскрытиях. У Коперника — сначала работа
над книгами. Попытка проверить — позднее. У Везалия — снача-
ла наблюдение, затем сопоставление. Тут и там книгопечатание
-играло ведущую роль. Книгопечатание, и только оно одно, по-
зволило современному знанию соединиться с тем, что было сде-
лано древними, и включить его в свой состав. Уточнить знание
древних. А вскоре и превзойти. И заменить его собою.
Тем более что в наступающей армии нашего западного чело
вечества всегда было более одного течения. Рядом с официаль
ным знанием, знанием университетским, знанием профессией;
лов, всегда существовало и тайное знание, свободное, если
ΧΟΤΙ
те — еретическое. Здесь — мудрые профессора. Там — изобрет..-
тели, порою фантастические. Здесь — толкователи Аристотеля,
Гиппократа, Галена и Птолемея, овладевающие заново античнь л
наследием, чтобы затем его превзойти, следуя, однако, все вре? я
по путям, проложенным древними; там — самоучка, вольт, и
стрелок науки вроде гениального Леонардо да Винчи, в котором
сочетаются проницательный наблюдатель, экспериментатор, пред-
восхитивший достижения современной науки, крупнейший фило-
соф науки; но воздать ему должное можем только мы — люди
XIX и XX века, имеющие возможность прочитать его рукописи,
которые были неизвестны его современникам. И там же — еще
один художник, значительно меньшего масштаба, наш создатель
«сельской глины»
5
—
Бернар Палисси
;
в своих
любопытных со-
чинениях он заставил Теорию, великую любительницу чтения,
вести диалог с Практикой, великой изобретательницей. И там
же— еще один ученый, правда полуеретический,— Парчцел с,

Люсьен Февр. Вой за историю
увлеченный алхимией; сойдя с проторенных дорог, он бродил по
кручам, которые впоследствии приведут врачей к арсеналу фар-
макохимических средств. Два течения. Множество течений, ибо
человечество никогда не шествует по большой дороге, совершен-
но ровной и прямой, вдоль которой выстроились сменяющие
друг друга алтари, называемые то «греческой философией» (слов
но рядом с греческим рационализмом не было греческого ирра-
ционализма, столь же мощного и исторически плодовитого), то
«христианской теологией» (как если бы не было инакомыслия и
ереси, противостоявших ортодоксии, и словно ортодоксия — это
не равнодействующая противоречащих друг другу гетеродоксий),
го «Университетской Наукой», наследницей науки иезуитов (как
будто рядом с этой струйкой прозрачной воды не били всегда
ключи свободного духа — от Рабле до Дидро, от Монтеня до
Вольтера, от Руссо до Гюго и Мишле).
1543 год, Коперник. 1543 год, Андрей Везалий. Однако в
1564 году в пятой книге «Пантагрюэля», посмертной (и мы ни-
когда не узнаем, в какой мере эта книга была написана по кан-
ве, оставленной Рабле),— в пятой книге, в тридцатой главе,—
странная аллегория «Наслышки: маленький уродливый старичок,
слепой, парализованный, но весь увешанный ушами, всегда ши-
роко открытыми, и наделенный семью языками, которые болта-
ют одновременно в его пасти, подобной зеву печи. Наслышка, че-
рез все свои уши получающий знания, которые он никогда не
проверяет — знания из книг и от говорунов — и изливает их,
пользуясь всеми своими языками, в распахнутые уши слушате-
лей, которые никогда не будут эти знания проверять. «И все —
понаслышке»: это — лейтмотив фрагмента, рефрен, который за-
дает ему ритм. Разящая ирония. Она говорит нам о том, что це-
лый большой цикл вот-вот будет пройден. И он завершится в тот
день 1589 года, когда Галилей, прекратив рассуждения о том,
каким образом должны падать тела и как не должны, поднимется
на верх наклонившейся башни в Пизе, уронит тяжелый предмет
и, призвав на помощь своих товарищей, измерит реальную ско-
рость падения тел '. Вчера — сначала теория, затем — факты,
сегодня — сначала факты, теория потом. Переворот произошел.
Переход от эрудиции к наблюдению, от наблюдения к экспери-
менту. Благодаря работе, проделанной Возрождением, наука мо-
жет двигаться по столбовой дороге прогресса.
ИКОНОГРАФИЯ
И ПРОПОВЕДЬ ХРИСТИАНСТВА
На протяжении всего средневековья искусство не было воль-
ным творцом своих созданий. Законы диктовались ему шсоногра-
фией. Что она собою представляла? В чем состояли ее предпи
сания? Почему были установлены эти строгие, незыблемые, всеоб-
щие правила (ибо памятники старины являют нам множество
примеров совершенно единообразного применения этих правил)?
Следует ли ответить просто: «Художественная условность» -
и проследовать далее? Нет. Потому что речь идет о высокоразви-
той, отлично согласованной системе правил и предписаний, объ-
яснить которую старое понятие «условность» совершенно не в со-
стоянии.
В чем же дело? Дело в том, что искусство в средние века было
прежде всего средством пропаганды; не более, но и не менее того.
И вот истинная причина, объясняющая зарождение, особенности
и развитие христианской иконографии за все время ее эволюции.
Одно из средств пропаганды в сочетании со многими другими:
с музыкой, пением, драматическим действом. Но такое множест-
во средств — не было ли оно чрезмерным? Ни в коей мере, ибо
всегда нужно помнить одно очень важное обстоятельство:
том, с каким огромным трудом, как медленно и неуверенно
шло распространение христианства в наших краях. История по-
вествует нам об этой медленности, об этих трудностях — история,
освободившаяся наконец от легенд об основании церквей, от бла-
гочестивых выдумок и басен о том, что церкви во Франции воз-
двигались апостолами '*; по правде говоря, эти выдумки, имею-
щие цель приукрасить историю и окружить ее ожерельем чу-
дес, умаляют и обесценивают драму, которая разыгрывалась в
действительности, прекрасную человеческую драму, распростране-
ния христианства, реальную и мучительную.
I
История религии отнюдь не спокойная история. Она не раз-
ворачивается равномерно,
чинно-благородно
в соответствии с яс-
ным и четким планом, начертанным заранее. Она часто возвра-
щается вспять, начинает сызнова, в ней много тягостных повто-
ров. И это отнюдь не простая история. Иногда думают или де-
лают вид, что думают, будто она целиком сводится к хронологии.
Это не так. Конечно, проблема хронологии существует; в общем
•она поставлена солидно и в настоящее время загадок не содержит
(хотя, разумеется, есть темные места). Однако есть и другая про-
блема, более важная, более новая и более запутанная,— пробле-
ма духовная; попытаюсь объясниться.
'* Houtin A. La controverse
sur
l'apostolicité des églises de France. P., 1902.
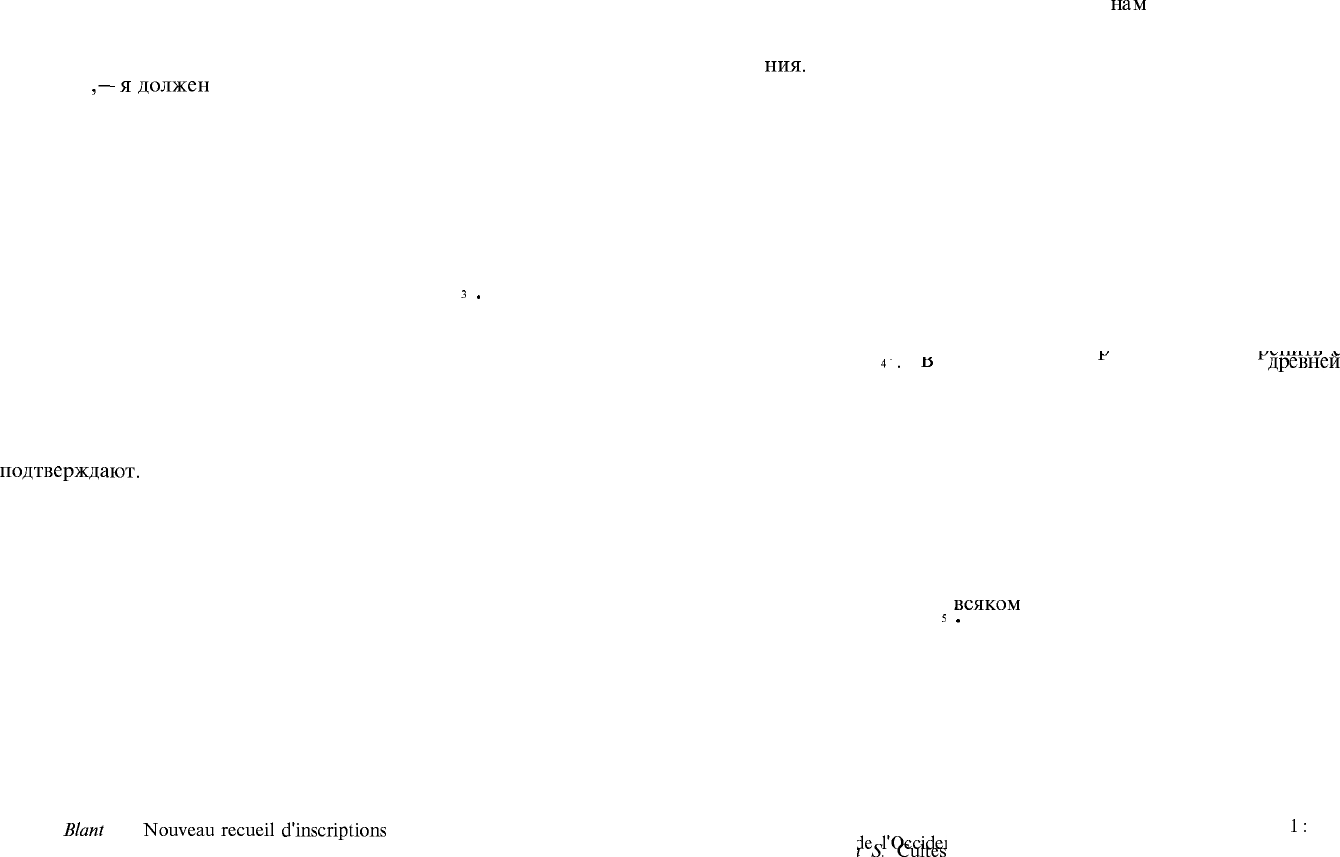
394
Люсьен Февр. Бои за историю
Писать историю распространения христианства — это значит
заниматься в первую очередь датировками; да, конечно. А мы
уже знаем сегодня из согласующихся между собою работ архео-
логов и историков, что вехи, отмечающие продвижение новой ре-
лигии в галльских провинциях, датируются поздними сроками.
Чтобы упростить вопрос, приведем только два свидетельства,
одно — исходящее от археолога, другое — от историка, при том
что оба — компетентные ученые. «Из реального распределения
самых древних христианских памятников,— пишет г-н Ле Блан
в Предисловии к своей книге «Новое собрание христианских над-
писей»
'~
я
до
лжен
б
ыл
сделать вывод, что исторические тек-
сты, писания святого Севера и Григория Турского, знаменитые
акты святого Сатурнина говорят правду, когда показывают нам
(в противоположность некоторым утверждениям), что христиан
екая вера распространялась в Галлии медленно и поздно». И в
.другом месте: «Если придерживаться сведений, извлеченных
•только из датированных письменных источников,— отмечает этот
же автор,— приходится предположить, что распространение (хри-
стианства в Галлии.— Л, Ф.) в первые три века не происходило
вовсе, в IV веке шло робкими шагами, ускорилось в V веке и
завершилось только в последующем периоде»
3
"
такому вы-
воду пришел — и уже давно — лучший знаток христианских
древностей Галлии, ее весьма любопытных саркофагов и поучи-
тельной эпиграфики.
С другой стороны, историки собственными методами, изучая
•тексты (очень немногочисленные и ненадежные), которые могут
дать нам сведения о тех далеких временах, все больше и больше
склоняются к такому же выводу. Труды Дюшена полностью это
подтверждают.
Благодаря ему, благодаря его тщательным и методическим
исследованиям мы знаем сегодня с полной уверенностью, что
епископат возник сначала в крупных городах Галлии, и только
там: это безупречно доказывает помещенная в начале первого
тома «Епископальных летописей древней Галлии» прекрасная
-статья «Происхождение епископальных диоцезов в Галлии».
Первый пункт, весьма интересный,— каковы были истинная роль
и значение епископов в эти давние времена. Но мы знаем также
(и от того же ученого), знаем с уверенностью, что в областях,
•более или менее удаленных от Средиземного моря, в наших за-
падных областях, вплоть до середины III столетия не было орга-
низованных церквей (единственное исключение — Лион). Во вто-
ром столетии в Галлии существует только одна церковь —
в Лионе. Не первая — единственная. С нею связаны все
христиане, рассеянные по Галлии. И если про Арль, Тулузу,
2* Le
Blani
E.
Nouveau
recueil
descriptions
chretiennes. P., 1892. P. IV.
2* Le Blant E. Nouveaurecueil d'inscriptions chrétiennes. P., 1892. P. IV.
Иконография и проповедь христианства
39А
Вьенн, Трир — города на Роне, или большие столицы,— можно
с уверенностью сказать, что епископства появились там в III ве-
ке; если Руан, Бордо, Кёльн, Бурж, Сане, Отен вскоре последова-
ли за этими городами — в 373 году Отенское епископство, несо-
мненно, уже существует,— то большинство церквей возникают на
галльской земле в IV веке. Именно
^
тогда появляются двадцать
две новые церкви, начало которых
на'м
известно,— не считая ше-
стнадцати других, существовавших ранее, но относительно кото-
а
н
рых мы не можем с точностью установить дату их возникнове-
ния.
Третий и четвертый век: именно тогда в нашей стране воз-
никает епископат — в городах. А как в сельской местности?
Здесь вопрос значительно менее ясен — и сама задача распро-
странения христианства была значительно труднее. Нам мало что
известно про сельское население галло-романской эпохи. В какой
степени оно было охвачено романизацией? Мы этого не знаем.
Оно, конечно, жило в стороне от больших дорог и проезжих
diverticula [боковые дороги, ответвление дорог] — более или ме-
нее ? тсоснелое в своих старинных верованиях, полностью про-
никнутых очень древними представлениями, верное культу пред-
ков, древней религии родников, деревьев, возвышенностей
(Камилл Жюллиан установил, что такую религию исповедовали
уже лигуры ') — люди тяжелого труда, для которых было есте-
ственно соблюдать эту исконную религию и искоренить ее было
4
' "
наследственную
^
сокровищницу
^древней
рели-
гии здесь и там включились новые элементы, заимствованные из
греко-романского политеизма. Но старая основа была жива и еще
долго заполняла сердца. «То, что осталось жить в наших дерев-
нях,— пишет С. Рейнак,— то, чьи многочисленные и свежие сле-
ды мы находим возле священных камней и источников — это не
иное, как нолидемонизм, верования в гениев места, демонов,
домовых, фей, великанов, карликов, не имеющих- определенного
облика и „персональной" легенды, без генеалогических связей.
В Галлии не существовало тщательно разработанной мифологии,
но был политеизм, предшествовавший образованию кельтского
пантеона или, во
всяком
случае, начатков такового, о которых
сообщает Цезарь»
5
"
Было множество мотивов, которые могли в конечном счете по-
будить горожан принять христианство. Мотивы совершенно бес-
корыстные: любопытство в лучшем смысле этого слова, желание
«понять новые веяния»; то, что новая религия пылко проповедо-
вала милосердие; влияние и пример женщин, которые поначалу
были очень активными и влиятельными пропагандистками хри-
стианства; наконец, воздействие христианской литературы, ко-
торая получает распространение начиная с IV века. Сульпиций
** Jullian С. Histoire de la Gaule // Revue Bleue. 1914. T.
1:
Les anciens
^fQfe
et religions. P., 1910. T. 3. P. 364 sqq.
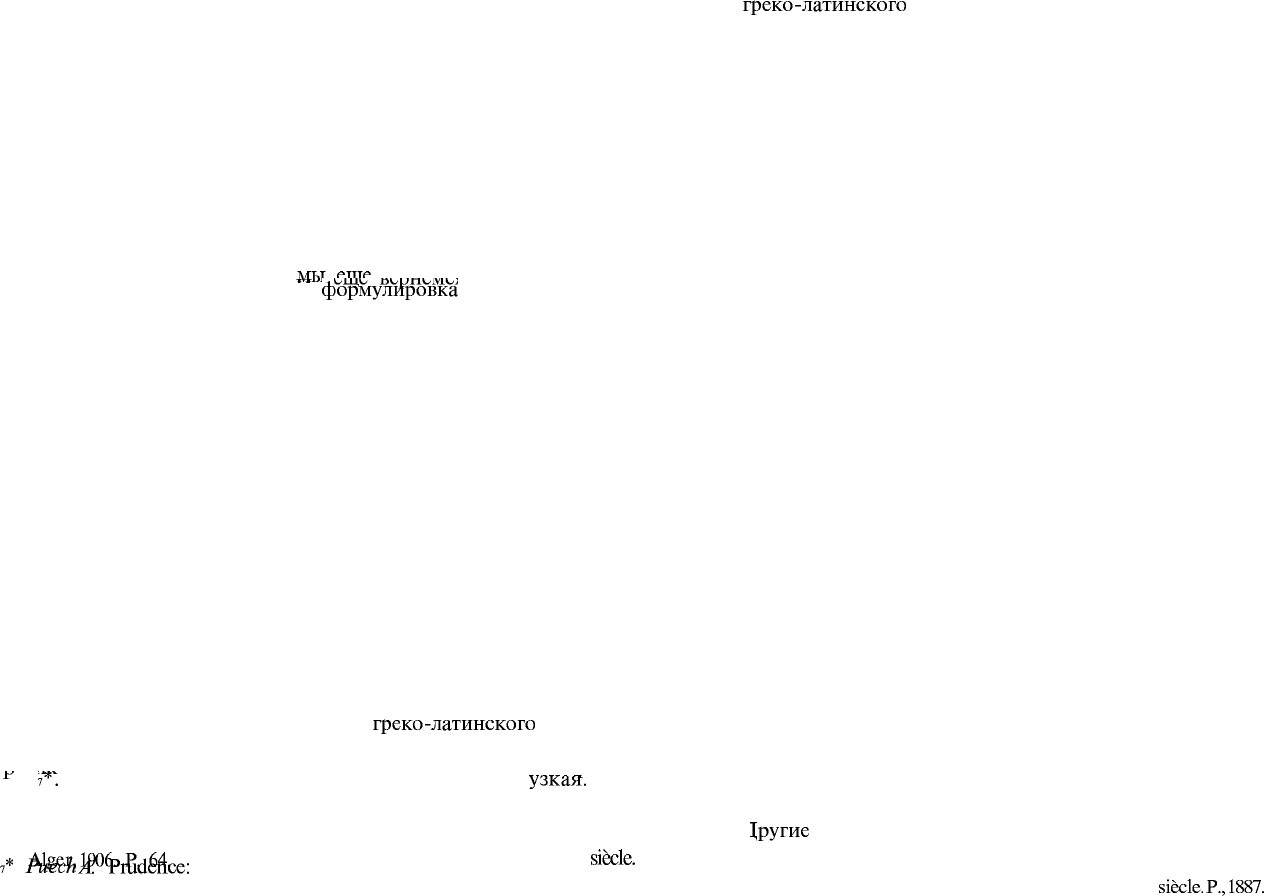
396
Люсьен Февр. Бои за историю
Иконография и проповедь христианства
397
Север (365—425) из Аквитании был не единственным, кто сочи-
нил «Краткую историю» от сотворения мира и до своего времени
и написал биографию Мартина Турского, подлинный религиоз-
ный роман, любопытный и знаменательный памятник преклоне-
ния перед христианским героем. Эти и другие подобные им книги
имели успех; знать, образованные люди покупали их, читали,
брали с собою, отправляясь в путешествие. Все эти причины,
действуя совокупно, понемногу обращают мысли горожан —
язычников к Церкви Христа. Кроме того, наряду с этими, совер-
шенно бескорыстными мотивами были и другие, конечно менее
благородные, но действенные. Когда император стал христиани-
ном — для многих сенатских семейств, для высокопоставленных
чиновников, жадных до скорой карьеры, это был решающий до-
вод в пользу обращения в ту же веру. Нужно заметить, что для
всех этих людей перемена не произошла внезапно, в один день.
Было отмечено, и, на мой взгляд, правильно: еще в конце
IV века «обращения в христианство, подобные обращению Пав-
лина Ноланского, к которому
мыеще
вернемся,были в те вре-
мена крупным скандалом»
в
*.
И
форму
л
ир
овк
а
Гастона Буассье
«великим событием IV века была окончательная победа христиан
ства» точна лишь на взгляд «старой» истории, занимавшейся
только государями и их официальными актами.
Ясно, что в деревне вопрос стоял иначе. Что было нужно
крестьянину? Религия охраняющая и бесхитростная, точнее ска-
зать, религия сельская, полевая, которая давала бы уверенность
в урожае, защищала поля от мороза и зноя, от града и грызу-
нов, посылала бы дождь в засушливую пору и солнце, когда льют
дожди,— короче, выполняла бы (но лучше, чем прежняя) все те
же функции защиты и обеспечения, защиты привычной и ьо-
стоянной,— и это оправдывало бы переход в новую веру; и доба-
вим, вспомнив о традиционных праздниках, с незапамятных вре-
мен занимавших свое строго определенное место в упорядоченной
чреде трудов и дней: новая религия должна была столь же ис-
правно служить отдыху и развлечению, как и языческая, при-
внесенная Римом и худо-бедно привитая к старой религии свя-
щенных источников, рощ и текучих вод. Была высказана такая
мысль: «История установления христианства — что это такое,
если не медленное приспособление верований, семитических по
своему происхождению, к требованиям
греко-латинского
духа, ко-
торый завладевает ими, развивает их и модернизирует, но затем
проникается ими и кончает тем, что живет главным образом
^
7*.
Формулировка интересная, но на редкость
узкая.
То,
•что г-н Пюэш, исследователь литературных и философских тек-
·* Martine P. Ausone et les commencements du christianisme en Gaule.
7*
Ate
iF^Pnadertce:
Etude sur la poesie latine chretienne au IV
е Slecle
-
P., 1888. P. 26.
СТОВ, пришел к такому выводу,— это легко объяснимо. Однако
«история установления христианства» — нет, на самом деле это
нечто совсем другое и намного более сложное, чем история по-
степенного приспособления семитических идей к требованиям
греко-латинского
духа. Проблема сводилась к этому только для
людей культурных, для образованных, горожан, в известной сте-
пени способных к религиозному умозрению; ну, а для людей из
народа, «простых людей», как говорили прежде?
В действительности это произошло не в один день — не сразу
Церковь оказалась способной завоевать крестьян, разбросанных
-по отдаленным наделам или живших в глубине лесов, на выруб-
ках. Новая тактика, новый контингент деятелей: все нужно было
создавать заново. На это требовалось время. И только в ереди-
не IV века Церковь в Галлии смогла начать свою суровую борь
бу с богами полей, лесов и гор: войну с идолами, с языческими
капищами, со старыми суевериями — войну, символом которой
стали имя и труды Мартина Турского (о котором ныне столько
спорят), продолженную другими епископами вокруг него и по-
добными ему. Этот труд едва начался, когда его прервала серия
катастроф: нашествие варваров.
Это важное событие, а как часто его не принимают в расчет!
.Г-н Мариньян в статье, теперь уже давнишней, но по-прежнему
интересной, «Триумф Церкви в IV веке» "* ясно показал значе-
-ние этого события с точки зрения той истории, которой мы здесь
занимаемся.
Неверно, что пришествие варварских народов в римские про-
винции могло только губительно воздействовать на зарождающие-
ся Церкви и на процесс обращения в христианство. Цитируемый
нами автор отмечает, что, как ни странно, во многих местах страх,
ужас, вызванный приближением орд, с одной стороны, приводил
порою к массовому обращению населения, которое препоручало
себя новому Богу, чтобы испытать перед лицом опасности силу
Его защиты. С другой — если варвары рушили, жгли, t азорялв
христианские храмы и сооружения, они точно так же разрушали,
жгли и грабили храмы и сооружения языческие. Разница в том,
что эти последние, после того как их разрушили, никто не стал
восстанавливать. И таким образом варвары ускорили трудную ра-
боту по разрушению и изгнанию прежней религии. Не менее
справедливо то, что вторжение варваров и их хозяйничанье в
Галлии временно прервало продвижение Церкви. Массы новых
людей устремились на Галлию и наводнили ее. Одни из них
были язычниками, и их язычество при контакте воскрешало язы-
чество крестьян, едва затронутых христианской пропагандой.
Ipyrae
были христианами — новоиспеченными и довольно стран-
ными христианами — и часто еретиками: мы знаем, какой успех
•• Marignan A. Le triomphe de l'Eglise au IV
e
Slecle
'
R
'
1887
.

398
Люсьен Февр. Вой аа историю
имела среди варваров арианская ересь
2.
Об
р
а
щ
ать
язычником,
наставлять новообращенных христиан, отвращать ариан от их
ереси: новый труд, новая дополнительная задача встала перед
Церковью.
Политические и социальные потрясения не способствовали
облегчению ее задачи. Во-первых, нашествия превращали епис-
копов в политических вождей; при. всеобщем расстройстве поли-
тической и административной власти именно епископы постоян-
но посредничают между империей и варварами; роль дипломатов
и управителей, вождей уводит их на время от трудов собственно
религиозных. Во-вторых, от присутствия варваров усугубляется
смешение языков. «Неужели я буду петь свадебные гимны фес-
ценнинскими стихами
3—
с
р
еди
к
о
с
маты
х
°Р#
оглушаемый
зву
ками германской речи?» — восклицает Сидоний Аполлинарий *
(Сагт. XXIII). Отвращение образованного человека; но разве
германские языки не были еще одним препятствием для тех, кто
занимался обращением в новую веру? Наконец, религиозная си
туация стала еще более сложной из-за того, что в Галлии обосно
вались еретики. Вспомним, например, что происходило тогда в
бургундском крае. Пришедшие туда бургунды — ариане. Поэтому
после их прихода там живут бок о бок две враждующие рели-
гии: арианство и католицизм. Или даже три, ибо нужно учиты-
вать еще и язычество, сохранившееся кое-где в глубине полей ц
лесов. Святой Авит, епископ Вьеннский (умер около 518 года),
сообщает — текст приводится Мариньяном,— что в королевство
Бургундском существовали язычники; и в житии святого Евста-
зия, аббата в Люксейле (умер в 625 году), написанном Ионой
из Боббио, упоминается, что в окрестностях Безансона было пле-
мя, целиком, предававшееся культу ложных богов.
Напасть кончилась, распространение христианства возобнови
лось. В сельской местности оно продолжалось упорно с V по
VIII век; эти две даты следует запомнить.
В IV веке истинному Богу поклоняются только в городах.
Север констатирует это в двустишии, которое приводится Имба-
ром де ла Туром "*:
Signum quod perhibent Crucis Dei
Magnis qui colitur solus in urbibus
[Знак, про который говорят, что он есть знак Креста
Божьего, почитается только в больших городах].
В Галлии в V веке массы остаются языческими. «Язычество
в Галлии V века является реальностью»,— пишет аббат Л. Ва-
лантен в очерке «Святой Проспер Аквитанский и церковная ли
9*
Imbart de la Tour P. Les Paroisses rurales de l'ancienne
France//Revue
historique. 1896. T. 40.
Иконография и проповедь христианства
; J
399
тература в Галлии V века»
10
*
; и
он
показ
ывает,
какою жизне-
способностью обладали еще тогда в этих краях древние культы.
Однако с первых лет VI века великими усилиями епископов
и монахов сельские церкви начинают умножаться в числе. Да-
лее этот процесс будет идти безостановочно, активно продолжа-
ясь в VII, VÏ|II, IX, X веках и даже позднее, ибо в Бретани |в
XVII веке, когда заново пришлось начинать христианизацию, ко-
торая до того оставалась весьма поверхностной, «католические
апостолы,— пишет К. Валло,— обнаружили в Корнуайе и Леоне
весьма живучие обряды поклонения силам природы», при том что
там продолжали существовать «стойкие пережитки манихейства:
ибо крестьяне приносили жертвы дьяволу и верили в его силу,
параллельную Божественной и равную могуществом» "*. На этой
земле, которая кажется нам такой католической, «народ по-на-
стоящему примкнул к римскому христианству только в XVII ве-
ке» — и нет ничего более поучительного, более любопытного,
чем история (одна из сотни ей подобных) — история о железной
женщине Груэг-хварн из Кастеннека в Дьези, как она изложена
в четвертом томе «Полного собрания барельефов и т. д. роман-
-
Y
12*
г-ном
ТЭсперандъе;
в заметке рассказано
сг
веко-
вой борьбе из-за этого идола между епископами и владельцами
Квинипили, хотевшими ее уничтожить, с одной стороны, и кре-
стьянами, которые, желая поклоняться идолу, упорно вытаскива-
ли его из глубин вод Блаве,— с другой.
Итак, мы рассмотрели хронологический аспект проблемы. Из
сопоставления дат с полной очевидностью следует, что дело хри-
стианизации было долгим, трудным, кропотливым и прерывалось
неизбежными проволочками, внезапными остановками, продолжи-
тельными паузами. Теперь нам надлежит заняться духовными
аспектами вопроса.
II
Обращение в христианство — что мы понимаем под этим тер
мином?
Спросите у миссионеров, которые возвращаются из дальних
стран, где они пытались вслед за другими в свой черед посеять
семена веры в языческие души. Что они скажут? Скажут, что
старались сделать как лучше, но не следует требовать слишком
многого и что нужно поначалу удовлетвориться тем, чтобы прине-
сти поменьше вреда... Посмотрим же в лицо исторической реаль-
ности.
Вот люди (я говорю о горожанах и о самой верхушке), они,
после того как римское завоевание Галлии завершилось,
То*—Valentin
L. Saint Prosper d'Aquitaine et la
litterature
ecclesiastique
en
Gaule au V
e
siècle
.
Toulouse, 1900. P. 36-38.
&ШЖ
&^ШНШЖ£^№ъШ£-Жьгше. Р., 1911. Т. 4.
P. 154, not. 3027.
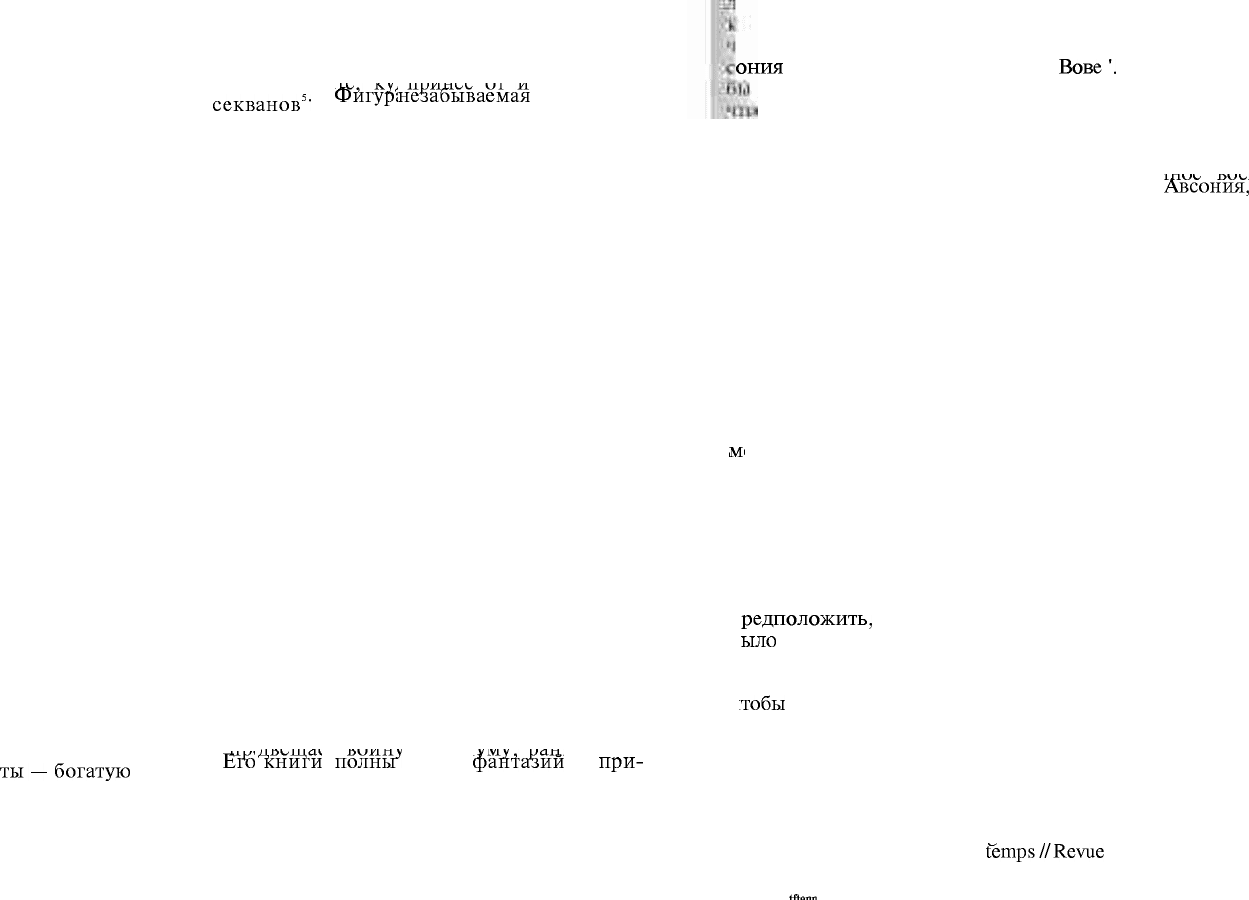
400
Люсьен Февр. Бои за историю
со страстью, с беспримерной жадностью пили из источника глу-
боких идей, к которым им открыл доступ язык победителей, бы
стро выученный ими. С тем же рвением, с каким они покрыли
Галлию белым убором монументальных строений, бывших под
ражашшми римскому зодчеству,- они столь рьяно ассимилирова-
ли язык и дух римлян, что уже в нервом столетии после завое-
вания, в первые годы после завоевания, в истории римской
литературы появляются имена галлов. Это были люди на ред-
кость с быстрым умом, живым и гибким, соотечественники,
потомки и преемники Дивициака, великого друида эдуев, кото-
рый побывал в Риме и в сенате, куда принес от имени своего
народа жалобу на
секванов
5
"
^vyfa
незабываемая
- его опи-
сал Цицерон, поселивший его у себя и беседовавший с ним о
самых высоких материях — философии и религии; благодаря Ци
церону мы можем мысленно увидеть статную фигуру галла, го-
рячо говорящего в полной курии, опершись руками на свой боль-
шой щит... Для него, для ему подобных не потребовалось много
времени, чтобы обучиться тонкостям латинского языка — чтобы
душа его стала душою греко-римлянина, напитанной и проник-
нутой до самых глубин культурою победителей. И вот к этим лю-
дям через три века после такого переворота приходит новая
религия, вышедшая с мистического Востока и напитавшаяся
изощренной греческой мыслью. Эти люди обращаются в христи-
анство медленно, после долгих лет нерешительности, борьбы,
сопротивления; одни — по убеждению, другие — из подражания,
третьи — от усталости, наконец, четвертые — ради выгоды. Они
обращаются в христианство. Однако отказываются ли они сразу
от своих прежних убеждений и представлений, как от изношен-
ной и вышедшей из моды одежды, которую просто выбрасывают?
Не будем ничего утверждать, давайте просто читать.
Вернемся в VI век. Возьмем в качестве примера не бедного
человека, темного плебея, не обладающего культурой и интеллек-
туальными традициями. Возьмем епископа, величайшего из всех,
самого ученого, самого добродетельного,·— человека высокого и
могучего благородства, самое прекрасное воплощение епископа-
та VI века, который может гордиться и другими великолепными
деятелями: возьмем Григория Турского. Так вот: этот великий
епископ верит в гадания но небесным светилам. Он верит в пред-
сказания по кометам, в гадания по птицам, верит, что их пение
предсказывает будущее и что голубка Божья слетает, чтобы ука-
зать на избранника. Он верит в гадание по растениям и что ран-
нее созревание плодов предвещает войну или чуму, ранние цве-
ты-богатую
жатву-
Ей
Чсниги
полны*
снов,
$антсйии
и
при-
зраков — я отсылаю вас к текстам, которые были собраны
г-ном Марипьяном в труде, цитировавшемся выше. В окружении
епископа уже не обращаются за советом к богам, но адресуются
к святым. Христианин оставляет записку на могиле, являющейся
Иконография и проповедь христианства
401
Mi
П1
объектом поклонения, и просит блаженного написать свой ответ
на пергаменте. Или иначе: человек кладет на алтарь записки со
словами «да» и «нет» и, помолившись, выбирает одну из них "*.
Рассмотрите, исследуйте это странное смешение у Григория -
новых христианских идей, высоких и прекрасных, и старинных
пережитков языческого прошлого. Онд удивительно, не правда
и,— это, скажем прямо, естественное, это неизбежное смешение:
какой огромный труд должно проделать учение, чтобы овладеть
еловеческой душою! Не за один день и не за триста лет из Ав-
ония
получается Винсент из
Вове'.
Поначалу христианство
ло так трудно разглядеть даже у наиболее культурных людей,
можно было целыми веками спорить (и спорят до сих пор)
об истинной религии Авсония, «который предстает пред нами,—
пишет один из авторов,— галлом старого закала, у которого- еще
в середине IV века сохранилось благоговейное воспоминание о
языке, богах и традициях кельтов»*'
AcoHIM
'
языческого
поэта, проникнутого идеями античности, а о делах христианских
просто информированного, или же поэта христианского, но пол-
ного языческих мыслей.
Ну, а если мы теперь бросим пристальный взгляд на кресть-
ян, на тех, кто поднялись яростным мятежом в III веке на багау-
дов, свирепых предков Жаков, на багаудов, которых истребили
в 286 году у Сен-Мора? *
«Багауды» — слово, несомненно, галльское, известное в сере-
дине III века. Это не простая констатация: она позволяет поста-
вить вопрос лингвистический. Ибо если правда, что кельтский
язык в конце концов исчез совершенно, так, что в нашем совре-
енном французском языке не наберется двадцати шести слов,
роисходящих из кельтского, то нужно помнить и сказать о том,
что в действительности именно Церковь, а не Рим, не имперский
Рим, изничтожила кельтский язык. Здесь тоже не 'было скорой
перемены, по первому касанию волшебной палочки. Богатые,
власть имущие латинизировались быстро, ибо «сменить язык было ·
необходимым условием исполнения двух их самых главных же-
ланий—преуспевать и блистать». Но крестьяне? Вполне можно
редположить,
что для них замещение галльского языка латынью
ыло
длительным, «произошло лишь в результате медленной ра-
ы веков»; и хотя «pagani» [сельские жители] * услышали ла-
т
ынь достаточно рано, они потратили достаточно времени на то,,
тобы
заговорить исключительно по-латыни. Религия помогла
э
т
ой окончательной перемене. «Учение обсуждали на латыни,—
говорит г-н Брюно,— на латинском языке совершались обряды
и ритуалы с таинственной и привлекательной символикой»;
» Marignan A. Etudes sur la civilization français. P., 1899. Vol. 2: Le culte-
des saints sous les Mérovingiens.
"» Jullian 'C. Ausone et son
temps//Revue
historique. T. 47. P. 244.
Другое значение слова «paganus» - «язычник».
Tf
tftenn
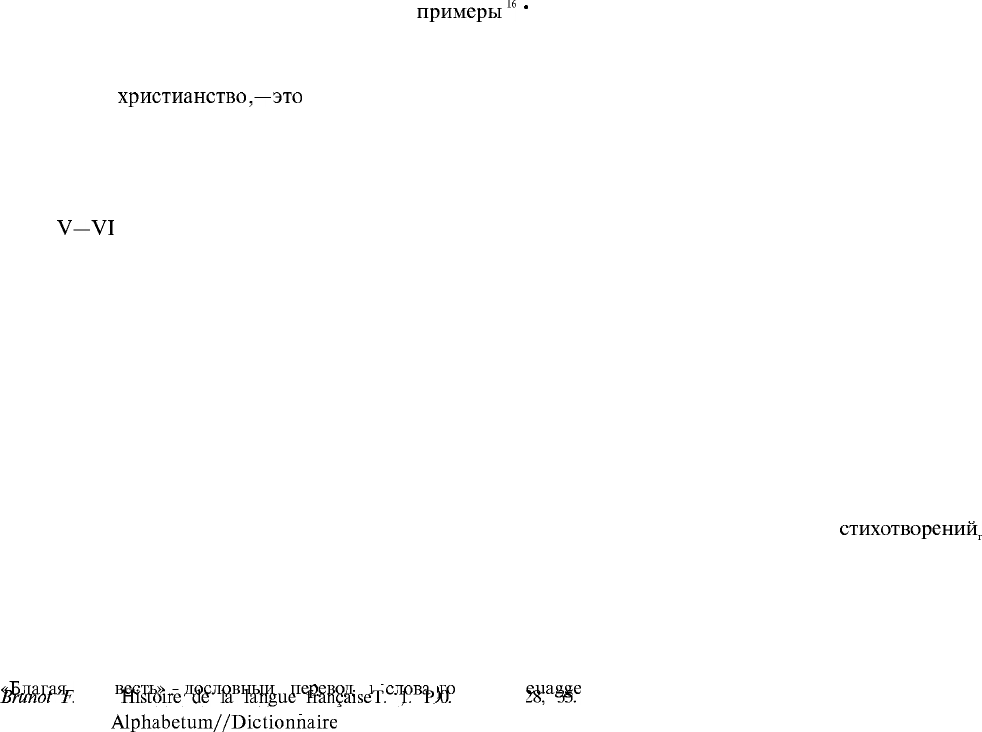
402
Люсьен Февр. Вой за историю
даже «благая весть» [то есть Евангелие]"
1 читалась
по-латыни;
и он доказывает, «как много выигрывала латынь от того, что
была орудием молодой Церкви, пылкой, жаждавшей распростра-
нения и завоеваний, Церкви, которая в отличие от школы об-
ращалась уже преимущественно не к горожанам, а к сельским
жителям, их женам, их домашним» "*. Нужно добавить, что,
замещая кельтский язык латынью, распространители новой рели-
гии тем самым боролись, и очень действенно, со старыми суеве-
риями, с религиозными традициями кельтского прошлого, охра-
нявшимися языком друидов; а мы знаем, какое важное значение
для языка имеют религиозные катаклизмы: Ленорман в своей
статье «Алфавит» в «Словаре древностей» Даранбера и Сальопри-
водит тому поразительные и очень наглядные
примеры
16
'
П
жения кельтского языка, успехи церковной латыни — наравне с
низвержением идолов, разрушением «sacella» [небольших святи-
лищ] и деревенских храмов епископами и миссионерами, обращав-
шими галлов в
христианство,—это
были решающие удары, нане-
сенные тому, что было для Церкви главным препятствием: древ-
ней религии лесов, родников, гор, древнему культу духов, фей и
гениев; этот культ Церковь не могла уничтожить с корнем, она
только стремилась, должна была стремиться христианизировать
его по мере возможности.
Да, в
V—VI
веках Церковь торжествует. Да, своими неустан-
ными трудами она мало-помалу христианизирует деревню. Все
это так, но вот наступает день большого христианского праздни-
ка. Этот праздник — наследник большого языческого праздника
и приходится на то же самое время года, на ту же точку в веч-
ном круге земледельческих работ. Приходят крестьяне — новооб-
ращенные, невежественные, обросшие щетиной, в портах, в ка-
пюшонах. Они приходят в святилище, и святилище оскверняется:
ибо то, что стало церковью, остается для них языческим храмом.
Там они бодрствуют в ожидании праздника. Бдение в посте и
молитве, в сосредоточенном раздумье? Ничего подобного. Всеоб-
щие оргии в годовщины мучеников; бесстыдные пляски, пируш-
ки, шумные попойки на этих поистине вполне языческих «рег-
vigilîa» [ночных богослужениях]. И Церковь это допускает. Она
вынуждена это допускать. Нужно, чтобы она это допускала, и кто·
упрекнет ее за это? Никто не виноват — ни Церковь, ни несчаст-
ный невежественный народ (это замечание принадлежит г-ну Ма-
риньяну). Церковь сделала все, что могла; она провела великое,
блистательное наступление; она боролась не только с враждеб-
ными силами, но и с глубоко укоренившимися пороками того вре-
мени и с унынием, с тем усталым разочарованием, которое по-
Иконография и проповедь христианства
403
Шт.
тши
в
^ётШи¥йщ&
5
?Р¥?¥ж
т.Р1.
я^
Lenormant F.
Alphabetum//Dictionnaire
des antiquites / Ed. Darcmberg.
Saglio. P., 1872. T. 1. P. 191-192.
хищало каждый день у деятельной жизни лучших питомцев
Церкви, жаждавших одиночества, забвения, отречения. Книжные
выдумки? Вовсе нет: мы располагаем источниками.
III
Когда мы мысленно делаем смотр крупным именам галло-ро
майской литературы, есть два имени, которые тотчас же прихо-
дят на память; к тому же они связаны друг с другом: имя Авсо-
ния, поэта из Бордо, и его блистательного ученика, святого Пав-
лина Ноланского. Святой Павлин тоже был бордосцем. Он ро-
дился в 353 году на берегах Гаронны, в сенаторской семье,
несметно богатой и влиятельной; он посещал знаменитые школы
Бордо; он заимствовал у своего учителя Авсония несносное при-
страстие к игре слов, к остротам, к приятным и ничего не выра-
жающим завитушкам. А затем, после блистательного начала,
после того как получил высшую должность — консульство, буду-
чи богатым человеком, уважаемым, избалованным всеми, Павлин
покидает суетный мир, бросает свое имущество, политическую
карьеру, отказывается от своего положения и будущности, пере-
бирается в Испанию, оттуда в Кампаныо и, наконец, останавли-
вается в Ноле, близ могилы тамошнего святого — Феликса. Он
остается там на всю жизнь: отличный образец (заметим в скоб-
ках) тех разочарованных, которые бежали от повседневной дея-
тельности, ответственности, обязанностей, мужественной борь-
бы, чтобы целиком отдаться чарам тишины.
Какое влечение привело разочарованного с берегов Гаронны
к могиле святого Феликса? Мы этого не знаем. Святой Феликс —
«темный» святой, о котором ничего не известно, но его популяр-
ность в Кампанье среди простых людей была очень велика. Ему
приписывалось столько чудес и таких странных, что в XVII веке
1
Лё Ней де Тиллемон был этим крайне взволнован и растревожен.
Как бы там ни было, в течение тридцати пяти лет, живя в скром-
ном домике, Павлин пребывал подле избранного им святого.
Но поскольку он был изысканным учеником Авсония, поскольку"
он перенял у него искусство слагать вычурные, изощренные,
сложные стихи,— он добавил к славе святого Феликса великолеп-
ный венок
стихотворенийг
его
восхваляющих: «Natalia», или
«Natalitia» *. Это — лучшее и наиболее интересное в его твор-
честве; собрание этих стихотворений вы найдете в одиннадцатом
томе «Латинской патрологии» Миня "*; кроме того, я могу ре-
* «Natalia» — множественное число среднего рода от латинского слова«
«natalis», означающее все, связанное с рождением или днем рождения.
Адекватный перевод на русский язык затруднителен (так же как пе-
ревод названия цикла Овидия «Tristia»). Слово «natalitius» (natali-
cius) имело тот же круг значений, что и «natalis».
• Aligne J. P. Patrologia latina. T. 61. Col. 661; Nathalium IX. Col. 511 etc.
14·
