Февр Л. Бои за историю
Подождите немного. Документ загружается.

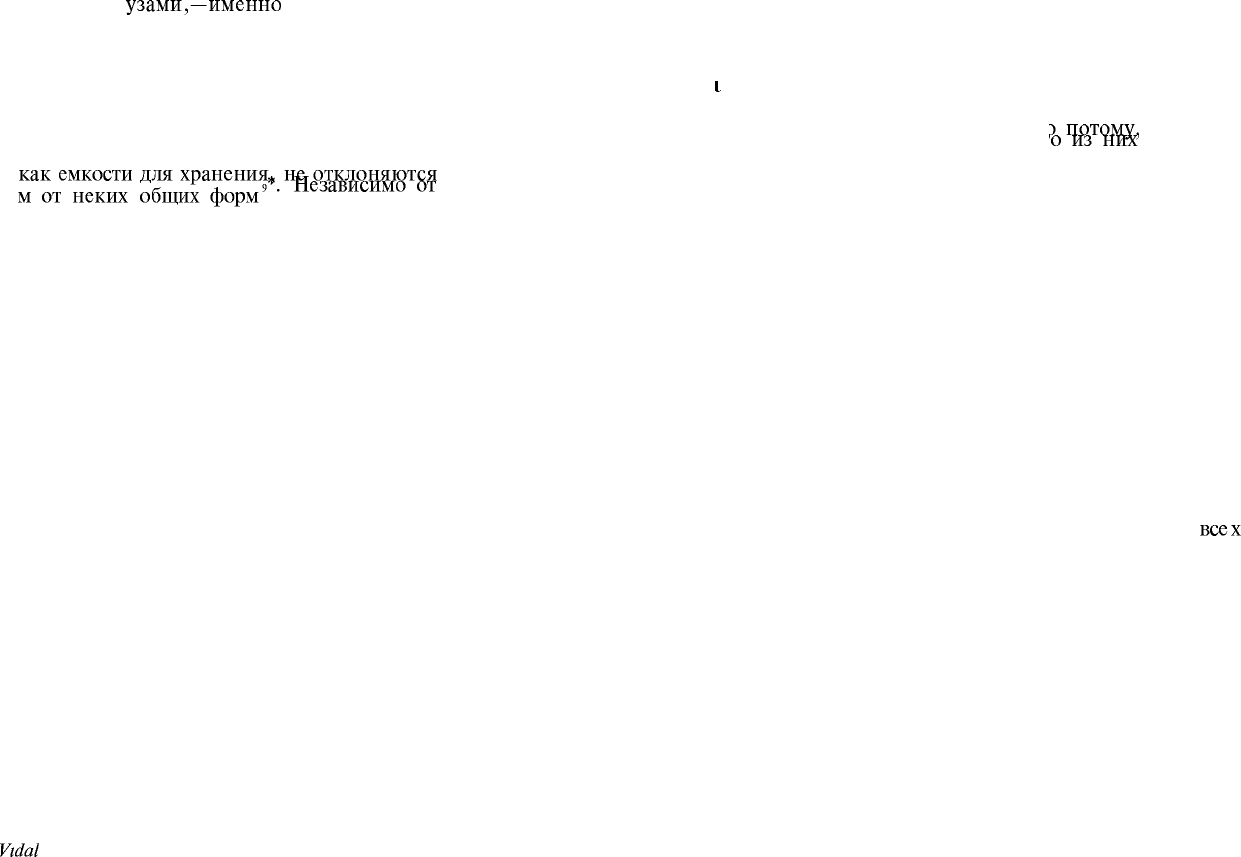
164
Люсъен Февр. Бои за историю
ских областях, о северном олене на севере Старого Света, о тю-
лене и морже на севере Нового. Видаль попутно все это отмеча-
ет. Но он не поддается искушению превратиться в «географа-бо-
таника». Не только потому, что он отлично знает: эти цивилиза-
ции как раз в той степени, в какой они привязаны к специфиче-
ским средам обитания жесткими и, есть искушение полагать,
неизбежными
узами,—именно
в такой степени они страдают
ущербностью. «Им недостает способности сообщаться друг с дру-
гом и распространяться». Но также и потому, что он особо под-
черкивает следующее: местные ресурсы в конечном счете никог-
да не доставляют человеку ничего, кроме материалов, необходи-
мых для изготовления орудий, основная идея, замысел которых
не имеет местного происхождения. Орудия и предметы, которые
человек создал для нападения и обороны, для транспортировки
Гот™
1
ZS
a
Jo?-"ft«»™
I8?
золото, раковина или дерево использованы в составе сложного
целого — топора, палицы, лука, они составляют все то же целое.
полотна, из кожи, как у древних кельтов,— все они различаются
более материалом, нежели формами. Такими путями воплощают-
ся замысел (который предшествует приспособлению материала)
и творческое начало, накладывающее на материал печать чело-
века.
Таким образом, рассмотрение замкнутых обществ, которые,
как кажется, все извлекают из окружающей среды, которые сами
представляются, если можно так сказать, не чем иным, как про-
дуктом окружающей среды,— это рассмотрение не побуждает
выдающегося географа обмануться видимостью и объявить о под-
чинении человека природным условиям. Напротив. Вот что пора-
жает Видаля в первую очередь: изобретательность человека, его
инициатива, пластичность, свобода, если хотите,— нужно лишь
отнять у этого слова метафизический смысл,— но только не его
закабаление. Какова его зависимость от природного окружения?
«Она лишь дает ярче засверкать — в определенных ситуациях -
могуществу и разнообразию выдумки, на какую он только спосо-
бен». И в итоге вот что считает Видаль де ла Блаш в конце своей
научной карьеры, обогащенный всеми наблюдениями, размыш-
лениями и опытом целой жизни, заполненной постоянной рабо-
тою мысли,— вот Что он считает наиболее примечательным в ма-
териальной культуре цивилизации: не связи, которые он видит
лучше и тоньше, чем кто-либо другой, связи между созданиями
человеческих рук и разнообразными произведениями природы,
Проблема «человеческой географии»
165
окружающей людей, а всеобъемлющее и властное могущество че-
ловеческого разума.
Читатель извинит нас за то, что мы — с особым удовлетворе-
нием — остановились на этих глубоких идеях выдающегося мы-
слителя и лишний раз воздали должное его широте и щедрости.
Н
При всей своей незавершенности последний труд Видаля в
любом случае являет во всех своих частях прекрасное един
I ство мысли и чувства. Напротив, «География истории» господ
i
Ж. Брюна и К. Валло — книга составная, довольно странная по
композиции, а то, как она написана, может озадачить читателя.
bWWk
\
·*
Vidal
de la Blache P. Principes... P. 131, 132.
достатки, но еще — и главным образом — потому, что она состав-
лена из двух разнородных частей и установить связь между эти-
ми частями, сказать по правде, представляется делом затруднитель-
ным. Ответственность за это, как сказано в Предисловии, несет
только один из авторов, г-н Брюн, ибо он сообщает нам, что
«География истории» была уже «скомпонована и частично напи-
сана», когда г-н Валло предложил ему свое сотрудничество.
Первая часть книги, намного более внушительная — 440 стра-
ниц, является общим исследованием связей географии с исто-
рией. Вторая, менее обширная — 250 страниц, представляет собою
серию заметок о мировой войне 1914—1918 годов под названием
не совсем понятным, зато изобилующим существительными: «Гео-
графия современных битв; Расы, Народы, Нации, Государства,
Война и Мир». Есть ли какая-нибудь реальная связь между эти-
ми двумя частями? Авторы об этом не говорят. Они не захотели
подразделить свою книгу старым удобным способом: первая
часть — приведение в систему теоретических принципов, извле-
ченных из историко-теографических знаний
все'х
времен; вто-
рая — приложение этих принципов к основным событиям войны
1914—1918 годов. На деле последние 250 страниц книги не име-
' ют никакой определенной связи с 400 первыми. Они образуют
нечто вроде самостоятельного исследования. Они более похожи
на статью из журнала, чем на географический трактат. Порою
они очень определенно напоминают нам о том обстоятельстве,
[ что один из двух авторов, а именно тот, чью печать несет на себе
вся эта последняя часть книги, во время войны властно почувст-
вовал в себе призвание журналиста. Пусть извинят нас за то,
что мы не последуем за ним в эти сферы. Каждому — его ремес-
ло. Перед нами с 1914 но 1918 год война поставила лишь неболь-
шое число скромных вопросов тактического характера, связанных
с «Инструкцией по боевым действиям некрупных боевых подраз-
делений». Мы не чувствуем себя достаточно искушенными столь
малым опытом, чтобы судить ныне живущих полководцев с вы-
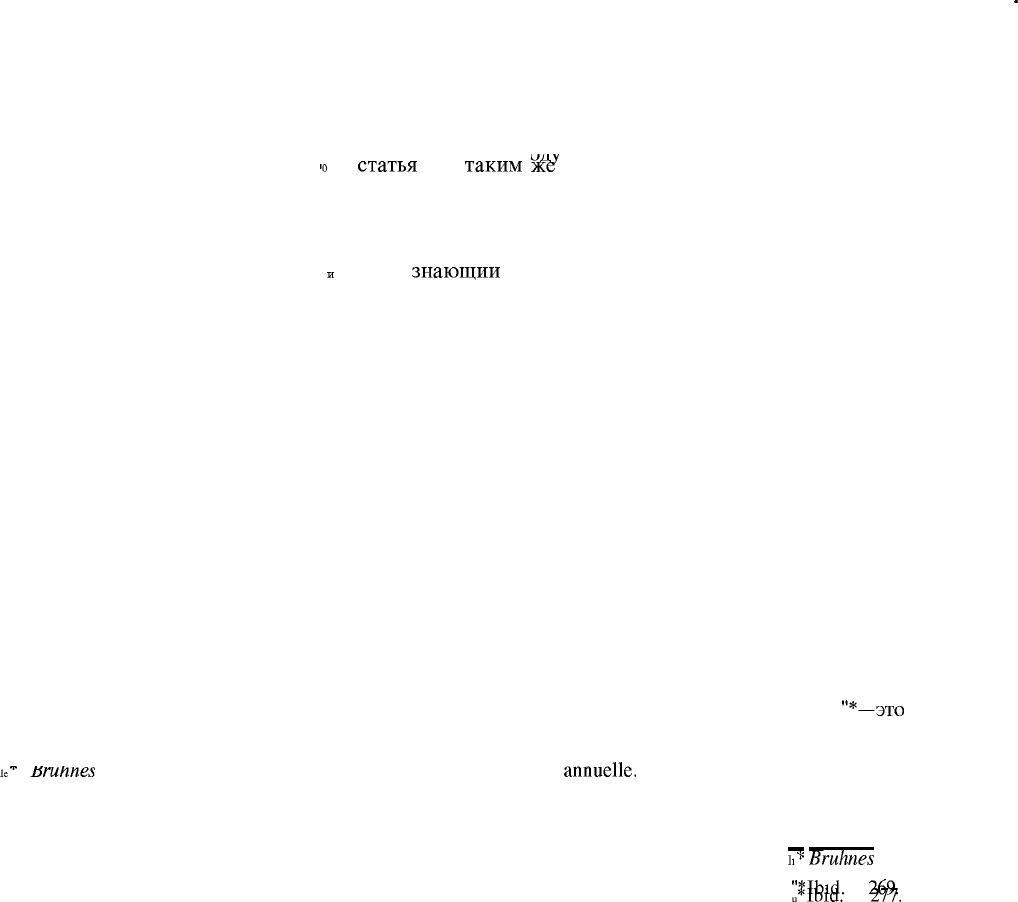
166
Люсьен Февр. Бои за историю
сот стратегии — сухопутной, морской и военно-воздушной. Или,
скажем точнее, наше мнение по этим вопросам не имело бы пн
веса, ни ценности.
Что же касается первой части книги, то здесь мы чувствуем
себя более уверенно, так что можем обсудить ее и по мере необ-
ходимости поспорить. Здесь мы попадаем в законную область
интересов географа и историка: к тому же автор пишет о вещах,
уже достаточно знакомых. Ибо то, что на этих 440 страницах
принадлежит г-ну Брюну, не содержит в себе ничего неожидан
ного. Мысли те же, что были изложены уже в «Человеческой
географии» того же автора — как в общей форме, так и доволь-
но подробно в главе VIII. Опубликованная в 1914 году в «Еже-
годном географическом обзоре»
»
статья
под
таким
^
названи-
ем, что и нынешняя книга, развивает и формулирует те же идеи.
Равным образом и то, что принадлежит г-ну Валло, тоже выхо-
дит из-под его пера, собственно говоря, не в первый раз. Уже
в 1910 году в объемистом томе под названием «Социальная гео-
графия. Земля и Государство»
"
этот
знающий
географ уже
сформулировал те соображения, «более сжатое и упорядоченное
изложение» которых (так пишет он сам) он представляет нам
ныне. Вообще, видно, что затея гг. Брюна и Валло во многом на-
думанная и их сочинение обязано своим появлением, по всей ве-
роятности, скорее успеху предыдущих работ, чём подлинной ин-
теллектуальной потребности.
Поспешим отметить, что в этом труде есть удачные страницы,
абзацы, которые можно прочесть с пользою, остроумные рассуж-
дения. Их немало, в особенности это, конечно, относится к гла-
вам, посвященным населению земного шара, путям сообщения,
границам, столицам,— эти главы изобилуют небесполезными ука-
заниями. Однако здесь, на этих страницах, нам хотелось бы по-
спорить относительно идей, принципов и в известной степени
методов. Перейдем же прямиком к самому существенному, я хочу
сказать — к нескольким довольно сжатым и насыщенным главам,
в которых г-н Валло, подытоживая свой предыдущий опыт, скон-
центрировал главные мысли о фундаментальной проблеме (или
проблемах) политической географии. Прекрасный случай пере-
смотреть лишний раз наши собственные мысли относительно со-
вокупности процессов, в изучении которых историки из вполне
законных побуждений (надеемся, что географы с этим согласят-
ся) стремятся принять участие. В первой из трех глав, посвя-
k~
nrunnes
J. La geographic de l'histoire//Revue de geographic
annuelle.
1914. T. 8. Fasc. 1. Статья по-прежнему представляет интерес даже пос-
ле выхода в свет солидной книги, благодаря интересным иллюстрациям,
помещенным отдельно, вне текста,— весьма характерным фотографиям
Боснии и Герцеговины.
"* Ему предшествовал другой том под названием «Море». О выходе этих
двух томов мы в свое время оповестили читателей. См.: Revue de syn-
thèse historique. 1911. T. 18. P. 242.
Проблема «человеческой географии»
167
щенных последовательному рассмотрению «трех фундаменталь-
ных проблем политической географии», г-н Валло в первую оче-
редь исследует и пытается определить «первичные географиче-
ские условия», являющиеся необходимой основой для образова-
ния любого государства *
2
'
Действительно, именно в этом вопрос
вопросов — сердцевина всей политической географии.
Избранный же автором метод представляется безупречно адек-
ватным. Составить карту государств. Затем — карту обитаемого
мира. Наложить первую на вторую. Отметить несовпадения.
И применить географический анализ к тем частям обитаемого
мира, которые избегли государственности; попытаться вырвать
у них тайну географического аспекта жизнедеятельности полити-
ческих организмов. Теоретически — нет ничего разумнее. На
практике — давайте посмотрим.
Составить карту государств... Но что такое государство?
Г-н Валло сообщает нам это, и именно там, где он должен был
это сделать: в самом начале своей книги. Государства — это об-
щества, организованные для того, чтобы гарантировать состав-
ляющим их индивидам личную безопасность, мирное пользование
своим достоянием и плодами своих трудов "*. Безопасность,
собственность — перед нами политико-юридическая теория. Но в
таком случае при чем здесь география? Безопасность, собствен-
ность: это ведь понятия отнюдь не географические.
Позвольте, возражает нам г-н Валло. Само осуществление
этих прав государством (почему «прав»? Мы ожидали бы здесь
слова «функций») «немыслимо, если этим правам не сопутствует
обладание, пребывание на каком-то участке земной поверхности».
Но какая в том необходимость? Государство, как Вы его понимае-
те и определяете,— это абстрактное и военное государство Ратце-
ля из его «Политической географии»: общество гарантий и защи-
ты против опасностей, угрожающих его членам. Однако в этом
определении нет ничего такого, что не позволило "бы применить
его, скажем, к государству кочевников, кочующих постоянно;
иными словами, оно не содержит в себе необходимости постоянно
занимать участок земной поверхности, очерченный границами.
Были ли на самом деле в истории чисто кочевнические государст-
ва (или, как говорит г-н Валло, «абсолютные и закончен-
ные»)
"*—это
другой вопрос. Но в данный момент мы подви
^
заемся в сфере понятий и дефиниций. Я утверждаю, что абст-
рактная и правовая дефиниция государства, рассматриваемого
попросту и всего лишь как система защиты и охраны, ве подра-
зумевает сама по себе необходимости в постоянном владении,
пребывании на некоторой территории.
и*
Eruhnes
J.. Vallaux С. Op. cit. Ch. 7. P. 269, 281 sqq.
7
Ж
ft
Ш.

168
Люсьен Февр. Бои за историю
Я отлично знаю: Камилл Валло ответил на это заранее.
«Группа людей, которая все время перемещается, нигде не пере-
ходя к оседлости, и не прилагает никакого преобразующего уси-
лия к той земле, где она временно пребывает, не может создать
общество, оформленное политически, даже в зачатке», ибо «по-
требность в коллективной безопасности начинает появляться с
того дня, когда, осев на какой-то территории, освоив ее, исполь-
зуя ее для нужд материальной жизни, люди, объединенные в
группу, почувствуют, что им нужно защищать их общее достоя-
ние». Однако куда при этом девается различие, сформулирован-
ное самим К. Валло, с одной стороны, между «суверенитетом», то
есть специфической для государства формой владения террито-
рией, и, с другой стороны, простым владением, или частной соб-
ственностью? Когда наш автор говорит нам, что нет государства,
которое не занимало бы постоянно некоторую территорию,— не
впадает ли он в путаницу, подобную той, какую, он обличает у
Анатоля Франса или Ратцеля?
Оставим это и вернемся к происхождению «потребности в
коллективной безопасности», которая может появиться не иначе
как только если люди закрепились на территории, освоенной
ими. Но не испытывают ли участники каравана «потребности в
коллективной безопасности»? И чтобы почувствовать, что им
«нужно защищать общее достояние» (при том, что это достояние
является действительно общим или состоит из суммы индивиду-
альных), должны ли они обязательно быть землевладельцами?
Когда какой-нибудь Ратцель совершает такого рода ошибки и пу-
тает суверенитет с оседлостью, это можно понять. Он начинает с
утверждения, что «государство есть посредник, при помощи ко-
торого общество связано с землей», только для того, чтобы прий-
ти к заключению: «Народ должен жить на той земле, которая
дана ему судьбою; он должен там и умирать, чтобы исполнить
ее закон». Для Ратцеля — годится. А для г-на Валло?
Теперь о другом. Нам объясняют, что тот, кто говорит «госу-
дарство», говорит «организация для защиты и охраны». Но лю-
бая человеческая группа, сколь угодно малая, разве не заботит-
ся она прежде всего о защите своих членов от нападений и пося-
гательств других групп? В таком случае при помощи приведенно-
го выше определения как отличить примитивные, или зачаточ-
ные, в политическом отношении общества от крупных и разви-
тых государств? Я знаю, что по ходу дела г-н Валло предлагает
и другие критерии. Подлинное государство, государство, достой-
аое так называться, говорит он, может возникнуть не иначе как
на территории, достаточно населенной, чтобы могли установиться
постоянные и тесные соседские отношения между элементарны-
ми группами, ассоциация которых приведет к образованию само-
стоятельного и политического общества. Естественно. Однако ис-
жодное определение государства, данное г-ном Валло, несет ли
Проблема «человеческой географии»
169
оно в себе эту мысль? Нет. Кроме того, даже когда он вводит
новые уточнения подобного рода, представление о государстве,
характеризующемся исключительно организацией системы защи-
ты своих членов, не дает покоя нашему автору. «Нужно, чтобы
между людьми, составляющими группу, были постоянные сосед-
ские отношения, для того чтобы могла возникнуть потребность в
коллективной безопасности и организация таковой»
1
5
'
иятъ
безопасность. Именно в этом, на взгляд г-на Валло, самая сущ-
ность государства.
Поистине довольно парадоксально, что такую позицию зани-
мает географ, ибо, в конце концов, верно ли, что государство воз-
никает только в силу потребностей военного характера? Разве не
играют роли потребности экономические (не будем говорить о
других) — своей важнейшей и первостепенной роли в образова-
нии политических объединений людей? Но если так, что не вызы-
вает сомнений, разумно ли географу оставить это вне сферы сво-
их интересов? Если юрист, если теоретик государственного права
может удовлетвориться абстрактным определением, которого при-
держивается г-н Валло и которое служит для него отправным
пунктом,-— я понимаю такого юриста. Путь для него «земля» мо-
жет быть каким-то образом «сублимирована» до такой степени,
что становится абстрактной категорией мышления; пускай есть
основания (все у того же юриста) выделить понятие «чистой
земли», не имеющей иных свойств, кроме пространс»венного по-
ложения, размеров и т. д. Но для географа? Если он не интере-
суется землей как таковой, землей, производящей и кормящей,
землей, покрытой растениями, населенной животными и несущей
в себе металлы, кто же другой будет иметь право ею интересо-
ваться? Не говоря о том, что концепцию государства, совершенно
формальную, целиком военную, мог принять Ратцель, немец Рат-
цель, пангерманист Ратцель. Она соответствовала логике его
мышления и его доктрины, отнюдь не научной, а политической.
Не лучше ли будет, если мы не последуем за ним по этой стезе?
Признаюсь, я остался неисправим. Сегодня, как и прежде, на
мой взгляд, «проблема политической географии и проблема гео-
графии человеческой — это единая проблема». Для меня не су-
ществует ни политической, ни исторической географии без гео-
графии социальной — ни социальной географии беа географии
экономической, ни экономической географии без географии физи-
ческой. Это цепь, которая не может быть разорвана. И я упрямо
отказываюсь видеть в обществе всего лишь что-то вроде пружи-
ны, движущейся в жесткой коробке-государстве, то разжимаясь,
то сжимаясь. Мне кажется, что группы людей, объединенных в
общество, обосновавшиеся на земле и извлекающие из нее сред
.5*
Ibid. P. 279.

176
Люсьен Февр. Бои за историю
ства к существованию, следует изучать непосредственно как та-
ковые и ради них самих.
Пойдем, однако, дальше. В наши времена высказать мысль,
что географы порой слишком одержимы «несесситаристскими» "
предубеждениями и, кроме того, слишком часто признают воз-
можность прямого, как бы механического «влияния» физических
факторов на человеческие общества,— сказать это — значит вы-
звать горячие протесты: «Детерминизм или, вернее, географиче-
ский несесситаризм? Что за ветряная мельница, на которую вы
кидаетесь? Дверь открыта, дружище, напрасно вы в нее
ломитесь!»
Давайте же вернемся к главам, которые К. Валло посвятил
политической географии. Когда он сопоставил карту государств
и карту обитаемого мира, то констатировал, что в двух случаях
они не совпали. Во-первых, в арктической области, во-вторых,
в лесной экваториальной. «Обе они обитаемы. Но ни та ни дру-
уточняет. «Останутся ли они не затронутыми организацией или
будут колонизованы чужеземными державами — невозможно
представить себе, чтобы там образовалось государство, действи-
тельно имеющее корни в этой почве». Но почему? Потому что
«всякое историческое развитие в этих регионах подавляется за-
конами геОграфии. Эта область земного шара — единственная,
где можно зафиксировать непосредственное влияние климата на
форму правления у людей. Только здесь подтверждается теория,
получившая распространение благодаря великому имени Мон-
тескье...»
5
Пророчество: «никогда». Роковое предопределение: климат. Да,
в самом деле, географический несесситаризм — это не более как
ветряная мельница...
Как много, однако, можно возразить. Мы, конечно, не станем
вступать в пререкания с г-ном Валло по поводу рудиментарного
характера политических сообществ, существующих в настоящее
время в зоне влажных тропических лесов, ограниченных полосою
приблизительно между 10° северной широты и 10° южной. Все
же скажем в двух словах — вместе с Видалем де ла Блашем,—
что, хотя вполне очевидные причины способствуют поддержанию
изоляции человеческих групп в тех краях, «было бы ошибкой
сделать вывод, что там не развились интересные цивилиза-
ции» "*. Но как можно говорить о «прямом» влиянии климата
на форму правления? И особенно — как можно провозгласить это
столь категорическое и самоуверенное «никогда»? При том, что
это не я, а сам К. Валло пишет на странице 271; «Политическая
1,*
Ibid. P. 282, 283.
"· Vidal de la Blocke P. Principes... P. 121.
Проблема «человеческой географии»
171
карта распространилась на большую часть обитаемого мира всего
лишь несколько десятилетий тому назад». По какому же праву
этому явлению говорят: «Дальше не пойдешь»? По какому праву
можно исключить ту или иную область из сферы человечества,
политически организованного? Пускай на этих территориях, не-
сомненно находящихся в невыгодном положении из-за своего
климата и всякого рода географических "условий,— пусть на этих
территориях не могут с легкостью и беспрепятственно образовать-
ся крупные государства, полные жизненных сил и с богатыми
перспективами развития, способные соперничать с наиболее мощ-
ными и энергичными политическими образованиями умеренной
зоны земного шара,— это можно не говорить, не стоит доказы-
вать. Но суть проблемы не в этом. «Карта государств» К. Валло
включает только государства перворазрядные. Подобная карта,
безусловно, может включать и государства кочевников, таких,
как туареги, сенусси, киргизы *. Она может включать также сла-
боразвитые государства, такие, как страны тропической зоны Аф-
рики. Наконец, она может включать колониальные государствен-
ные образования. И кто осмелится утверждать, что через некото-
рое время даже в районах экваториальной сельвы, которую ци-
вилизованный человек начнет разрабатывать, освоит, заселит,—
что там не возникнет одно или несколько колониальных государ-
ственных образований, способных если не к беспредельному раз-
витию, то хотя бы к какой-то самостоятельной и организованной
жизни?
Прошу Вас остановиться, скажет Валло. Я говорю только о
возникновении «автономных политических образований». Коло-
нии — это политические образования, привнесенные извне и на-
вязанные... Навязанные? Но если принять в расчет этот признак,
чем тогда отличаются колонии от других государств, о которых
сам автор говорит нам (с. 270) : «Все великие государства, про-
шедшие путь развития и имеющие историческое прошлое, объе-
диняют осколки народов, рас и наций узами принуждения, навя-
занными насильственно или принятыми добровольно». Таким об-
разом, мы называли бы государством, если бы оно не было раз-
рушено, государство хова на Мадагаскаре (а было ли оно резуль-
татом самостоятельного политического развития?) ', но откажем
в этом звании колониальному государственному образованию Ма-
дагаскар, все более освобождающемуся от своих связей с поро-
дившей его метрополией. Есть, однако, знаменитый пример по ту
сторону Атлантики, когда колониальное образование преврати-
лось в великое государство... Как же можно декретировать, что
I никогда не будет другого такого же?
Камилл Валло, предвидя это возражение, отвечает на него.
Но как! Не знаю ничего более поучительного. «Колониальные по-
беги великих государств, проросшие в экваториальной зоне или
|3 ее непосредственном соседстве,— пишет он на странице 283,—
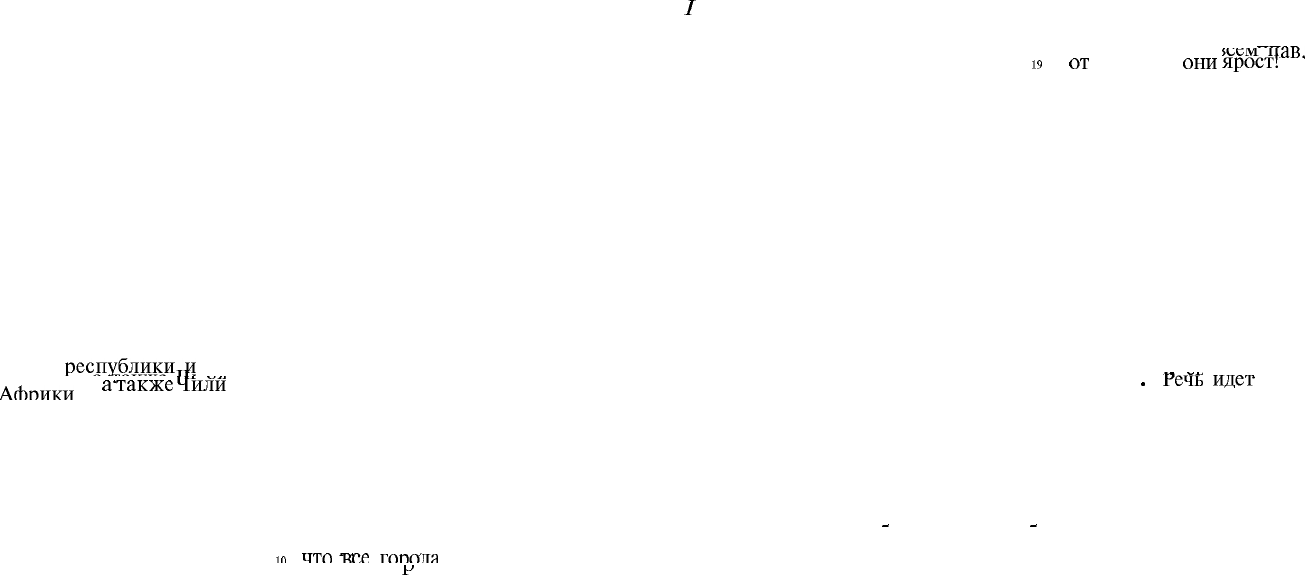
172
Люсьен Февр. Вон за историю
хотя основаны недавно, уже сейчас обнаруживают признаки чах-
лости, которые являются плохим предзнаменованием на бу-
дущее».
Речь идет, как мы помним, о влиянии климата на «форму
правления у людей» и о том, что из-за этого влияния в циркум-
полярной полосе, так же как в экваториальной, «всякое истори-
ческое развитие подавлено законами географии». Но что это за
колониальные отпрыски великих государств, которые, будучи
жертвами климата и законов географии, уже хиреют и идут к
неизбежному концу? Камилл Валло приводит два примера.
Один — его он касается вскользь: из всех американских респуб-
лик «самые слабые, рыхлые, наименее процветающие те, что со-
седствуют с экватором с севера и с юга». Однако типический слу-
чай, самый поучительный пример — это Австралия. Ибо так на-
писал Д. Ф. Фрэзер: в этой сравнительно новой стране «молодые
англичане не слишком отличаются инициативой» и все же они аи
тивнее молодых австралийцев.
Не будем придираться. Отнесемся к этому утверждению с
максимальным доверием. Будем считать строго доказанным недо-
статок инициативы у молодых англичан, переселившихся в Авст-
ралию, или у австралийцев, рожденных в самой Австралазии *.
О чем здесь идет речь? О жизненной немощи колониальных от-
прысков великих государств, «проросших в экваториальной зоне
или в ее непосредственном соседстве». Я смотрю на карту и
вижу, что населенная часть Австралии — та, которую стоит при-
нимать в расчет,- находится в точности на широте Трансвааля,
Оранжевой
республикии
оживленных областей английской Юж-
нжевой
АЛпики
'
а также
Ч
или
и
Аргентины, где как будто не наб-
людается подавления человеческой энергии неблагоприятным
климатом. Я вижу, что Мельбурн, лежащий на 27°50' южной ши-
роты, не ближе к экватору, не более «экваториален», чем Афины,
лежащие на 38° северной широты, или чем Севилья, Гранада,
Тегеран; и вижу, напротив того, что Фес, Алжир и Тунис, 'Мес-
сина, Сиракузы и Палермо, Александрия, Каир и все главные
города Древнего Египта, и Мекка, и Иерусалим, и
in
ЧТО
nRt*P
Т^ОПОТГЯ
воря уже о Вавилоне и Ниневии '
F
рального и Южного Китая, все политические центры Японии
«зкваториальнее», чем Мельбурн, и по большей части «экватори-
альнее» Сиднея. Видя все это, я чувствую себя неловко: ведь не
географ "*.
Проблема «человеческой географии»
173
го-
"* Все же я являюсь им в достаточной степени — и не думаю, будто для
того, чтобы судить о температурных условиях в какой-либо местности,
достаточно знать ее широту. Я отвечаю 'очень грубыми допущениями
на допущения не менее грубые — мне это известно.
III
В последнее время многие и с разных сторон очень стара-
I лись обвинить меня в том, что я замыслил на редкость черное
дело — задушить географию. И — это является отягчающим об-
I стоятельством — задушить ее, позаимствовав «роковой шнурок»
[ у самой географии.
Позвольте не согласиться. Мне всего лишь хотелось бы, чтобы
географы сами себя обязали, по собственному убеждению, к стро-
гой и коллективной дисциплине во всем, что касается готовеньких
/ теорий, крупномасштабных доктрин с большими претензиями, не
i географических по своему происхождению (Камилл Валло имел
полное право напомнить об этом, хотя и был не совсем
ппав,
на-
I поминая об этом именно мне)
19
'
от кото
р
ых они
я
р
ост!
отме
жевываются, когда эти теории им представляют в догматической
форме; но на деле — и после того примера, который был нам
преподнесен самою «Географией истории»,— кто решился бы ут-
верждать, что географы не испытывают зачастую влияния все
тех же доктрин, которые толкают их к неосторожному обраще-
нию с фактами, к сомнительным интерпретациям?
Необходима четкая постановка вопроса. Как именно он мо-
жет быть поставлен? Мне, историку, не подобает говорить об
этом географам; они, конечно, знают это лучше меня. Позволят
ли они мне, однако, указать им на высказывание, которое, как
мне кажется, представляет самый живой интерес? Вновь я поза-
имствую его у Камилла Валло. В своей рецензии на посмертную
книгу Видаля (эту книгу мы представили читателям несколько
ранее) он процитировал отрывок из письма своего учителя, ко-
тировалотрывокизписьмасвоегоучителя,ко-торое тот написал ему в 1909 году
20
'
Речь идет об эпитете
i
«humaine» [«человеческая»]; в те времена все больше входило в
обыкновение присоединять его к слову «география». Видаль, как
всегда пекущийся о поддержании единства и целостности геогра-
фической науки, пишет: «Прилагательными поистине злоупотреб-
ляют. Почему бы не заниматься просто географией? К этому еще
I возвратятся».
_ _
Думаю, что будущее время было употреблено главным обра-
зом, чтобы выразить пожелание. Во всяком случае, я упрекал бы
себя, если бы ничего не добавил к этим четырем коротким заклю-
чительным словам, которые кажутся мне пророческими и испол-
ненными смысла.
Однако могут возразить — зачем придавать такое большое
значение какому-то прилагательному? Какое зло может причи-
нить невинный эпитет «человеческая», которым ныне столь часто
пытаются поднять несколько сомнительный престиж слова «гео-
графия»? Названия, формулировки, вывески — все это слова...
'»* Chronique // Mercure de France. 1923. 1 ianv. P. 205, 206.
* Ibid. К 202.
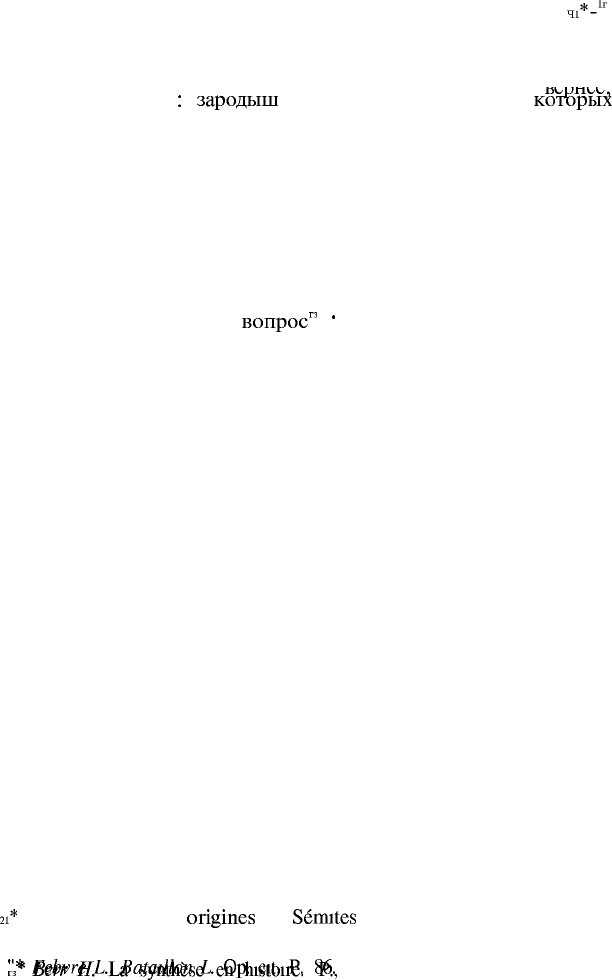
174
Люсьен Февр. Бои за историю
Провлема »человеческой географии»
175
Да, конечно, но слова, которые указывают на те или иные кон-
цепции, приводят их за собой, заключают в себе. А концепция
«человеческой географии» — кто станет сегодня утверждать, что
не следует пересмотреть ее тщательным образом?
«Человеческая география»... Будьте осторожны. Пока речь
шла о «просто»географии, как говорит Видаль,— о географии, ко
торая естественным образом и в самом широком смысле занима
ется человеком, ибо человек, «поскольку он возводит сооружения
на поверхности земли, оказывает воздействие на реки и даже на
самые формы рельефа, на флору, фауну и вообще на равновесие
живого мира,— человек принадлежит географии», пока дело об-
стояло таким образом, не было никаких сложностей, никаких
столкновений, никаких опасностей. С того дня, когда вздумали
стачать из разных кусков самостоятельную науку, окрещенную
«человеческой географией», с того дня, как таким манером чело-
век был официально введен в должность, с этого времени появи-
лись трудности философские, если будет позволено так выразить-
ся, и методические. Выделить человеку его долю — задача нелег-
кая. Он завоеватель по своей природе. Слово «география» -
прежде всего существительное. Но вот: прилагательное понемно-
гу затмило существительное. Прежде человек. А все, что связа-
но с человеком, полно неопределенностей. И вот географам при-
ходится рассуждать (с грехом пополам) о детерминизме, который
не детерминизм, о прерывистом нессеситаризме, который
по временам не срабатывает, о... Все это — с какой целью и с ка-
кими результатами? Более того, вот уже географам приходится
заниматься мнимыми проблемами совершенно особого свойства,
которые, казалось бы, не входят в сферу их исследований — они
и в самом деле могут быть причислены к разряду географиче-
ских не иначе как путем откровенного насилия или же из ребя-
ческого тщеславия. Здесь мы имеем в виду все эти вопросы о
«влияниях», все поиски «первопричин» — выше мы уже говори-
ли об их порочности и тщетности (быть может, говорили недо-
статочно энергично, недостаточно сурово). В чем же дело? Этот
обратный эффект можно было предсказать: если человек воздей-
ствует на землю, то и земля, в свою очередь, воздействует на че-
ловека... Географы, называющие себя «человеческими», знайте от-
ныне, что ничто человеческое вам не чуждо... И поскорее спроси-
те себя, не климат ли является причиной политического полуза-
стоя современных австралийских обществ,— продолжая провоз-
глашать самое похвальное и всеобъемлющее пренебрежение к
устарелым теориям Монтескье. Однако, сколько бы вы ни стара-
лись, ваша наука будет от вас убегать, ибо кто помешает тому,
чтобы вслед за вами и г-н де Морган, историк, тоже задался во-
просом: «Не являются ли важные этапы развития человечества
следствием двух великих природных явлений: засухи, принудив-
шей семитов уйти со своего полуострова ", и похолодания Сибв-
41*-*
ри, заставившего индоевропейцев покинуть свои степи?»
Хорошо или плохо (скорее плохо, чем хорошо, так как я не
философ, а сделаться философом вдруг — невозможно) в книге
«Земля и эволюция человечества» я сказал об этом, или, вернее,
попытался сказать
22
:
за
род
ы
ш
всех сложностей, среди
которых
мы ныне барахтаемся, пытаясь конкретно измерить ценность уси-
лий современной «человеческой географии», именно здесь: я хочу
сказать — в том, что слишком многие географы принимают без
достаточной критики и размышлений — назовем это вульгарным
представлением о причинности, или, проще говоря, в том, что у
них есть потребность, что они ставят перед собой иллюзорную
цель «дойти до первопричин». Некогда их наука была всего лишь
описанием. Она хочет стать объяснением. И это замечательно.
Но что следует понимать под «объяснением» в области наук наб-
людательных - вот в чем
вопрос"
•
Классифицировать наблю-
денные факты, располагать их в определенном порядке, выстраи-
вать из них последовательности — это прекрасно. Но является ли
безупречно законным вводить в эти последовательности факты
совсем другого порядка? Корректно ли с научной точки зрения
вдруг приклепывать к звену метеорологическому звено политиче-
ское и считать цепь, полученную таким путем, совершенно од-
нородной? Обсуждение этого вопроса завело бы нас слишком да-
леко. И я совершенно не имею соответствующей подготовки, что-
бы вести подобную дискуссию. Каждому его ремесло — так гласит
мудрость всех народов. Я только прошу, чтобы квалифицирован-
ные географы серьезно поразмыслили над упоминавшимися выше
сложностями, Думаю, это не означает, что я хочу их, географов,
удушить.
и*
De Morgan J. Des
origines
des
Semites
et de celles des Indo-Europeens //
Revue de synthèse historique. 1922. T. 34. P. 7.
",*
EilwrKLlJla£yiA!m&.(£>&\tiibi&
Ш,
1911. P. 49; вообще все Введение
ко второй части книги.
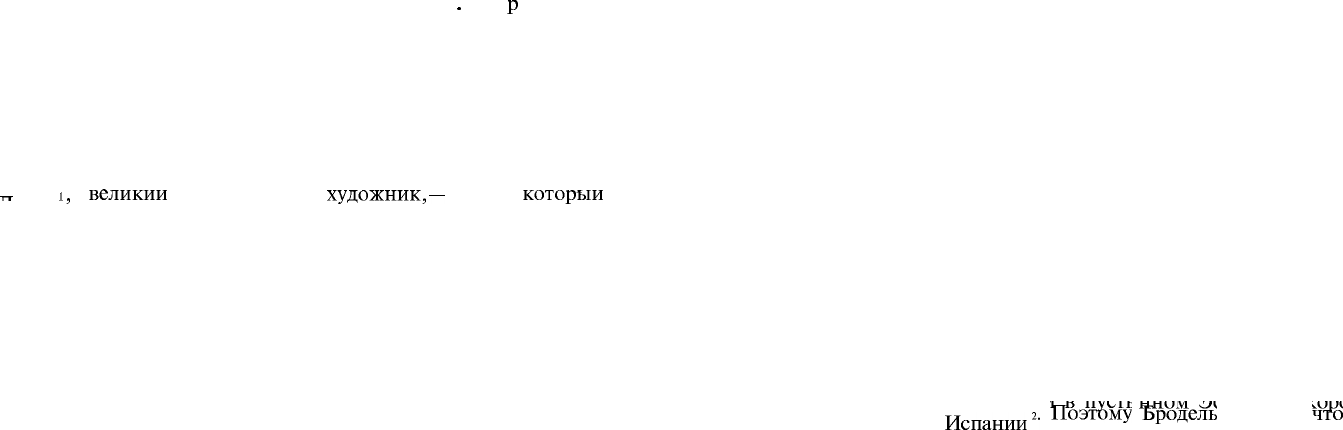
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ МИР
В ЭПОХУ ФИЛИППА II
Мы открываем книгу — толстую книгу в одиннадцать сотен
страниц, которую Фернан Бродель озаглавил «Средиземное морс
и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»
1
' ^
на любом месте, все равно на какой главе. Читаем десять стро-
чек, двадцать строчек или тридцать. Мы поражены манерой, в ко-
торой они написаны. Самобытной мощью богатого оттенками сти-
ля, который хотя и не избегает чеканных формулировок (тако-
вых множество), но, не прилагая к тому усилий, очаровывает
какою-то теплотой доверительности, излучением света, мягко про-
аикающего в темные глубины. Это не сноп света без полутонов
и отблесков, какой помещает в центре своих «Ноктюрнов» Жорж
тх
1,
великий
лотарингскии
художник,—
света,
который
де Латур
яростно лепит формы, обнажает лица, бросает на стены резкие
тени. Это слегка приглушенное освещение голландских масте-
ров, от которого их полотна становятся своего рода созерцанием
и раздумьем, человечным и трогательным. Это свет, присущий
одному Броделю и ни на что другое не похожий.
Итак, мы читаем. Читаем все дальше. Читая, мы восхищаемся
совершенством труда, созданного рукою труженика, изобилием
и качеством использованных им материалов, богатством не знаю-
щего промахов воображения. Не возникает желания сказать:
«искусно», «с пониманием», «умело» — все вещи хорошие, но
слова эти обозначают достоинства второстепенные. Мы скажем:
ум, проницательность, обаяние. И поскольку книга читается без
скуки, она прочитывалась бы залпом, если бы так можно было
усвоить книгу, битком набитую сокровищами.
Дать о ней представление немыслимо. Прочитав ее один раз,
даже внимательно, нельзя исчерпать ее богатства. Это книга глу-
бокая и основательная, она принадлежит к числу тех, что стано-
вятся «настольными» на долгие годы. «Да, быть может, возразят
мне, если интересоваться Средиземноморьем XVI века, Филип-
лом II Испанским, наконец, просто XVI веком...» Нет. Если ин-
тересоваться историей. Я чуть не написал «просто историей».
Не будем останавливаться на частностях. Пусть каждый сам
Средиземное море и средтемноморский мир
177
'* Braudel F. La Méditerrannée et le monde méditerranéen à l'époque de
Philippe II. P., 1949. Чтобы книга могла выйти в свет, Фернан Вродель
должен был пожертвовать огромной и великолепной «средиземномор-
ской» библиографией, которую он собрал, и отказаться от огромного
иллюстративного материала - карт и документов, который он подгото-
вил. Труд, подобный книге Броделя,— если бы Франция поощряла до-
стижения Разума - должен был бы выйти томом in-4° или двумя то-
мами in-4°, в роскошном издании, с множеством иллюстраций и карт,
ибо и рисунок, и карта — это тоже история. Но увы!
извлекает из них пользу и удовольствие. Постараемся в самых об-
щих чертах объяснить, почему эта великолепная книга, это со-
вершенное творение историка, исчерпывающим образом владею-
щего своей прекрасной профессией,— чем она отличается (и на-
много) от образцового сочинения профессионала. Эта книга —
революция в подходе к истории. Это переворот в наших старых
привычках. «Историческая мутация» основополагающего значе-
ния.
I
Во-первых, тема. Среди моих бумаг наверняка до сих пор
лежит письмо, много лет назад полученное мной из Алжира, от
молодого преподавателя истории, который в те времена казался
созданным для быстрой и блистательной карьеры историка Се-
верной Африки. Он сообщал мне о своем намерении в скором
времени представить в Сорбонну диссертацию на классическую
тему: «Средиземноморская политика Филиппа II». Он знал, что
когда я собирал материалы для собственной диссертации «Фи-
липп II и Франш-Конте», то вплотную столкнулся с загадочной
фигурой Осторожного короля, ткущего свою «бургундскую пау-
тину»; он знал, что многие деятели средиземноморской политики
Испании были уроженцами Франш-Конте и что я пытался
(в 1911 году) разобраться в их личных устремлениях и социаль-
ной принадлежности; он знал, что в Безансоне и в других ме-
стах я множество раз разбирал на полях какой-нибудь депеши,
написанной в рощах Сеговии илив пустынном Эскуриале, корот-
куриале,корот-кие заметки хозяина
Испании
2.
Поэтому
Брод
ель
полагал,
что
я
могу сильно заинтересоваться его планами. Я не замедлил под-
твердить ему это, добавив, однако, в конце письма: «„Филипп II
и Средиземное море" — прекрасная тема. Но почему не „Среди-
земное море и Филипп II"? Ибо роли этих двух главных дейст-
вующих лиц — Филиппа и Внутреннего моря — не .равны».
Неосторожный намек, который, по-видимому, усилил имев-
шиеся у самого Броделя сомнения и тревоги (а сделать соот-
ветствующие выводы самостоятельно он не сумел). Короче, он
решился и, препоясав чресла, начал блистательный и опустоши-
тельный поход за документацией по всем архивам средиземно-
морского мира. Ничего особенного в этом нет. Необычно то, что
он решился действовать в одиночку, с отвагой, на собственном
малом суденышке, без кормчего и без товарищей, без Наставле-
ния по навигации — он осмелился пуститься в плавание по яро-
стным волнам моря, которое вечно спокойно и улыбается в
лазури только на вокзальных панно для туристов. Он по-
святил десять лет своему путешествию вокруг моря. И уже
видел конец своему плаванию, когда пришла война сорокового·
года.
7 Л. Февр
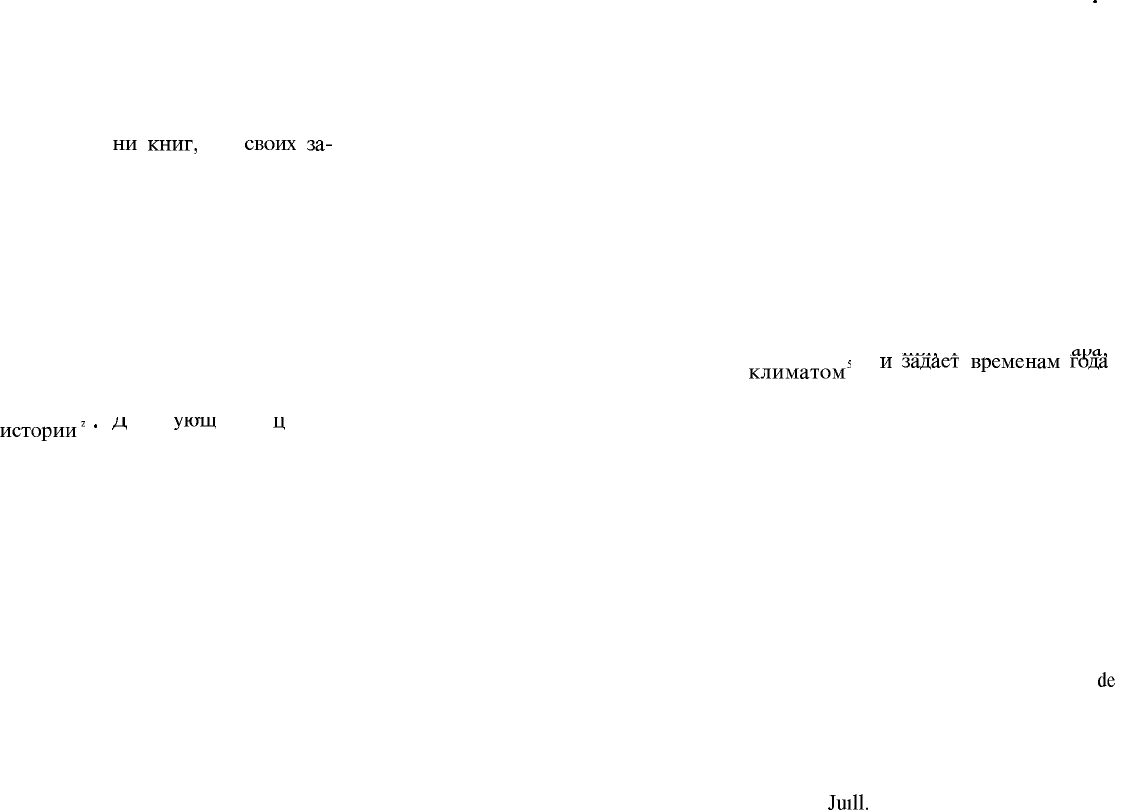
178
Люсъен Февр. Бои за историю
Затрудняюсь сказать, каким образом пленный французский
офицер в концлагере, не слишком довольный тем, что он обязав
в качестве старосты лагеря поддерживать бодрость в каждом,—
как совершил он сей неслыханный подвиг: написал по памяти
одну за другою все главы трактата в одиннадцать сотен стра-
ниц. Я получал эти главы одну за другою в течение четырех
гибельных лет. Такими, какими они выходили из-под пера Фер-
нана Броделя. И если мы помним великий пример Анри Пирен
на, увезенного в глубь Германии и писавшего там в школьных
тетрадках «Историю Европы»
3, не имея
ни книг,
ни
своих за-
меток и материалов, то справедливо будет запомнить и другой,
не менее прекрасный пример Фернана Броделя, который, буду-
чи пленником в Германии, тоже писал свое «Средиземное море»
в ученических тетрадках, имея еще меньше книг и заметок, сре-
ди шума и гвалта (их легко себе представить) барака для плен-
ных, под постоянной угрозой, под постоянным гнетом...
Ныне книга готова; она перед нами: вышла из печати. И пос-
ле того как я, случалось, упрекал себя в том, что слишком
усердно, быть может, толкал Фернана Броделя на пути нелегкие
и нескорые, теперь я могу только восхищаться его успехом. Он
победил.
Впервые море (или, если хотите, комплекс морей) возведе-
но в ранг действующего лица
истории
2
' ^
ующ
Ц
многих лицах, заполняющее собою весь объем, обладающее не-
исчерпаемыми возможностями вмешиваться в жизнь людей, при-
тягивать их к себе, быть посредником между ними. Действующее
лицо из ряда вон выходящее, неподвластное времени, несоизме-
римое с нашими привычными мерками. Действующее лицо пле-
нительное, коварное, всепроникающее; оно вкрадывается в
жизнь людей, в самую жизнь обитателей суши и порождает ря-
дом с нею своеобразную жизнь людей моря, открывает перед
теми и другими ристалища, столь же прекрасные и столь же
кровавые, как прибрежные долины и горы; наконец, действую-
щее лицо огромное; на протяжении многих веков оно было един-
ственным средоточием обмена и общения белых людей, наиболее
предприимчивых из них, наиболее богатых идеями и продвинув-
шихся в своем развитии; оно оставалось еще в XVI столетии (во
времена, когда другие «морские персонажи» привлекают к себе
внимание государств и государей и, побеждая, все прочнее им
Я говорю «действующего лица», но, конечно, не «объекта». Ибо уже
было множество книг, посвященных Средиземному морю: работы гео-
графического, исторического характера; вы найдете в книге Броделя
(с. 1127) перечень тех книг, что заслуживают внимания. Однако эта
книги, сочинения по большей части скороспелые, написанные второпях
лихими журналистами, не имеют ничего общего с трудом, о которой
вдет речь. Бродель проявляет снисходительность в оценках этих книг.
завладевают), оно оставалось еще одним из крупнейших центров
активности белого человечества, впервые получившего право гор-
диться собою, будучи уверено в своей окончательной победе
'
II
Такова тема. А метод?
Что касается метода, то здесь — подлинная революция. Вот
почему книга Фернана Броделя (не перестающая после своего
выхода в свет вызывать во Франции и за ее пределами живое в
благодетельное любопытство) — вот почему она заслуживает,
чтобы ее принимали с той смесью энтузиазма и почтения, какая
подобает только творениям, за которыми будущее **. Три части.
Вначале «Роль среды обитания», 300 страниц. Портрет, если хо-
тите, или, вернее, физический и физиологический анализ персо-
нажа, чье огромное, близкое и благотворное присутствие угады-
вается совсем рядом на каждой странице книги. Перед нами вод-
ная равнина и кайма побережий, ближние горы, плоскогорья и
выходящие к морю равнины. Вот по ту сторону Средиземного
моря — океан застывших волн щебня, пустыня, та самая Сахара,
которая отчасти управляет
климатом
5
*
и
зад
а
ет
в
р
еменам
го
да
их ритм и темп. Разнообразие, но также и единство. И прежде
всего единство человеческого пейзажа. Единство мира деятель-
ных и шумных городов, имеющих богатое прошлое, пожирателей
человеческих толп; их хрупкое величие, конечно, может быть
раздавлено одним ударом; их величие, занятое добыванием
ежедневного пропитания, но бесконечно, от одного к другому,
текут потоки, которые их соединяют, увлекают за собой,
заставляют сотрудничать (вопреки сепаратизму, порой отчаянно-
му) — в едином великом деле цивилизации...
6
«Во всем этом нет ничего нового, и в чем Вы видите нова-
торство? То, что дает нам Фернан Бродель, разве это не клас-
сическая глава-жертва, какую каждый историк считает себя обя-
-
'* Именно: наконец-то обретенная гордость — завоевывалась она долго и
трудно (см.: Grenard J. Grandeur et décadence d'Asie: l'avènement,
de'
l'Europe. P., 1939). Ta самая гордость, которая, как мне кажется, в зна-
чительной степени выразилась во всеоблемлющем и могучем явлении, .
методологическом аспекте труда Фер-
нана Броделя. Краткий очерк идей, положенных в основу этой книги,,
можно найти в моей статье: Febvre L. Vers une autre histoire // Revue
de la métaphysique et de morale. 1949.
Juill.
'* См. С. 196: «Ответственные за климат: Атлантика и Сахара».
'* См. пятую главу первой части: «Дороги и города». И в особенности пре-
красный очерк «Участь городов в XVI веке», исполненный новых мыс-
лей, требующих обсуждения (например, с. 293: «...последняя вселен-
ская цивилизация — Барокко, которую приморские города создали для
христианской Европы; цивилизация, полная жизни, драматичная, на-
пыщенная, как нельзя более чопорная»). Ибо «города — это школа за-
висти и пышности».
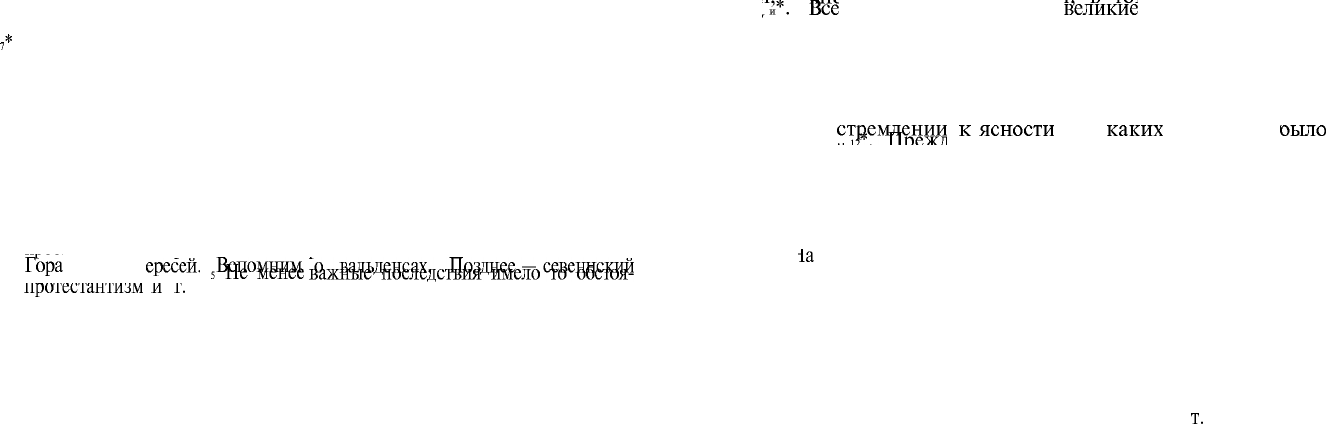
180
Люсъен Февр. Boa за историю
Средиземное море и. средиземноморский мир
181
занным, ради соблюдения приличий, предпослать своей книге:
«1. Физические условия: почва и климат»? Три десятка стра-
ниц — и привет. Мы свое дело сделали и возвращаться к этому
не будем».
Однако, читая Фернана Броделя, мы возвращаемся непре-
станно... Ибо, если он пишет о горах, то не для того, чтобы
попутно приукрасить текст комментариями в духе какого-нибудь
Филипсона '
сказать по
правде, пишет он не о горах. Он пи-
шет о Горе, о мире сильных людей, связанных тесными семей-
ными узами, скрытных людей '*, чье доверие трудно завоевать,
живущих в стороне и поодаль от общих течений; людей, засев-
ших в своих орлиных гнездах и мало озабоченных ходом большой
истории '*, как бы она ни называлась — христианизацией, фео-
дализмом или денежным обращением.
И если Бродель говорит о водных равнинах (с. 73—99), τσ
не как о пустых пространствах, где только ходят волны. На era
взгляд, роль этих водных пространств в том, чтобы создать,
способствовать созданию единой цивилизации. Потому что выйти
из узких морей, связать одни моря с другими, проникнуть через
морские преграды, которые их разделяют, установить между
ними сравнительно легкое сообщение — такова была всегда ве-
ликая задача **, которую ставили перед собой властители, ска-
жем точнее, задача, которую всегда ставили перед собой среди-
земноморские города.
7*
«Ибо Гора есть именно то самое: фабрика, производящая людей, и это
ее жизнью — развеянной по ветру, расточенной, потерянной безвозврат-
но - питается вся история моря». К тому же «свойственный горцам
образ жизни - более движение, чем оседлость, скотоводство более, чем
земледелие,— это, по-видимому, и было первоначально жизнью Среди-
земноморья». Населенные людьми долины были созданиями поздними,
потребовавшими тяжкого труда, немыслимыми без столетий коллектив-
ных усилий.
** Эти мирки, угнездившиеся среди гор, яе знали города и, стало быть
„
жизни города. Рим повсюду насадил свой язык, но не в неприютных
горных массивах Северной Африки,-Испании и т. д. Рим насадил хрис-
тианство повсюду, но в изолированных мирках диких пастухов в
крестьян этот процесс не завершился окончательно и в XVI веке.
Гора
- земля
ересей,
з^йомда
йжнЖ-ДЙШёдсййяДЖЬГо^еШ»
lipCllCCldJilMoJVl
М
1.
Д.
тельство, что феодальный режим (система политическая, экономиче-
ская, социальная и, следовательно, правовая) оставил вне сферы своих
захватов большинство гористых областей. Например, Корсика и Сарди-
ния; но и, помимо них, между Тосканой и Лигурией - Луниджьяна,
своего рода внутренняя Корсика. Исследование о вендетте, проведенное
Жаком Ламбером, показало, что страны вендетты - это те, которые
средние века не завоевали своими идеями феодального правосудия.
*** Великолепны заметки о «водных пустынях» (с. 99-100). В Средизем-
ном море — столь небольшом сегодня в масштабах земного шара н по
меркам привычных нам скоростей - в XVI веке имелись обширные опас-
ные и запретные районы, мореплаватели должны были обходить их
стороной.
И наконец, если он, Фернан Бродель, говорит об островах
(с. 116, след.), то не для того, чтобы разобрать их по косточкам.
И это не перепись — при том, что такая задача была бы в из-
вестном смысле новой и необычной,— ибо островов в Средизем-
ном море намного больше, чем можно подумать, заглянув в наши
учебные атласы, в наши мелкомасштабные карты; на морских
картах россыпь мелких крошек, отвалившихся от материка,
кажется нескончаемой, и перед нами предстает рой миниатюрных
мирков, в одинаковой мере принадлежащих тверди и хляби "*,
они живут семьями, архипелагами, образуя в водном просторе
разорванную сеть мостов; они баюкают среди своих берегов
участки сравнительно спокойной воды. Но не об этом речь. На
взгляд историка, это миры, постоянно подвергающиеся опасно-
стям; их всегда подстерегает голод; миры, без передышки
осаждаемые морскими разбойниками и грабителями,— и потому
миры отсталые, архаичные, хранители примитивных способов
хозяйствования. Но в то же время они открыты дыханию про-
сторов; острова вспыхивают порой таким великолепием, что их
можно причислить к самым блистательным из рискованных за-
тей цивилизации; они — промежуточные станции на пути ее
авантюр. «Большая» история затрагивает их раньше и глубже,
чем горные местности. Через них осуществляется интенсивный
обмен культурными влияниями, растениями, животными, тканя-
ми, технологией и даже модами, в том числе модой на одеж-
г
и*.
Fee
идет через острова,
йеликие
поставщики-экспортеры
людей. Они подмешивают в Историю своих эмигрантов.
Итак, полуострова, горы, долины, водные пространства, остро-
ва малые и большие — все это термины географические. Однако
Бродель не географ. Он специально подчеркивает это в своем
великом
стремлении
к
ясности
без
каких
бы то ни
было
недо-
небо. Бродель всегда помнит о хронологии, у него есть та одер-
жимость датой, которая так отчетливо отличает прирожденного
историка от его собрата, а иногда и врага — социолога. Среда,
1а
самом деле нет такого участка побережья (каким бы простым он
ни выглядел на картах), возле которого не было бы роя островов, ост-
сахарного тростника, при-
шедшего из Индии в Египет, оттуда на Кипр (X век), с Кипра на
Сицилию (XI век), с Сицилии на Мадейру, оттуда на Азорские остро-
ва, на Канарские, на острова Зеленого Мыса и, наконец, в Америку.
Бродель вспоминает также, как высадились десантом на Кипре, при
пышном дворе Лузиньянов, китайские моды (обувь с заостренными
носами, высокие женские прически с рогами и
т.
д.) —моды, вызываю-
рии». И далее (с. 295) он напишет придуманное им слово «геоистория».
Сказано хорошо, хотя и тяжеловато.
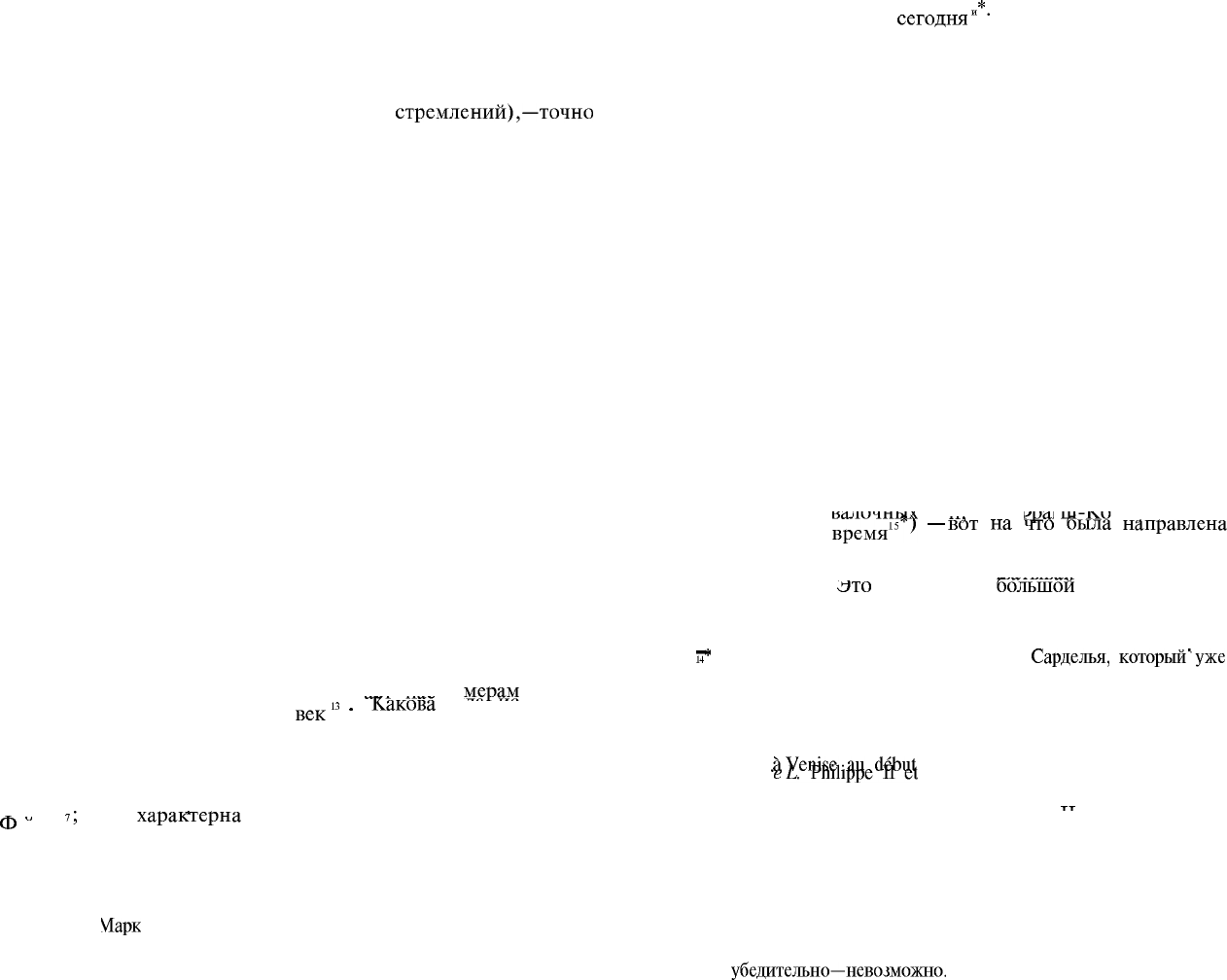
182
Люсъен Февр. Вой за историю
Средиземное море и средиземноморский Мир
183
которую он описывает,— это не вневременная среда. Это среда,
которую Средиземное море создает для человеческих объедине-
ний XVI века, или, точнее, второй половины XVI века. Точно
так же, как (да будет мне позволено вспомнить об этом в дока-
зательство преемственности замыслов и
стремлений),—точно
так же, как описание Франш-Конте в начале моей диссерта-
ции — это не Франш-Конте, зафиксированное вне времени,
в своего рода географическом постоянстве, граничащем с вечно-
стью. Это среда, в которой в XVI веке развивались человече-
ские группы, сформированные ею и одновременно ее формирую-
щие.
III
Итак, первая часть — среда обитания. Вторая часть — «Кол-
лективные судьбы, единое движение» (414 с.). Самый большой
раздел книги после географического (анализ и синтез) — со-
циальный. Медленная, размеренная поступь истории. «Экономи-
ки; Общества; Цивилизации» — с таким подзаголовком начиная
с 1945 года выходят «Анналы»; главы книги Фернана Броделя
добровольно следуют этому продуманному порядку и иллюстри-
руют его.
И вот перед нами хозяйственная деятельность Средиземно-
морья — я хочу сказать, те ее виды, для которых источником
является Средиземное море, и те, что, существуя в местностях,
л той или иной степени удаленных от Внутреннего моря, пыта-
ются заинтересовать обитателей его побережий своими произ-
ведениями. Исследование весьма оригинальное. Оно избавляет
нас от множества бесцветных перечислений, разбитых на шко-
лярские параграфы и сводящих экономику к чему-то вроде ката-
лога товаров — наподобие тех списков, что выставлены для обо-
зрения в таможенных конторах Великобритании, дабы помочь
путешественнику составить декларацию.
Прежде всего Фернан Бродель приучает нас к
мерам,
кото-
рыми пользовался его век - XVI
век
13
'
К
акова
была
истинная
цена расстояниям в те времена, когда верховая лошадь остава-
лась самым быстрым средством передвижения? «Один из вели-
чайших шутников, каких только можно сыскать в дне пути вер-
хом на лошади»: я привожу фразу из «Сельских бесед» Ноэля
ф
~
?;
она
характерна
докг того времени. Из этого следует,
что персонаж, исследованный историком,— я имею в виду Сре-
диземное море — был гораздо больше размером, гораздо огром-
"* С единственной целью - в этот раз, как E прежде,- сказать об узах,
которые добровольно объединяют историков одного направления — я на-
помню, что
Марк
Блок в своей книге «Феодальное общество» (т. 1) по-
свящает целую главу под названием «Материальные условия н харак-
тер экономики» проблемам измерения пространства и времени в сред-
ние века.
е, чем он кажется
сегодня
Л
«Средиземное море XVI века,-
пишет Бродель,— имеет в общем те же размеры, что и во време-
на римлян. Для человека оно огромно и необъятно... Это не то
озеро, каким оно стало в XX веке. Это не улыбчивая вотчина
туристов и яхт, где всегда можно добраться до берега за не-
сколько часов... Чтобы понять, чем оно было тогда, нам нужно
раздвинуть его пространства настолько, .насколько хватит нашего
воображения» (с. 318).
Из этого следует (ибо в книге Броделя каждое замечание по
поводу предметов неодушевленных тут же влечет за собой щед-
рую и плодотворную мысль, относящуюся к людям) — из этого
следует, что управление империями XVI века ставило трудные
проблемы перед правителями. И прежде всего управление огром-
:
ной Испанской империей. Империей, которая была в те времена
колоссальным предприятием по перевозкам на суше и на море.
Можно сказать так: проблема связи. И Бродель совершенно
прав, отмечая, что история никогда не ощущала важности этого
существеннейшего аспекта испанской проблемы при том, что доб-
рая половина актов Филиппа II объясняется исключительно не-
обходимостью поддерживать связь, обеспечивать транспорт,
осуществлять необходимые перевозки денег в каждом из отда-
ленных углов его королевств. Пути, по которым передвигались
войска, денежные документы, драгоценные металлы, непрерыв-
ый круговорот (мощь которого я почувствовал в одной из
главных перевалочных зон, во Франш-Конте, и она поразила
меня в свое
время
15
^
~
вот на
*°
б
ыла
нап
р
а
влена
«добрая
половина» политической деятельности Осторожного короля,
и Бродель объясняет ее с захватывающей ясностью и убеди-
16*.
ато
История с
большой
оуквы, и это поистине
тельностью
возведение Пространства в ранг действующего лица Истории.
м'"
Весьма достойно сожаления, что П.
Сарделья,
который'уже
много лет
пишет замечательный труд о расстояниях и скоростях в начале XVI ве-
ка, еще не опубликовал его; он окончательно объяснит эти вопросы.
Можно испытать предвкушение, прочитав со всем вниманием, какого
она заслуживает, статью Сардельи «Экономическая роль новостей в
I
Z^nilip'iJedfM
fefFMibhe-Comte. P., 1912. Ch. 25: La Franche-
„
я
Comté exploitée et sacrifiée. P. 744-745.
TT
* «Жить в воображении подле Филиппа II - это значит постоянно дер-
жать в мыслях (не правильнее ли было бы: „промерять"?) Францию,
это пространство, занимающее промежуточное положение (Францию,
про которую Антонио Перес писал, что она — сердце владений Филип-
па II); это значит - научиться разбираться в организации и снаряже-
нии французской почты, научиться распознавать в возобновившемся
движении курьеров помехи, создававшиеся то здесь, то там нашими
религиозными войнами». И все, что написано далее относительно «ис-
панской медлительности». Сказать более проницательно, более ярко в
убедительно—невозможно.
