Гуревич А.Я. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир
Подождите немного. Документ загружается.


95. D'Alverni M.-Th. Le cosmos symbolique du XHe
siecle // Arch, d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age,
1954, 28.
96. Anthologie poetique francaise. Moyen Age. 1. P.,
1967.
97. Antiqui und Moderni // MM, 1974, 9.
98. Aries Ph. L'Enfant et la Vie familiale sous l'Ancien
Regime. P., 1973.
99. Aries Ph. L'homme devant la mort. P., 1977.
100. Baldwin J. W. The Medieval Theories of the Just
Price. Philadelphia, 1959.
101. Bandmann G. Mittelalterliche Architektur als
Bedeutungstrager. В., 1951.
102. Beck H. Philologische Bemerkungen zu einigen
Rechtswortern des Mittelalters // Antiquitates Indogermanicae.
Innsbruck, 1974.
103. Beumann H. Topos und Gedankengefuge bei Einhard
// Archiv fur Kulturgeschichte, 33, Bd 3. Hamburg, 1951.
104. Beuys B. Familienleben in Deutschland. Hamburg,
1980.
105. Biese A. Die Entwicklung des Naturgefuhls im
Mittelalter und in derNeuzeit. Leipzig, 1988.
106. Block M. Seigneurie franchise et manoir anglais. P.,
1960.
107. Block M. La societe feodale. P., 1968. Ed. 1.
1939/40.
108. Borst A. Lebensformen im Mittelalter. Frankfurt a.
M.; В., 1973.
109. Bosl K. Fruhformen der Gesellschaft im
mittelalterlichen Europa. Munclien; Wien, 1964.
110. Bosl K. Das Problem der Armut in der
hochmittelalterlichen Gesellschaft // Osterreichische Akademie
der Wiss. Philos.-hist. Kl. Sitzungsberichte. 294. Bd 5. Abh.
Wien, 1974.
111. Bosl K. Gesellschaftswandel, Religion und Kunst im
hohen Mittelalter // Bayerische Akademie der Wiss. Philos.-hist.
Kl. Sitzungsberichte, H.2. Miinchen, 1976.
112. Bost K. Europa im Aufbruch. Herrschaft,
Gesellschaft, Kultur vom 10. bis zum 14. Jahrhundert. Miinchen,
1980.
113. Brandt W.J. The Shape of Medieval History. Studies
in Modes of Perception. New Haven; L., 1966.
114. V. den Brincken A.-D. «...ut describeretur universus
orbis». Zur Universalkartogra-phie des Mittelalter // MM, 1 970,
7.
115. Brown P. The Cult of the Saints. Chicago, 1981.
1 16. De Bruyne E. Etudes d'esthetique medievale.
Brugge, 1946.
117. Carozzi C. De l'enfance a la maturite: etude d'apres
les vies de Geraud 1'Aurillac et d'Odon de Cluny // Etudes sur la
sensibilhe. P., 1979.
118. Le Charivari. P.; La Haye; N.Y., 1981.
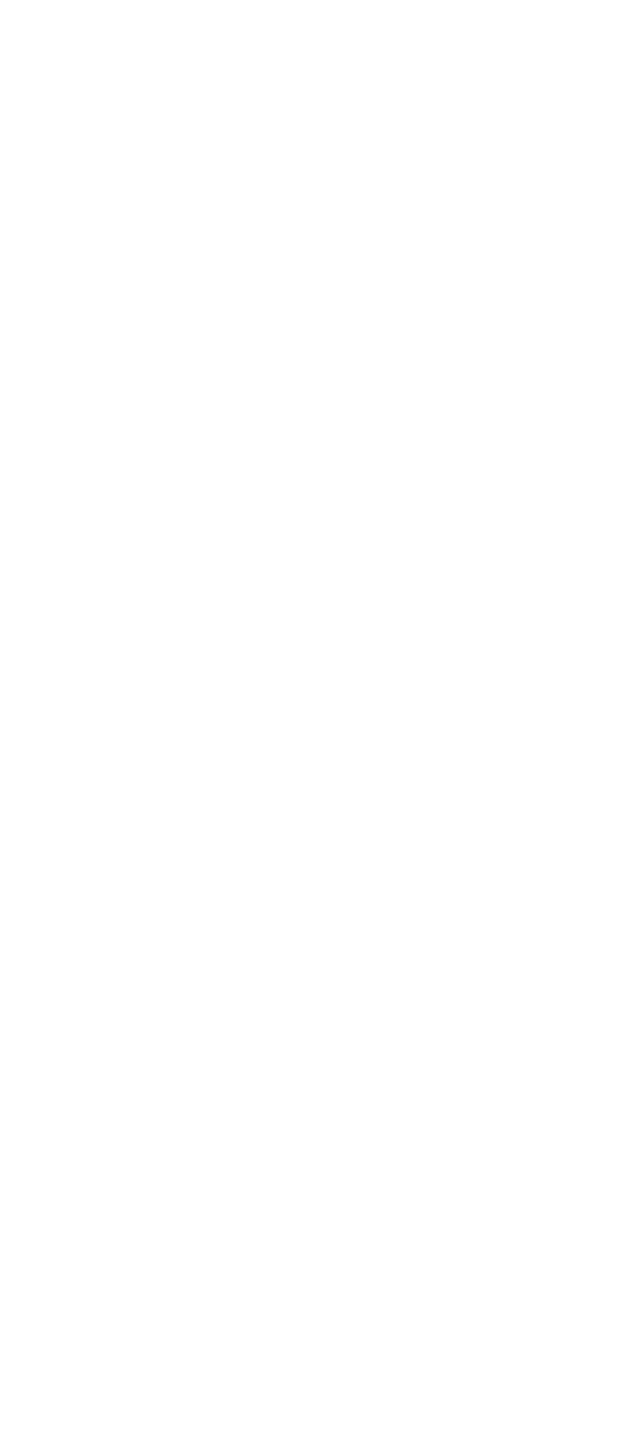
119. Chenu M.-D. L'homme et la nature //Arch, d'histoire
doctrinale et litteraire du Moyen Age, 1953, 27.
120. Chenu M.-D. La theologie au douzieme siecle. P.,
1957.
121. Clanchv M. T. From Memory to Written Record.
England, 1066 — 1307. Cambridge (Mass.), 1979.
122. Cohn N. The Pursuit of the Millenium. L., 1970.
123. Curtius E. R. Europaische Literatur und lateinisches
Mittelalter. 8. Aufl. Bern; Munchen, 1973.
124. Davis N. Z. Society and Culture in Early Modern
France. Stanford, 1975.
125. Delumeau J. Le developpement de l'esprit
d'organisation et de la pensee methodique dans la mentalite
occidentale a l'epoque de la Renaissance // ХIII
e
congres
international des sciences historiques. Moscou, 1970.
126. Deluz C. Sentiment de la nature dans quelques recits
de pelerinage du XIV
е
siecle // Etudes sur la sensibilite. P., 1979.
127. Dempf A. Sacrum Imperium. Geschichts- und
Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen
Renaissance. Munchen; В., 1929.
128. Dе Roover R. The Rise and Decline jf the Medici
Bank 1397—1494. Cambridge (Mass.), 1963.
129. De Roover R. San Bernardino of Siena and
Sant'Antonino of Florence: the Two Great Economic Thinkers of
the Middle Ages. Boston, 1967.
130 Dinzelbacher P. Reflexionen irdischer
Sozialstrukturen in mittelalterlichen Jeneseitsschilderungen //
Arch, fur Kulturgeschichte, 1 979, Bd 61, H. 1 .
131. Dinzelbacher P Klassen und Hierarchien in Jenseits
// MM, 1979, 12/1.
132. V. Dollinger I. (hrsg.). Beitrage zur
Sektengeschichite des Mittelalters. Bd 2, Munchen, 1890.
133. Duby G. L'Ara Mil. P., 1967.
134. Duby G. Homines et structures du Moyen Age. P.; La
Haye, 1973.
135. Duby G. Le Temps des cathedrales. L'art et la societe
980—1420. P., 1976.
136. Duby G. Lestrois ordres ou l'imaginaire du
feodalisme. P., 1978.
137. Dupront A. Espace et humanisme // Bibliotheque
d'hunianismeetRenaissance Т 8P., 1946.
138. Edsman C.-M. Arbor inversa. Heiland, Welt und
Mensch als Himmelspflanzen. _ Festschrift Walter Baetke.
Weimar, 1966.
139. Elias N. Uber den ProzeB der Zivilisation.
Soziogenetische und psychogenetiscfhe Untersuchungen. Bd 1—
2. Frankfurt a. M., 1981—1982. 1. Ausg.—1936.
140. Enfant et societes. P., 1973.
141. Erbstofier M. Sozialreligiose Stromungen im spaten
Mittelalter. В., 1970.
142. Erdmann C. Die Entstehung des
Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1965. 1. Ausg. - 1935.

143. Erickson C. The Medieval Vision: Essays in History
and Perception. N.Y., 1978.
144. Etudes sur l'histoire de la pauvrete / Sous la dir. de
M. Mollat. T. 1—2. P., 1974.
145. Faire croire. Modalites de la diffusion et de la
reception des messages religieux du XII
е
au XV
е
siecle. Rome,
1981.
146. Famille et parente dans l'Occident medieval. Rome,
1977.
147. La femme dans les civilisations des X
е
—ХIII
e
siecles
// Cahiers de civilisation medievale, XX, 1977, N 21/3.
148. Franz A. Die kirchlichen Benediktionen im
Mittelalter. Bd 1—2. Graz, 1960.
149. Freund W. Modernus und andere Zeitbegriffe des
Mittelalters. Koln; Graz, 1975.
150. Fuhrmann H. Die Falschungen im Mittelalter.
Uberlegungen zum mittelalterhchen Wahrheitsbegriff // HZ,
1963, 97.
151. Funkenstein A. Heilsplan und natiirliche
Entwicklung. Formen der Gegenwartsbe-stimmung im
Geschichtsdenken des hohen Mittelalters. Munchen, 1965.
152. Ganzenmuller W. Des Naturgefuhl im Mittelalter.
Leipzig; В., 1914.
153. Geremek B. Wyobraznia czasowa polskiego
dziejopisarstwa sredniowiecznego // Stadia zrodioznawcze
(Commentationes), Warszawa; Poznan, 1977, 22.
154. Geremek В. Fabula, konwencja i zrodlo. Utwor
literacki w badaniu kultury sredniowiecznej // Dzieto literackie
jako zrodlo historyczne. Warszawa, 1978.
155. Die Gesetze der Langobarden / Hrsg. von F. Beyerle.
Weimar, 1947.
156. Gilson E. History of Christian Philosophy in the
Middle Ages. L., 1955.
157. Gilson E. L'esprit de la philosophic medievale. P.,
1969.
158. Ginzburg C. II formaggio e i vermi. II cosmo di un
mugnaio del'500. Torino, 1976.
159. A Good Short Debate between Winner and Waster.
An Alliterative Poem on Social and Economic Problems in
England in the year 1352 / Ed. by I. Gollancz. Oxford, 1930.
160. Gragas / Hrsg. von A. Heusler. Weimar, 1937.
161. Graus F. Lebendige Vergangenheit. Oberlieferung
im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter. Koln;
Wien, 1975.
162 Grav U. Das Bild des Kindes im Spiegel der
altdeutschen Dichtung und Literatur. Frankfurt a. ML, 1973.
163 Grimm J. Deutsche Rechtsalterthiimer. Bd 1. В.,
1956.
164 Gruenter R. Zum Problem der Landschaftsdarstellung
im hofischen Dichtung. Zurich, 1950.
165. Grundmann H. Geschichtsschreibung im Mittelalter.
Gottingen, 1965.

166 Gsteiger M. Die Landschaftsschilderungen in den
Romanen Chrestienis de Troyes. Bern, 1958.
167. Guenee B. Histoire et culture historique dans Г
Occident medieval. P., 1980.
168. Hahn I. Raum und Landschaft in Gottfrieds Tristan.
Miinchen, 1963.
169. Harming R. W. The Visiom of History in Early
Britain. N.Y.; L., 1966.
170. Harms W. Homo viator in bivio. Munchen, 1970.
171. Hattenhauer H. Zur Autoritat des germanisch-
mittelalterlichen Rechts. — ZSSR, GA,1966,Bd83.
172. Herlihy D. The Generation in Medieval History //
Viator, Medieval and Renaissance Studies. Vol. 5. Berkeley; Los
Angeles; L., 1974.
173. Hilton R. H. Rent and Capital Formation in Feudal
Society // Deuxieme conference internationale d'histoire
economique. Vol. 2. P.; La Haye, 1965.
174. Hinterkausen S. Die Auffassung von Zeit und
Geschichte in Konrads Rolandslied. Bonn, 1967.
175. L'homme et son destin d'apres les penseurs du
Moyen Age. Louvain; P., 1960.
176. Huizinga J. Le Declin du Moyen Age. P., 1948.
177. Jacoby M. Wargus, vargr. «Verbrecher», «Wolf».
Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Uppsala,
1974.
178. Jeauneau E. Nains et geants // Entretien sur la
Renaissance du 12
e
siecle. P. ; La Haye, 1968.
179. Jouon des Longrais F. L'Est et 1'Ouest. Institutions
du Japon et de 1'Occident comparees. Tokyo; P., 1958.
180. Kern F. Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im
friiheren Mittelalter. Leipzig, 1914.
181. Kern F. Recht und Verfassung im Mittelalter // HZ, 1
9 1 9, Bd 1 20.
182. King Alfred's Orosius / Ed. by H. Sweet. L., 1883.
183. Kirchenbauer L. Raumvorstellungen in
fruhmittelhochdeutschen Epik. Heidelberg, 1931.
184. Klinkenberg H.M. Die Theorie der Veranderbarkeit
des Rechtes im friihen und honen Mittelalter. — MM, 1969, 6.
185. Die Klosterregel des Heiligen Benedikt. Beuron,
1947.
186. Kobel E. Untersuchung zum gelebten Raum in der
mittelhochdeutschen Dichtune, Zurich, 1950.
187. Kobler G. Das Recht im frtihen Mittelalter. Koln;
Wien, 1971.
188. Kohler E. Troubadourlyrik und hofischer Roman. В.,
1962.
189. Kroeschell K. Recht Rechtsbegriff im 12.
Jahrhundert // Probleme des 12. Jahrhundert (Vortrage und
Forschungen, 12). Konstanz; Stuttgart, 1968.
190. Kurdzialek M. Der Mensch als Abbild des Kosmos //
MM, 1971, 8.
191. Laujfer O. Das Landschaftsbild Deutschlands im
Zeitalter der Karolinger. 1896.

192. Lefevre Y. L'Elucidarium et les Lucidaires. P., 1954.
193. Le Goff J. Les intellectuels au Moyen Age. P., 1960.
194. Le Goff J. La Civilisation de 1'Occident medieval. P.,
1965.
195. Le Goff J. Pour un autre Moyen Age. Temps, travail
et culture en Occident. P., 1977.
196. Le Goff J. Les trois functions indoeuropeennes:
L'historien et 1'Europe feodale // Annales. E. S. C., 1979, 34, N6.
197. Le Goff J. La naissance du Purgatoire. P., 1981.
198. Leisi E. Aufschlussreiche altenglische Wortinhalte //
Sprache-Schlussel zur Welt Dusseldorf, 1959.
199. Le Roy LadurieE. Montaillou, village occitan de
1294 a 1324. P., 1975.
200. Liebermann F. Die Gesetze der Angelsachsen. I.
Halle a. S., 1898.
201. Von derLuhel., Rocke W. Standekritische Predigt des
Spatmittelalters am Beispiel Bertholds von Regensburg //
Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften, 5. Literafur im
Feudalismus. Stuttgart, 1975.
202. Meister Eckharts Predigten / Hrsg. von J. Quint.
Stuttgart, 1958.
203. Male E. L'art religieux du XIII
е
siecle en France. P.,
1925.
204. Manselli R. La religion populaire au Moyen Age.
Montreal; P., 1975.
205. Manteuffel T. Naissance d'une heresie. P.; La Haye,
1970.
206. Marrou H.-I. L'ambivalence du temps de 1'histoire
chez Saint Augustin. Montreal; P., 1950.
207. Mauss M. Essai sur le don // Mauss M. Sociologie et
anthropologie. P., 1950.
208. Melville G. System und Diachronie. Untersuchungen
zur theoretischen Grundlegung geschichtsschreiberischer Praxis
im Mittelalter // Historisches Jahrbuch. 1975, 95.
209. Menard Ph. Le temps et la duree dans les romans de
Chretien de Troyes. // MA, i 967. T. 73. N 3/4.
210. Misch G. Geschichte der Autobiographic, Bde 2—3.
Frankfurt a. M., 1951—1970.
211. Mollat M. Les pauvres au Moyen Age. P., 1978.
212. La morale de 1'histoire // MA, 1963. T. 69.
213. Mumford L. Technics and Civilization. N.Y., 1963.
214. Needham J. Time and Eastern Man. Glasgow, 1965.
215. Noonan J. T. The Scholastic Analysis of Usury.
Cambridge (Mass.), 1975.
216. Oexle O.G. Memoria und Memorialiiberlieferung im
fruheren Mittelalter // Fm. St., 1976, Bd 10.
217. Oexle O. G. Die funktionale Dreiteilung der
«Gesellschaft» bei Adalbero von Laon. Deutungsschemata der
sozialen Wirklichkeit im fruheren Mittelalter // Fm. St., 1978, Bd
12.
218. Oexle O.G. Forschungen zu monastischen und
geistlichen Gemeinschaften im west-frankischen Bereich.
Miinchen, 1978.

219. Ohly F. Die Kathedrale als Zeitenraum // Fm. St.,
1972, Bd 6.
220. Ottonis ep. Frisingensis Chronica / Hrsg. von W.
Lammers. В., 1960.
221. Panofsky E. Gothic Architecture amd Scholasticism.
N.Y., 1957.
222. Panofsky E. Die Perspektive als symbolische Form //
Aufsatze zu Grundfragen der {Cunstwissenschaft. В., 1961.
223 Die Parler und der schone Stil 1350—1400.
Europaische Kunst unter den Luxemburgern. Koln, 1978.
224. Pickarczyk St. Barbarzyricy i chrzescijanstwo.
Warszawa, 1968.
225. Post G., Giocarinis K., Kay R. The Medieval
Heritage of a Humanist Ideal: «scientia donum dei est, unde
vendi non potest» // Traditio. 1955. Vol. 11, N 4.
226. Reformation Kaiser Sigismunds / Hrsg. von A.
Keller. Stuttgart, 1964.
227. Ruberg U. Raum und Zeit im Prosa-Lancelot.
Munchen, 1965.
228. Rustringer Recht / Hrsg von W. J. Buma und W.
Ebel // Altfriesische Rechtsquellen, Bd 1. Gottingen; В.;
Frankfurt, 1963.
229. Sacchetti Franco, Opere. Vol. 1. Firenze, 1857.
230. Samsonowicz H. La conception de 1'espace dans la
cite medievale // Questiones Medii Aevi. Vol. 1. Warszawa,
1977.
231. Samsonowicz H. Das Verhaltnis zum Raum bei den
hansischen Burgern im Mittelalter // Hansische Geschichtsblatter,
1977, 95.
232. Sapori A. Le marchand italien au Moyen Age. P.,
1952.
233. Sauer J. Symbolik des Kirchengebiudes und seiner
Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Freiburg, 1924.
234. Schmid K. Uber das Verhaltnis von Person und
Gemeinschaft im fruheren Mittelalter // Fm. St., 1967,Bdl.
235. Schmid K. Die ErschlieBung neuer Quellen zur
mittelalterlichen Geschichte // Fm. St., 1981, Bd 15.
236. Schmid K., Wollasch J. Die Gemeinschaft der
Lebenden und Verstorbenen in Zeugnissen der Mittelalters // Fm.
St., 1967, Bd 1.
237. Schmid K., Wollasch J. Societas et Fraternitas //Fm.
St., 1975, Bd 9.
238. Schmitt J.-C. Le saint levrier. Guinefort, guerisseur
d'enfants depuis le XIIIе siecle. P., 1979.
239. Schoebe G. Was gilt im friihen Mittelalter als
geschichtliche Wirklichkeit? Ein Versuch zur Kirchengeschichte
des Baeda venerabilis // Festschrift Hermann Aubin, Bd 2.
Wiesbaden, 1965.
240. Sigal P.-A. Pauvrete et charite aux ХIe et ХIIe siecle
d'apres quelques textes hagiographiques // Etudes sur 1'histoire de
la pauvrete. T. 1. P., 1974.
241. Silvestre H. Le probleme des faux au Moyen Age //
MA, 1960. T. 66.

242. Simboli e simbologia nell'alto medioevo. (Settimane
di studio del Centre ital. di studi sull'alto medioevo, 23). T. 1—2.
Spoleto, 1976.
343. Sporl J. Grundformen hochmittelalterlicher
Geschichtsanschauung. Studien zum Weltbild der
Geschichtsschreiber des 12. Jahrhunderts. Munchen, 1935.
344. Sprandel R. Mentalitaten und Systeme. Zugange zur
mittelalterlichen Geschichte. btu«gart, 1972.
345. Stahleder H. Arbeit in der mittelalterlichen
Gesellschaft. Munchen, 1972.
346. The Status of the Individual in East and West / Ed.
by Ch. A. Moore. Honolulu, 1968.

247. Steinhof H.-H. Die Darstellunggleichzeitiger
Geschehnisse im mittelhochdeutscheti Epos. Munchen, 1964.
248. Stelling-Michaud S. Quelques aspects du probleme
du temps au Moyen Age // Schweizer Beitrage zur allgemeinen
Geschichte, Bd 17. Bern, 1959.
249. Stockmaver G. Uber Naturgefuhl in Deutschland im
10. und 11. Jahrhundert. Leipzig; В., 1910.'
250. Strom A. V. The King God and his Connection with
Sacrifice in Old Norse Religion // La Regalita sacra. Leiden,
1959.
251. Sumption J. Piligrimage: an Image of Mediaeval
Religion. Totowa; N.Y., 1976.
252. Sverris isaga / Udg. ved G. Indrebe. Kristiainia,
1920.
253. Tellenbach G. Church, State and Christian Society at
the Time of the Investiture Contest. Oxford, 1940.
254. Theuerkauf G. Lex, Speculum, Compendium Juris.
Rechtsaufzeichnung und Rechtsbewufitsein in Norddeutschland
vom 8. bis 16. Jahrhundert. Koln; Graz, 1968.
255. Thietmari Merseburgensis Chronicon. В., s. d.
256. Thomas K. Work and Leisure in Pre-Industrial
Society // Past and Present, 1964, N29.
256. Tonnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. В., 1926.
257. Topfer B. Das kommende Reich des Friedens. В.,
1964.
258. Troeltsch E. Die Soziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen. Tubingen, 1919.
259. Tschirch F. Das Selbstverstandnis des
mittelalterlichen deutschen Dichters // MM, 1964, 3.
260. Ullmann W. Individual and Society in the Middle
Ages. Baltimore, 1966.
261. Ullmann W. Law and Politics in the Middle Ages.
Cambridge, 1973.
262. Vinzenz van Lerinum. Commonitorium / Hrsg. von
D. A. Julicher. Freiburg in Breisgau; Leipzig, 1895.
263. Vovelle M. Encore la mort: un peu plus qu'une
mode? // Annales. E. S. C, 1982, 37, N2.
264. Wallace-Hadrill J. M. Gregory of Tours and Bede:
their views on the personal qualities of kings //Fm. St., 1968, Bd
2.
265. Walter Map. De nugis curialium / Ed. by M. R.
James. Oxford, 1914.
266. Werner E. Pauperes Christi. Studien zu sozial-
religiosen Bewegungen im Zeitalter j des Reformpapsttums.
Leipzig, 1956.
267. Widmer B. Heilsordnung und Zeitgeschehen in der
Mystik Hildegards von Bingen. Basel; Stuttgart, 1955.
268. Wolff Ph., Mauro F. Histoire generale du travail, 2.
P., 1960.
269. Wollasch J. GemeinschaftsbewuBtsein und soziale
Leistung im Mittelalter // Fm. St., 1975, Bd 9.

270. Zeitler R. Om manniskoframstallningen i medeltida
konst // Nathan Soderblom-sallskapets arsbok Religion och
Bibel, 1974, 33.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МИР:
КУЛЬТУРА БЕЗМОЛСТВУЮЩЕГО
БОЛЬШИНСТВА
Введение
Средние века — понятие не столько хронологическое,
сколько содержательное. Стало обычным и как бы
саморазумеющимся вкладывать в этот термин некий
ценностный смысл: «отсталое», «реакционное»,
«нецивилизованное», «проникнутое духом клерикализма».
Но еще в минувшем столетии было справедливо сказано:
быть либеральным на счет средневековая очень удобно. При
этом грехи своего собственного времени списываются со
счета, выдаются за пережитки другой эпохи. Эта традиция
восходит к гуманистам и просветителям. Средневековье
давало своего рода моральное алиби современности. Правда,
этой традиции противостояла другая: романтизировать
средневековье, искать в нем утраченные впоследствии
доблести или красочную экзотику. В этом случае
средневековье использовалось как укор Новому времени,
уже лишенному былой нравственной цельности. Оба
подхода сближает склонность подводить все богатство и
многообразие огромной по протяженности эпохи под
единый знаменатель, давать ей однозначное ценностное
определение. В этом унифицирующем стремлении — порок
обоих подходов.
Возможно ли его избежать? Разумеется, история
относится к наукам нравственным, и элиминировать
полностью собственную оценку предмета своих изысканий
историкам не дано. Но они способны в какой-то мере
контролировать свою научную позицию. Альтернативой
субъективистской операции «вживания» в другую
человеческую культуру, «приобщения» к мысли людей,
живших в прошлом, является позиция «вненаходимости»
исследователя, понимание им того, что он изучает эту
другую культуру, находясь вне ее. Он отделен от предмета
своих наблюдений как временем, так и по существу, — он
принадлежит к другому ментальному универсуму, с иным
историческим опытом, с собственной перспективой.
Позиция «вненаходимости» имеет предпосылкой понимание
того, что исследователь вступает в интеллектуальное
общение с людьми, мысли, чувства и картина мира которых
загадка для него; задача историка — по возможности эту
загадку разгадывать. Не произвольное чтение чужих
взглядов, но трудоемкая дешифровка дошедших до нас
посланий, требующее огромных усилий прочтение
иероглифов другой, во многом уже чуждой нам культуры —
подобная установка в известной мере могла бы
предотвратить поспешные обобщения, тенденциозность и
одностороннюю предвзятость суждений.
Именно позиции «вненаходимости» наблюдателя —
ее обоснование дано М.М. Бахтиным — и стремится
