Кремлев Ю. Жюль Массне
Подождите немного. Документ загружается.

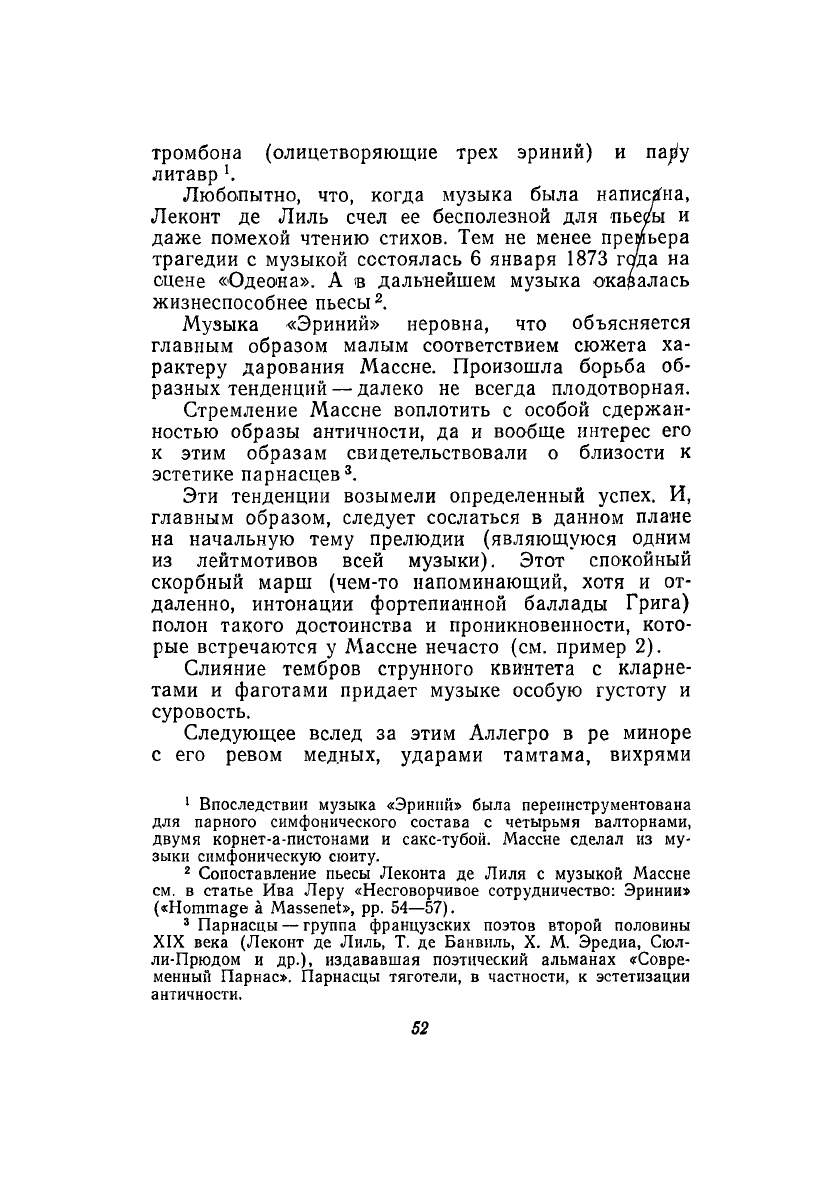
тромбона (олицетворяющие трех эриний) и па^у
литавр
Любопытно, что, когда музыка была написана,
Леконт де Лиль счел ее бесполезной для <пьеш и
даже помехой чтению стихов. Тем не менее премьера
трагедии с музыкой состоялась 6 января 1873 года на
сцене «Одеона». А в дальнейшем музыка оказалась
жизнеспособнее пьесы
2
.
Музыка «Эриний» неровна, что объясняется
главным образом малым соответствием сюжета ха-
рактеру дарования Массне. Произошла борьба об-
разных тенденций— далеко не всегда плодотворная.
Стремление Массне воплотить с особой сдержан-
ностью образы античности, да и вообще интерес его
к этим образам свидетельствовали о близости к
эстетике парнасцев
3
.
Эти тенденции возымели определенный успех. И,
главным образом, следует сослаться в данном плане
на начальную тему прелюдии (являющуюся одним
из лейтмотивов всей музыки). Этот спокойный
скорбный марш (чем-то напоминающий, хотя и от-
даленно, интонации фортепианной баллады Грига)
полон такого достоинства и проникновенности, кото-
рые встречаются у Массне нечасто (см. пример 2).
Слияние тембров струнного квинтета с кларне-
тами и фаготами придает музыке особую густоту и
суровость.
Следующее вслед за этим Аллегро в ре миноре
с его ревом медных, ударами тамтама, вихрями
1
Впоследствии музыка «Эриний» была переинструментована
для парного симфонического состава с четырьмя валторнами,
двумя корнет-а-пистонами и сакс-тубой. Массне сделал из му-
зыки симфоническую сюиту.
2
Сопоставление пьесы Леконта де Лиля с музыкой Массне
см. в статье Ива Леру «Несговорчивое сотрудничество: Эринии»
(«Hommage a Massenet», pp. 54—57).
3
Парнасцы — группа французских поэтов второй половины
XIX века (Леконт де Лиль, Т. де Банвиль, X. М. Эредиа, Сюл-
ли-Прюдом и др.), издававшая поэтический альманах «Совре-
менный Парнас». Парнасцы тяготели, в частности, к эстетизации
античности.
52
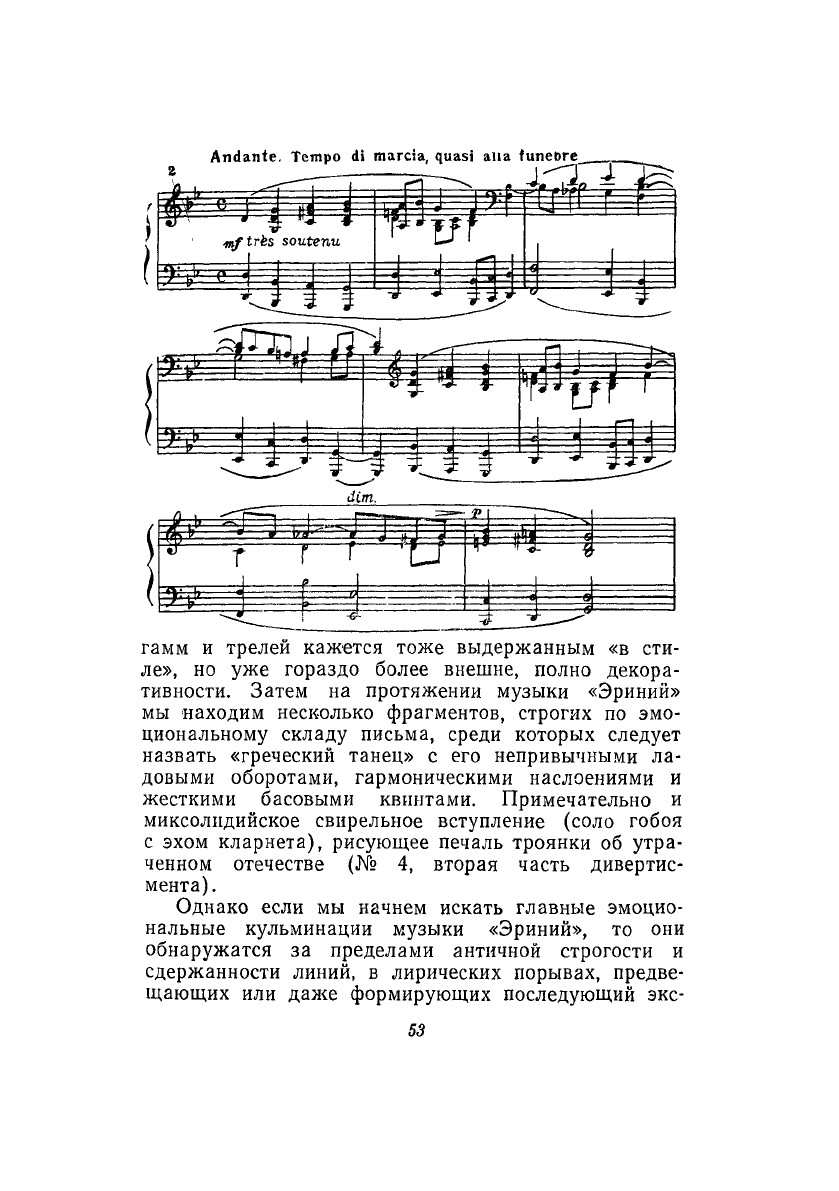
гамм и трелей кажется тоже выдержанным «в сти-
ле», но уже гораздо более внешне, полно декора-
тивности. Затем на протяжении музыки «Эриний»
мы находим несколько фрагментов, строгих по эмо-
циональному складу письма, среди которых следует
назвать «греческий танец» с его непривычными ла-
довыми оборотами, гармоническими наслоениями и
жесткими басовыми квинтами. Примечательно и
миксолидийское свирельное вступление (соло гобоя
с эхом кларнета), рисующее печаль троянки об утра-
ченном отечестве (№ 4, вторая часть дивертис-
мента).
Однако если мы начнем искать главные эмоцио-
нальные кульминации музыки «Эриний», то они
обнаружатся за пределами античной строгости и
сдержанности линий, в лирических порывах, предве-
щающих или даже формирующих последующий экс-
53
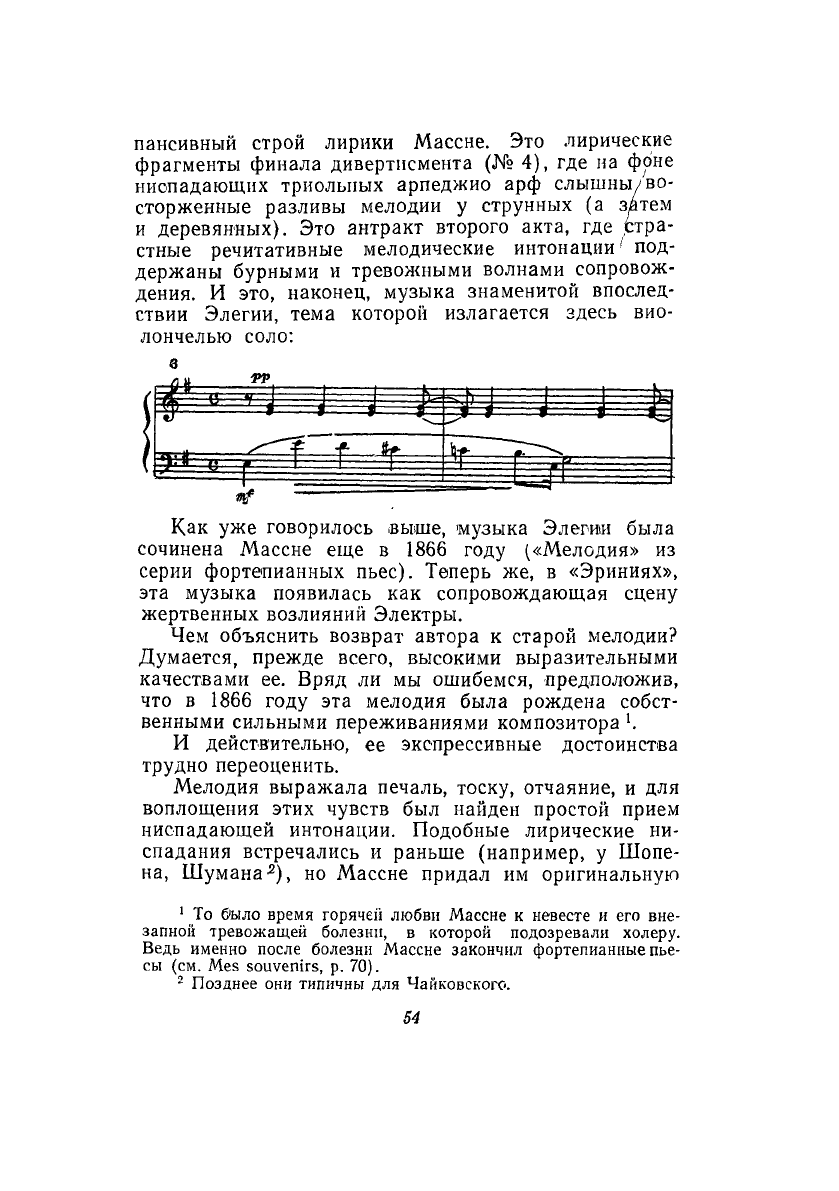
пансивный строй лирики Массне. Это лирические
фрагменты финала дивертисмента (№ 4), где на фоне
ниспадающих триольпых арпеджио арф слышны/во-
сторженные разливы мелодии у струнных (а затем
и деревянных). Это антракт второго акта, где Стра-
стные речитативные мелодические интонации
/
под-
держаны бурными и тревожными волнами сопровож-
дения. И это, наконец, музыка знаменитой впослед-
ствии Элегии, тема которой излагается здесь вио-
лончелью соло:
в
У
1 1 |1 t
щ Jt ffrp.
NJ J J Л
mf —•—
Как уже говорилось выше, музыка Элегии была
сочинена Массне еще в 1866 году («Мелодия» из
серии фортепианных пьес). Теперь же, в «Эриниях»,
эта музыка появилась как сопровождающая сцену
жертвенных возлияний Электры.
Чем объяснить возврат автора к старой мелодии?
Думается, прежде всего, высокими выразительными
качествами ее. Вряд ли мы ошибемся, предположив,
что в 1866 году эта мелодия была рождена собст-
венными сильными переживаниями композитора
1
.
И действительно, ее экспрессивные достоинства
трудно переоценить.
Мелодия выражала печаль, тоску, отчаяние, и для
воплощения этих чувств был найден простой прием
ниспадающей интонации. Подобные лирические ни-
спадания встречались и раньше (например, у Шопе-
на, Шумана-
2
), но Массне придал им оригинальную
1
То б'ыло время горячей любви Массне к невесте и его вне-
запной тревожащей болезни, в которой подозревали холеру.
Ведь именно после болезни Массне закончил фортепианные пье-
сы (см. Mes souvenirs, p. 70).
2
Позднее они типичны для Чайковского.
54
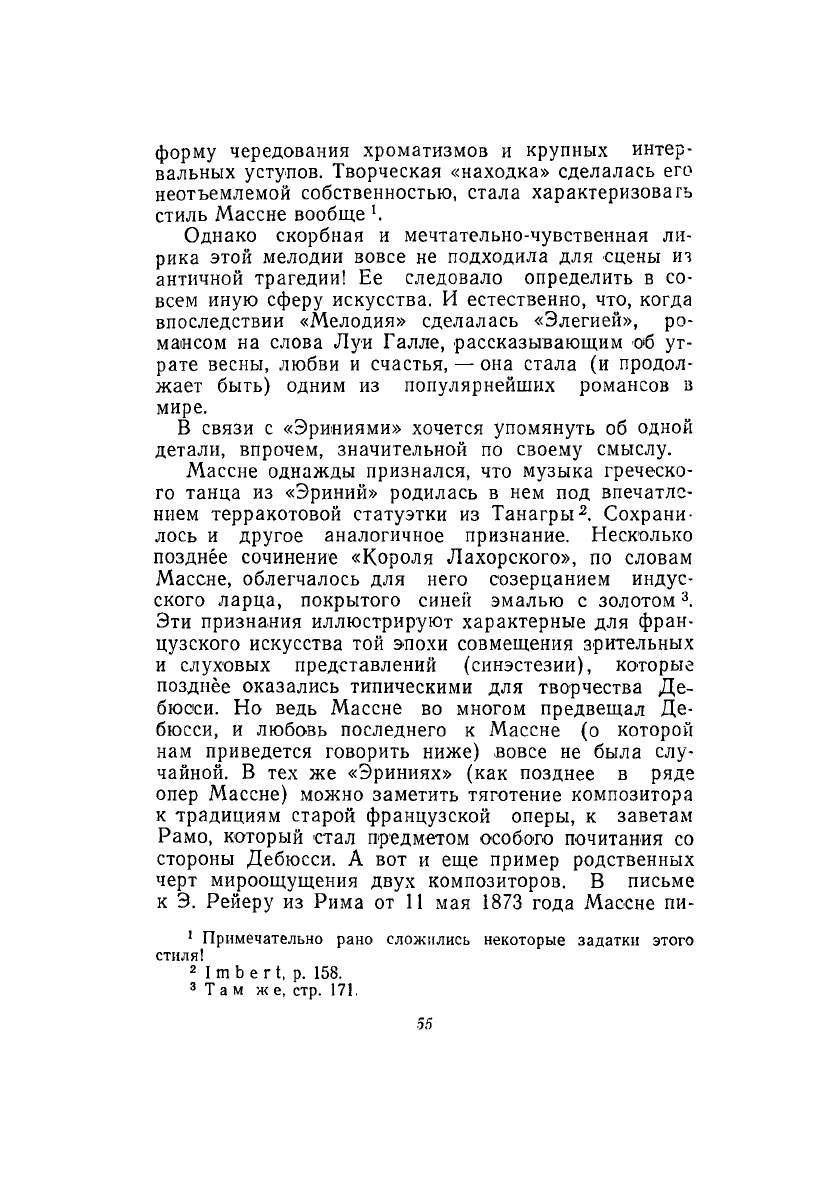
форму чередования хроматизмов и крупных интер-
вальных уступов. Творческая «находка» сделалась его
неотъемлемой собственностью, стала характеризовать
стиль Массне вообще
К
Однако скорбная и мечтательно-чувственная ли-
рика этой мелодии вовсе не подходила для сцены из
античной трагедии! Ее следовало определить в со-
всем иную сферу искусства. И естественно, что, когда
впоследствии «Мелодия» сделалась «Элегией», ро-
мансом на слова Луи Галле, рассказывающим о'б ут-
рате весны, любви и счастья, — она стала (и продол-
жает быть) одним из популярнейших романсов в
мире.
В связи с «Эриниями» хочется упомянуть об одной
детали, впрочем, значительной по своему смыслу.
Массне однажды признался, что музыка греческо-
го танца из «Эриний» родилась в нем под впечатле-
нием терракотовой статуэтки из Танагры
2
. Сохрани-
лось и другое аналогичное признание. Несколько
позднее сочинение «Короля Лахорского», по словам
Массне, облегчалось для него созерцанием индус-
ского ларца, покрытого синей эмалью с золотом
3
.
Эти признания иллюстрируют характерные для фран-
цузского искусства той эпохи совмещения зрительных
и слуховых представлений (синэстезии), которые
позднее оказались типическими для творчества Де-
бюсси. Но ведь Массне во многом предвещал Де-
бюсси, и любовь последнего к Массне (о которой
нам приведется говорить ниже) вовсе не была слу-
чайной. В тех же «Эриниях» (как позднее в ряде
опер Массне) можно заметить тяготение композитора
к традициям старой французской оперы, к заветам
Рамо, который стал предметом особого почитания со
стороны Дебюсси. А вот и еще пример родственных
черт мироощущения двух композиторов. В письме
к Э. Рейеру из Рима от 11 мая 1873 года Массне пи-
1
Примечательно рано сложились некоторые задатки этого
стиля!
2
I
m b
е
г
t, р. 158.
3
T а м же, стр. 171.
55
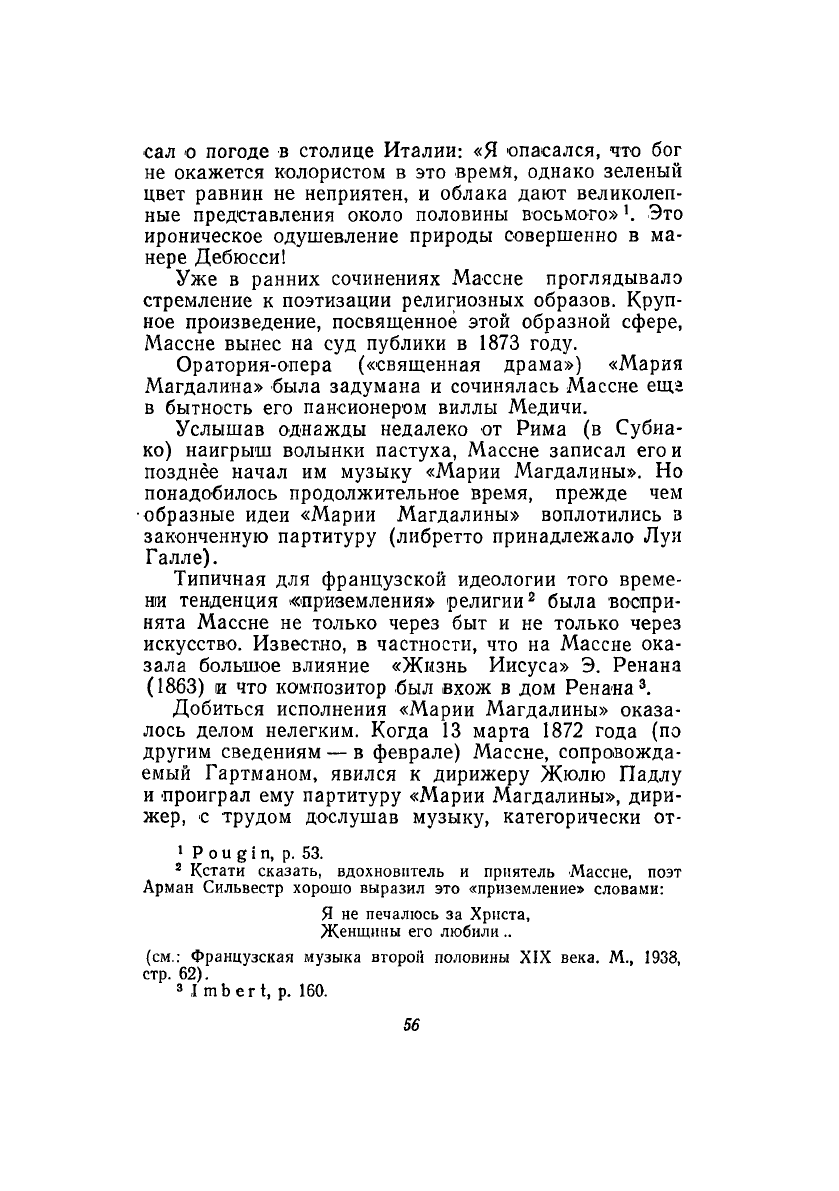
сал -о погоде в столице Италии: «Я опасался, что бог
не окажется колористом в это время, однако зеленый
цвет равнин не неприятен, и облака дают великолеп-
ные представления около половины восьмого»
1
. Это
ироническое одушевление природы совершенно в ма-
нере Дебюсси!
Уже в ранних сочинениях Массне проглядывало
стремление к поэтизации религиозных образов. Круп-
ное произведение, посвященное этой образной сфере,
Массне вынес на суд публики в 1873 году.
Оратория-опера («священная драма») «Мария
Магдалина» была задумана и сочинялась Массне еще
в бытность его пансионером виллы Медичи.
Услышав однажды недалеко от Рима (в Субиа-
ко) наигрыш волынки пастуха, Массне записал его и
позднее начал им музыку «Марии Магдалины». Но
понадобилось продолжительное время, прежде чем
•образные идеи «Марии Магдалины» воплотились в
законченную партитуру (либретто принадлежало Луи
Галле).
Типичная для французской идеологии того време-
ни тенденция ««приземления» религии
2
была воспри-
нята Массне не только через быт и не только через
искусство. Известно, в частности, что на Массне ока-
зала большое влияние «Жизнь Иисуса» Э. Ренана
(1863) и что композитор был .вхож в дом Ренана
3
.
Добиться исполнения «Марии Магдалины» оказа-
лось делом нелегким. Когда 13 марта 1872 года (по
другим сведениям — в феврале) Массне, сопровожда-
емый Гартманом, явился к дирижеру Жюлю Падлу
и -проиграл ему партитуру «Марии Магдалины», дири-
жер, с трудом дослушав музыку, категорически от-
1
Р о u g i n, p. 53.
2
Кстати сказать, вдохновитель и приятель Массне, поэт
Арман Сильвестр хорошо выразил это «приземление» словами:
Я не печалюсь за Христа,
Женщины его любили..
(см.: Французская музыка второй половины XIX века. М., 1938,
стр. 62).
3
I mbert, р. 160.
56
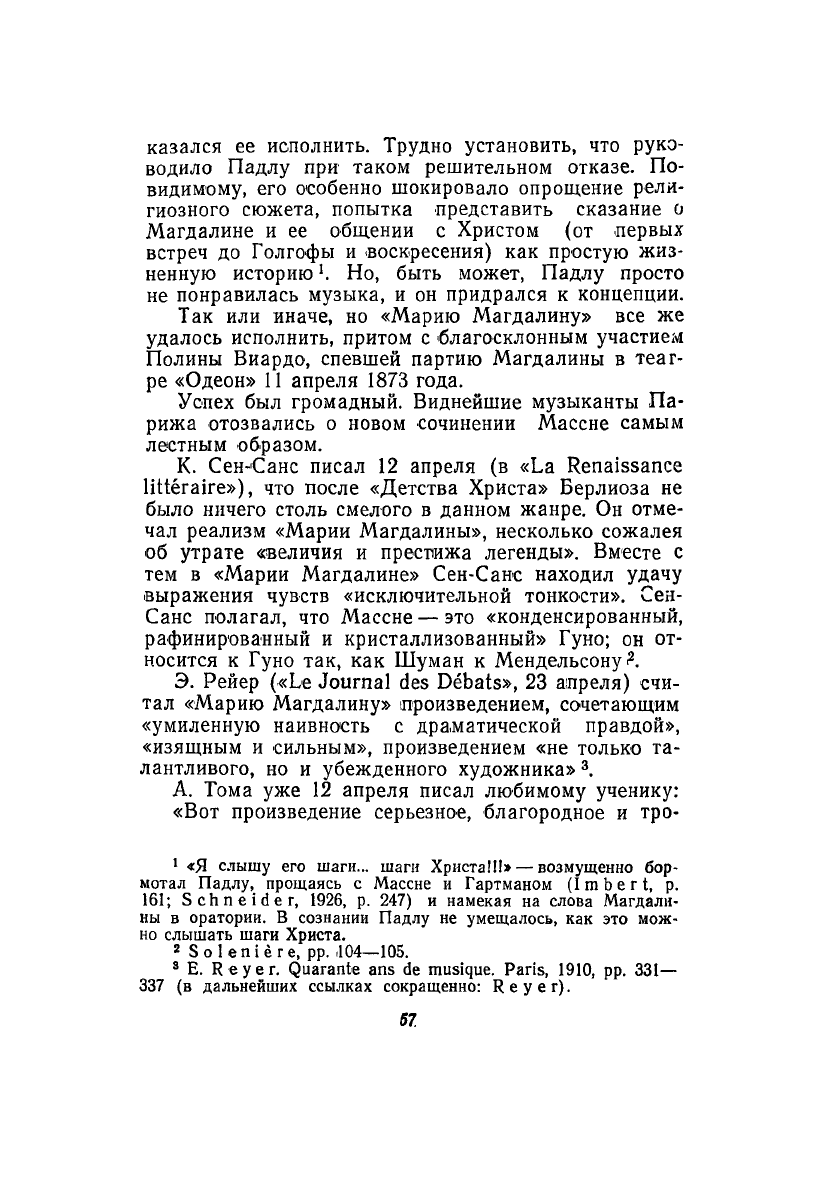
казался ее исполнить. Трудно установить, что руко-
водило Падлу при таком решительном отказе. По-
видимому, его особенно шокировало опрощение рели-
гиозного сюжета, попытка представить сказание о
Магдалине и ее общении с Христом (от первых
встреч до Голгофы и воскресения) как простую жиз-
ненную историю Но, быть может, Падлу просто
не понравилась музыка, и он придрался к концепции.
Так или иначе, но «Марию Магдалину» все же
удалось исполнить, притом с благосклонным участием
Полины Виардо, спевшей партию Магдалины в теат-
ре «Одеон» 11 апреля 1873 года.
Успех был громадный. Виднейшие музыканты Па-
рижа отозвались о новом сочинении Массне самым
лестным образом.
К. Сен-Санс писал 12 апреля (в «La Renaissance
litteraire»), что после «Детства Христа» Берлиоза не
было ничего столь смелого в данном жанре. Он отме-
чал реализм «Марии Магдалины», несколько сожалея
об утрате «величия и престижа легенды». Вместе с
тем в «Марии Магдалине» Сен-Санс находил удачу
выражения чувств «исключительной тонкости». Сен-
Санс полагал, что Массне — это «конденсированный,
рафинированный и кристаллизованный» Гуно; он от-
носится к Гуно так, как Шуман к Мендельсону
Э. Рейер («Le Journal des Debats», 23 апреля) счи-
тал «Марию Магдалину» произведением, сочетающим
«умиленную наивность с драматической правдой»,
«изящным и сильным», произведением «не только та-
лантливого, но и убежденного художника»
3
.
А. Тома уже 12 апреля писал любимому ученику:
«Вот произведение серьезное, благородное и тро-
1
«Я слышу его шаги... шаги Христа!!!» — возмущенно бор-
мотал Падлу, прощаясь с Массне и Гартманом (Imbert, р.
161; Schneider, 1926, р. 247) и намекая на слова Магдали-
ны в оратории. В сознании Падлу не умещалось, как это мож-
но слышать шаги Христа.
2
So leniere, pp. 104—105.
8
Е. R е у е r. Quarante ans de musique. Paris, 1910, pp. 331—
337 (в дальнейших ссылках сокращенно: Reyer).
57
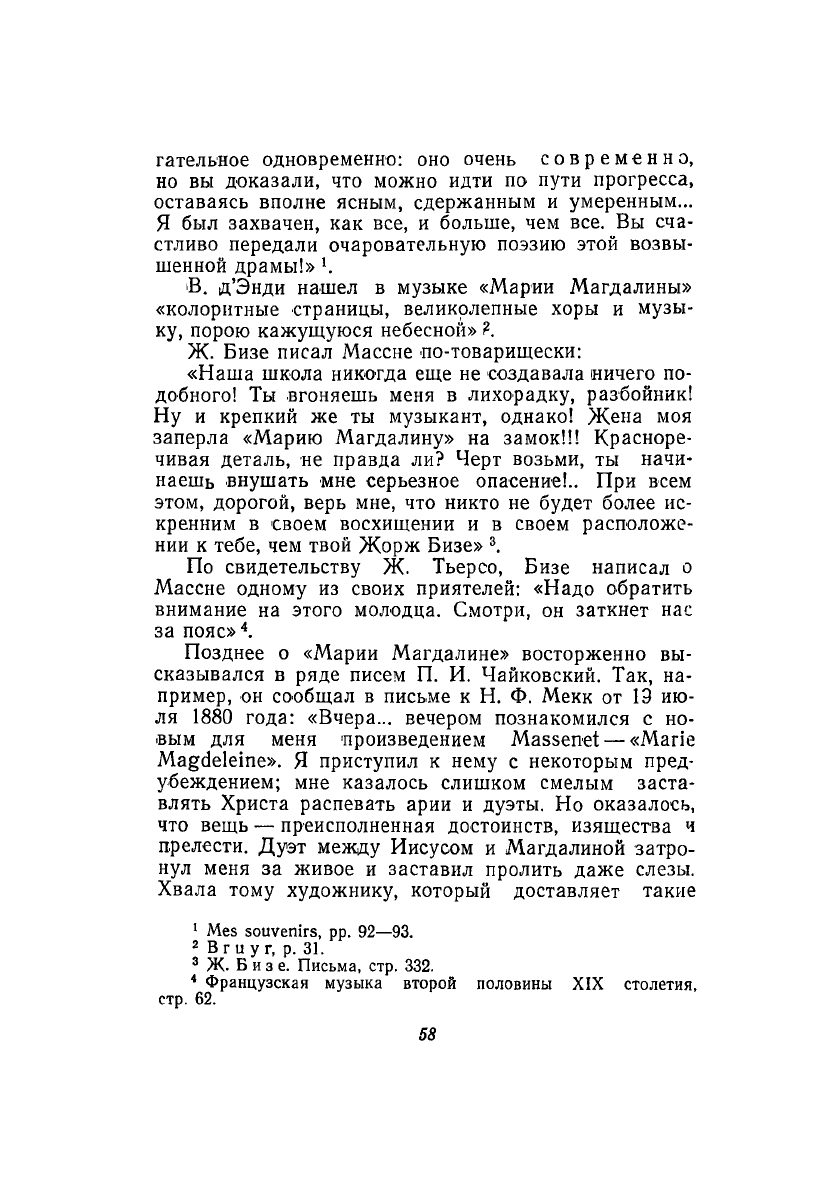
гательное одновременно: оно очень современно,
но вы доказали, что можно идти по пути прогресса,
оставаясь вполне ясным, сдержанным и умеренным...
Я был захвачен, как все, и больше, чем все. Вы сча-
стливо передали очаровательную поэзию этой возвы-
шенной драмы!»
К
В. д'Энди нашел в музыке «Марии Магдалины»
«колоритные страницы, великолепные хоры и музы-
ку, порою кажущуюся небесной»
Ж. Визе писал Массне по-товарищески:
«Наша школа никогда еще не создавала (ничего по-
добного! Ты вгоняешь меня в лихорадку, разбойник!
Ну и крепкий же ты музыкант, однако! Жена моя
заперла «Марию Магдалину» на замок!!! Красноре-
чивая деталь, не правда ли? Черт возьми, ты начи-
наешь внушать мне серьезное опасение!.. При всем
этом, дорогой, верь мне, что никто не будет более ис-
кренним в своем восхищении и в своем расположе-
нии к тебе, чем твой Жорж Визе»
3
.
По свидетельству Ж. Тьерсо, Визе написал о
Массне одному из своих приятелей: «Надо обратить
внимание на этого молодца. Смотри, он заткнет нас
за пояс»
4
.
Позднее о «Марии Магдалине» восторженно вы-
сказывался в ряде писем П. И. Чайковский. Так, на-
пример, он сообщал в письме к Н. Ф. Мекк от 13 ию-
ля 1880 года: «Вчера... вечером познакомился с но-
вым для меня -произведением Massenet — «Marie
Magdeleine». Я приступил к нему с некоторым пред-
убеждением; мне казалось слишком смелым заста-
влять Христа распевать арии и дуэты. Но оказалось,
что вещь — преисполненная достоинств, изящества и
прелести. Дуэт между Иисусом и Магдалиной затро-
нул меня за живое и заставил пролить даже слезы.
Хвала тому художнику, который доставляет такие
1
Mes souvenirs, pp. 92—93.
2
Br и у г, p. 31.
3
Ж. Б и з е. Письма, стр. 332.
4
Французская музыка второй половины XIX столетия,
стр. 62.
58
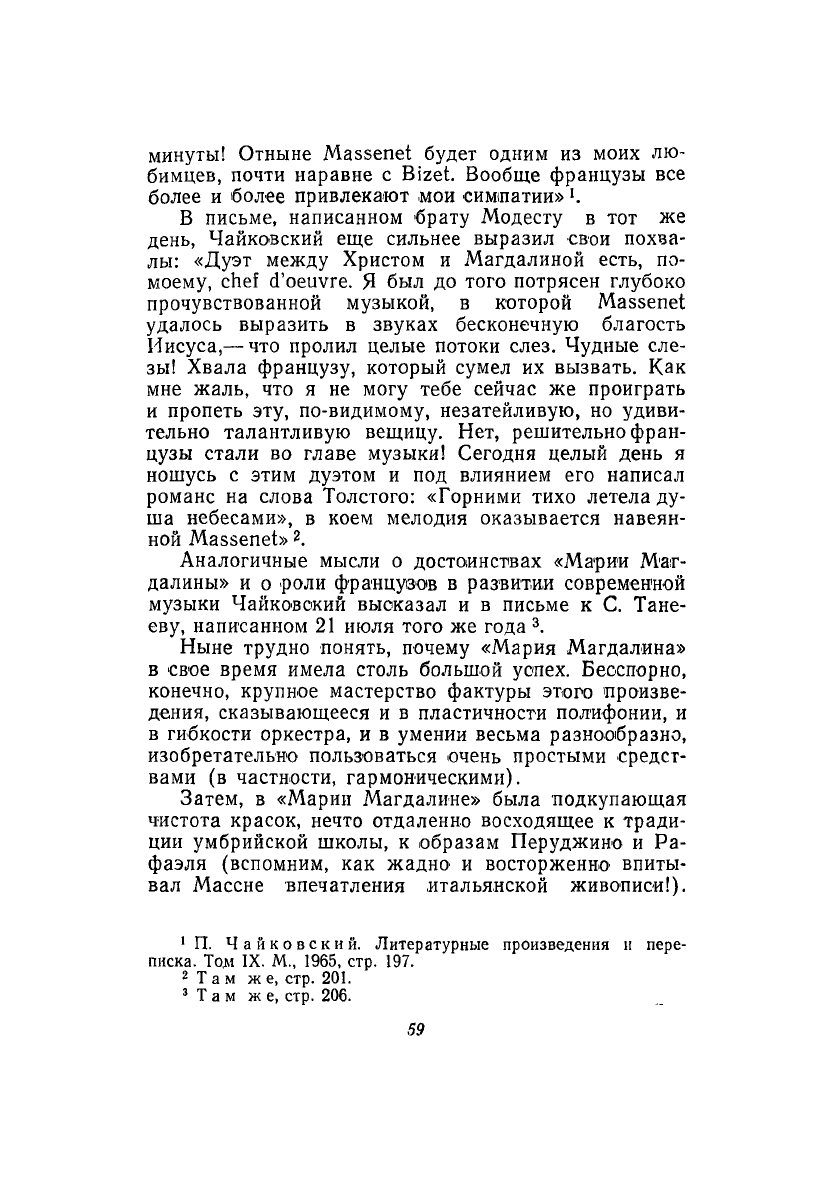
минуты! Отныне Massenet будет одним из моих лю-
бимцев, почти наравне с Bizet. Вообще французы все
более и более привлекают .мои симлатии»
К
В письме, написанном -брату Модесту в тот же
день, Чайковский еще сильнее выразил свои похва-
лы: «Дуэт между Христом и Магдалиной есть, по-
моему, chef d'oeuvre. Я был до того потрясен глубоко
прочувствованной музыкой, в которой Massenet
удалось выразить в звуках бесконечную благость
Иисуса,— что пролил целые потоки слез. Чудные сле-
зы! Хвала французу, который сумел их вызвать. Как
мне жаль, что я не могу тебе сейчас же проиграть
и пропеть эту, по-видимому, незатейливую, но удиви-
тельно талантливую вещицу. Нет, решительно фран-
цузы стали во главе музыки! Сегодня целый день я
ношусь с этим дуэтом и под влиянием его написал
романс на слова Толстого: «Горними тихо летела ду-
ша небесами», в коем мелодия оказывается навеян-
ной Massenet»
2
.
Аналогичные мысли о достоинствах «Марии Маг-
далины» и о роли французов в развитии современной
музыки Чайковский высказал и в письме к С. Тане-
еву, написанном 21 июля того же года
3
.
Ныне трудно понять, почему «Мария Магдалина»
в св-ое время имела столь большой успех. Бесспорно,
конечно, крупное мастерство фактуры этого произве-
дения, сказывающееся и в пластичности полифонии, и
в гибкости оркестра, и в умении весьма разнообразно,
изобретательно пользоваться очень простыми средст-
вами (в частности, гармоническими).
Затем, в «Марии Магдалине» была подкупающая
чистота красок, нечто отдаленно восходящее к тради-
ции умбрийской школы, к образам Перуджино и Ра-
фаэля (вспомним, как жадно и восторженно впиты-
вал Массне впечатления итальянской живописи!).
1
П. Чайковский. Литературные произведения и пере-
писка. Том IX. М., 1965, стр. 197.
2
T а м же, стр. 201.
3
T а м же, стр. 206.
59
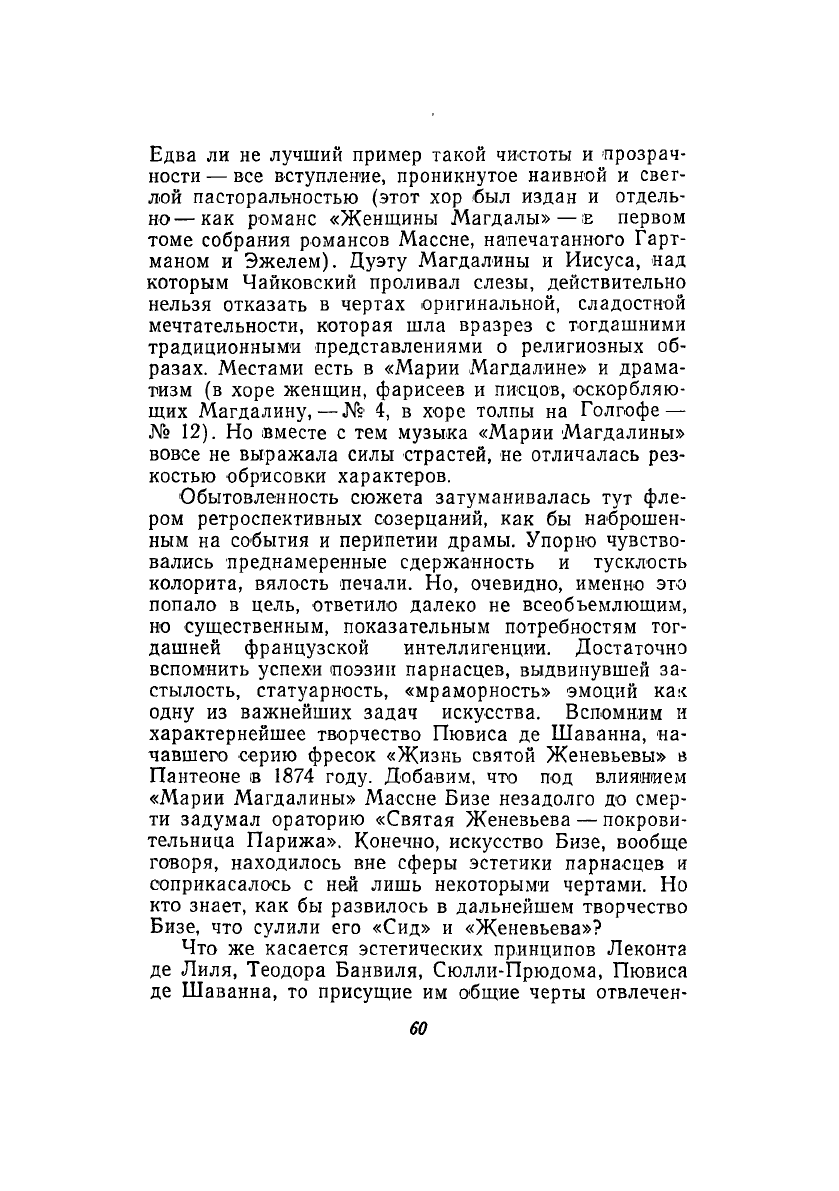
Едва ли не лучший пример такой чистоты и 'прозрач-
ности — все вступление, проникнутое наивной и свет-
лой пасторальностью (этот хор был издан и отдель-
но— как романс «Женщины Магдалы»—в первом
томе собрания романсов Массне, напечатанного Гарт-
маном и Эжелем). Дуэту Магдалины и Иисуса, над
которым Чайковский проливал слезы, действительно
нельзя отказать в чертах оригинальной, сладостной
мечтательности, которая шла вразрез с тогдашними
традиционными представлениями о религиозных об-
разах. Местами есть в «Марии Магдалине» и драма-
тизм (в хоре женщин, фарисеев и писцов, оскорбляю-
щих Магдалину,—№ 4, в хоре толпы на Голгофе —
№ 12). Но вместе с тем музыка «Марии Магдалины»
вовсе не выражала силы страстей, не отличалась рез-
костью обрисовки характеров.
Обытовленность сюжета затуманивалась тут фле-
ром ретроспективных созерцаний, как бы наброшен-
ным на события и перипетии драмы. Упорно чувство-
вались преднамеренные сдержанность и тусклость
колорита, вялость печали. Но, очевидно, именно это
попало в цель, ответило далеко не всеобъемлющим,
но существенным, показательным потребностям тог-
дашней французской интеллигенции. Достаточно
вспомнить успехи поэзии парнасцев, выдвинувшей за-
стылость, статуарность, «мраморность» эмоций ка*
одну из важнейших задач искусства. Вспомним и
характернейшее творчество Пювиса де Шаванна, на-
чавшего серию фресок «Жизнь святой Женевьевы» в
Пантеоне в 1874 году. Добавим, что под влиянием
«Марии Магдалины» Массне Визе незадолго до смер-
ти задумал ораторию «Святая Женевьева — покрови-
тельница Парижа». Конечно, искусство Визе, вообще
говоря, находилось вне сферы эстетики парнасцев и
соприкасалось с ней лишь некоторыми чертами. Но
кто знает, как бы развилось в дальнейшем творчество
Визе, что сулили его «Сид» и «Женевьева»?
Что же касается эстетических принципов Леконта
де Лиля, Теодора Банвиля, Сюлли-Прюдома, Пювиса
де Шаванна, то присущие им общие черты отвлечен-
60
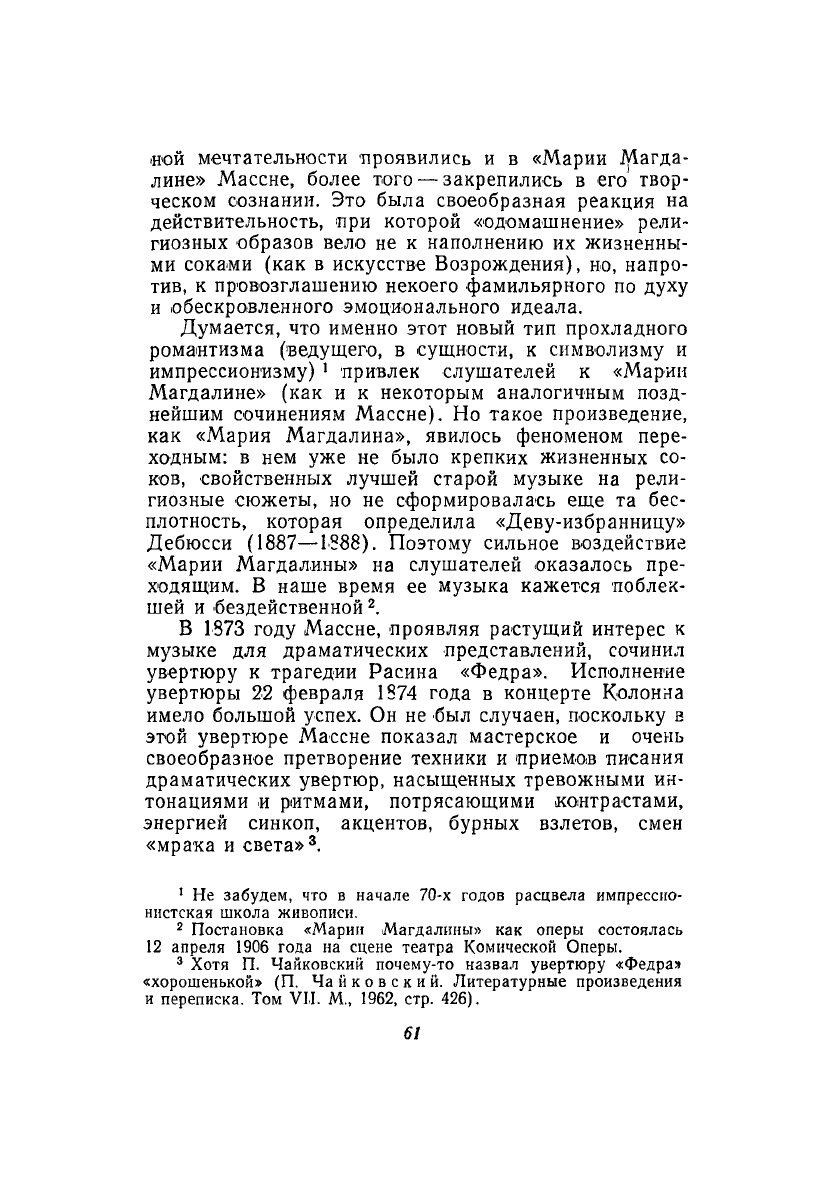
ной мечтательности 'проявились и в «Марии ]у1агда-
лине» Массне, более того — закрепились в его твор-
ческом сознании. Это была своеобразная реакция на
действительность, при которой «одомашнение» рели-
гиозных образов вело не к наполнению их жизненны-
ми соками (как в искусстве Возрождения), но, напро-
тив, к провозглашению некоего фамильярного по духу
и обескровленного эмоционального идеала.
Думается, что именно этот новый тип прохладного
романтизма ('ведущего, в сущности, к символизму и
импрессионизму)
1
привлек слушателей к «Марии
Магдалине» (как и к некоторым аналогичным позд-
нейшим сочинениям Массне). Но такое произведение,
как «Мария Магдалина», явилось феноменом пере-
ходным: в нем уже не было крепких жизненных со-
ков, свойственных лучшей старой музыке на рели-
гиозные сюжеты, но не сформировалась еще та бес-
плотность, которая определила «Деву-избранницу»
Дебюсси (1887—1888). Поэтому сильное воздействие
«Марии Магдалины» на слушателей оказалось пре-
ходящим. В наше время ее музыка кажется поблек-
шей и бездейственной
2
.
В 1873 году Массне, проявляя растущий интерес к
музыке для драматических представлений, сочинил
увертюру к трагедии Расина «Федра». Исполнение
увертюры 22 февраля 1874 года в концерте Колонна
имело большой успех. Он не был случаен, поскольку в
этой увертюре Массне показал мастерское и очень
своеобразное претворение техники и 'приемов писания
драматических увертюр, насыщенных тревожными ин-
тонациями и ритмами, потрясающими контрастами,
энергией синкоп, акцентов, бурных взлетов, смен
«мрака и света»
3
.
1
Не забудем, что в начале 70-х годов расцвела импрессио-
нистская школа живописи.
2
Постановка «Марии Магдалины» как оперы состоялась
12 апреля 1906 года на сцене театра Комической Оперы.
3
Хотя П. Чайковский почему-то назвал увертюру «Федра»
«хорошенькой» (П. Ча й к о в с к и й. Литературные произведения
и переписка. Том VII. М., 1962, стр. 426).
61
