Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции
Подождите немного. Документ загружается.


определенные как необходимые, не будут получать тем самым никакого принципиального
эпистемологического отличия, дающего им гарантию от пересмотра на основании
свидетельствующего о противоположном языкового опыта. Причем этот холистический тезис о
произвольности различия между конвенциональным и необходимым противостоит не только
атомизму, но и в равной степени молекуляризму, проводящему принципиальное различие между
конвенциональными правилами (например, конвенционально установленными правилами
передачи значений по каузальной цепи) и детерминированными в результате их применения
референциями, где это различие явилось бы наиболее эпистемологически нагруженным.
Холист и молекулярист, вероятно, согласятся, что ни способ, которым мы должны
устанавливать референции, ни способ, которым мы должны использовать их при употреблении
языка, не являются необходимыми: решающим критерием здесь является только успех
употребления. Правила комбинации референций должны быть предусмотрены только в общем
смысле, потому что иначе использование языка было бы невозможно. Эти правила можно
сравнить с правилами игры — скажем, следуя Витгенштейну, шахматной: сами по себе они
произвольны, но их изначальная детерминированность делает возможной игру как таковую.
Однако молекуляристское расширение аргумента здесь будет состоять в том, что конвенция по их
поводу подлежит постоянному пересмотру и в любом случае не является тотальной: она валидна
для предназначенной области применения. Значимое языковое построение отличается от пустой
концептуальной схемы определенной исчерпывающей совокупностью этих комбинаций, заданных
на той или иной референциальной области, а не, с одной стороны, какой-либо одной или
несколькими из них, какими бы содержательными сами по себе они ни были, и не, с другой,
размытым множеством всех возможных связей между всеми возможными применениями языка.
Такая точка зрения отличается от интернализма: здесь не обнаруживается никакого признака
искомой системы, о котором мы могли бы знать априорно, что он обязательно должен
принадлежать этой системе в силу того, что такова природа нашего мышления. Мы можем
задаваться вопросом лишь о том, как представлен язык в его состоянии развития к настоящему
времени, но не о том, как он должен быть представлен. Референциальные правила, при подобном
подходе, конвенциональны тривиально, как предварительное условие функции употребления.
С холистической точки зрения, референции должны были бы определяться относительно всех
референций языка L и верифицируемы не индивидуально, а в составе полной системы языка.
Такое требование привело бы к отождествлению конвенциональности и контингентности, причем
и то, и другое признавалось бы в принципе неверифицируемым — что противоречит сути понятия
языковой конвенции. Следовало бы признать, что нам доступны лишь те референции, которые в
составе языка уже присутствуют
Но с молекуляристской точки зрения, верификации подвергается не язык в целом — как,
разумеется, и не референции его индивидуальных выражений, — а скорее релевантный фрагмент
языка, т.е. конечные сочетания высказываний, определенные конкретными коммуникативными
целями и условиями, т.е. условиями порождения и восприятия текста. Сама связь понятий и
пропозиций с элементами опыта, с такой точки зрения, имеет не логическую, а конвенциональную
или интуитивную природу. Однако в концептуальную систему входят, помимо понятий,
синтаксические правила, которые составляют ее структуру. Хотя концептуальные системы
логически полностью произвольны, они детерминированы целью предоставить оптимальную —
наиболее полную или наиболее строгую, или, возможно, в каких-то случаях оптимальную в каком-
то еще смысле — координацию со всем имеющимся количеством элементов опыта. Именно такую
детерминированность отражают синтаксические инференциальные правила, обслуживающие
некоторый — эмпирически обозримый — фрагмент языка и гарантирующие согласуемость
выстроенного таким образом фрагмента языка с языком в целом и, соответственно, согласуемость
релевантной для данного фрагмента языка референциальной области со всей совокупностью
(предполагаемых) референций языка.
Подобный молекуляристский подход связывает системность референций с когерентностью
истинности соответстующих им значений, а последнюю — с обоснованностью выражаемого ими
знания. В логической системе пропозиция истинна, если она выведена согласно принятым
логическим правилам. Если мы признаем, что истинностное содержание системы зависит от
определенности и полноты ее координации со всем наличным опытом, то должны будем тем
самым признать, что истинная пропозиция получает свою истинность от истинностного
содержания системы, которой она принадлежит. Однако если мы связываем истинность

пропозиции также с правилами вывода, валидными для теории в целом или, во всяком случае, для
ее эмпирически релевантного фрагмента, то в качестве истинностного оператора выступает
именно последний. При этом такой фрагмент может экстенсионально совпадать с теорией в целом,
но принципы его вычленения будут иными. Само правило не редуцируется при этом к
совокупности эмпирического знания, поскольку ставит определимость эмпирического значения —
условий истинности эмпирического предложения — в зависимость, в том числе, от определенной
группы правил, а не от условий установления определенной конвенции.
Принятие последнего положения связано с когерентистским представлением об истинности
знания как о его обоснованности: истина позитивно коррелирует с вхождением в когерентное
множество пропозиций, и у нас есть возможность определить, когда пропозиция обладает этой
характеристикой. Это представление связано с тремя тезисами:
1) Полагание обосновано в той степени, в какой оно коррелирует с другими полаганиями
субъекта.
2) Ни одно (под)множество полаганий не является более фундаментальным для обоснования,
чем другие.
3) Ни одно полагание не является окончательным. Для любого полагания, полагаемого (не-
когерентистами) очевидным, можно отыскать основания, чтобы отвергнуть его.
Мы можем, с учетом этого, определить искомое "когерентное множество пропозиций" как наиболее
непротиворечивое и объемлющее множество полаганий. Онтологически релевантный контраргумент
здесь будет таков: возможно, что все пропозиции, входящие в это непротиворечивое множество,
ложны, поэтому обоснование само по себе не коррелирует с истиной. Например, достаточно
разработанная вымышленная система пропозиций (скажем, развернутое литературное произведение
или иная сущностно конвенциональная система утверждений) будет, с такой точки зрения,
обоснована как истинная, а мы должны будем признать реальное существование Гамлета, Пегаса и
других единорогов. Однако принципы, управляющие принятием тех или иных пропозиций, сами
входят в (индивидуальную) систему полаганий, и ни одна объемлющая система полаганий не может
включать в себя тот принцип, согласно которому мы должны принимать вымысел за факт
[28]
.
Можно, далее, возразить, что контраргумент состоит не в том, что, согласно когерентной теории, мы
должны были бы рассматривать как истинные те пропозиции, о которых нам известно, что они
вымышленны, а в том, что, с такой точки зрения, у нас нет возможности определить, какие
предложения являются вымышленными, а какие — нет; если нам важны лишь полнота и
непротиворечивость системы, а не ее происхождение, то у нас нет возможности определить, является
ли она вымышленной или нет. Здесь нам и приходит на помощь молекуляристский подход,
противопоставляющий себя холистическому конвенционализму, согласно которому сами
референции — вопрос конвенции, а правила их установления не могут являться синтетическими
утверждениями, а
следовательно, им не может быть назначено никакое эмпирическое значение и они
не могут иметь никаких онтологических обязательств.
С точки зрения молекуляризма, как различные
языки, так и различные фрагменты одного языка могут иметь различные референциальные правила
— скажем, один и тот же термин может иметь различные референции в различных стилистических
расслоениях языка, не говоря уже о разных идиолектах, и употребляться для различных целей и с
различными результатами; однако этого явно недостаточно для
того, чтобы назвать правила языка
референциально бессмысленными. Как только определены условия коммуникации — хотя бы
минимальные: структура того предложения, сверхфразового единства, текста, куда входит термин —
дальнейшие его референции нельзя считать индетерминированными. Более того, сама референция
уже не может считаться конвенциональной, поскольку область ее определения оказывается заданной,
и ограниченной в принципе сколь угодно
жестко.
Итак, мы сформулировали молекуляристский тезис системности референции:
референции устанавливаются (с необходимостью) в результате применения конвенциональных языковых правил.
Этот тезис призван противостоять атомизму, отрицающему критерий поддержки системой
референций, но, с другой стороны — и холизму, предполагающему конвенциональную
фиксированность самих (определенных) референций языка. Наш тезис не отрицает последнего; его
суть в том, что он подчеркивает конститутивность языковых правил для определенных
референций — которые, таким образом, сами по себе не являются ни конвенциональными, ни
детерминированными. Поэтому для построения онтологически нейтральной теории референции
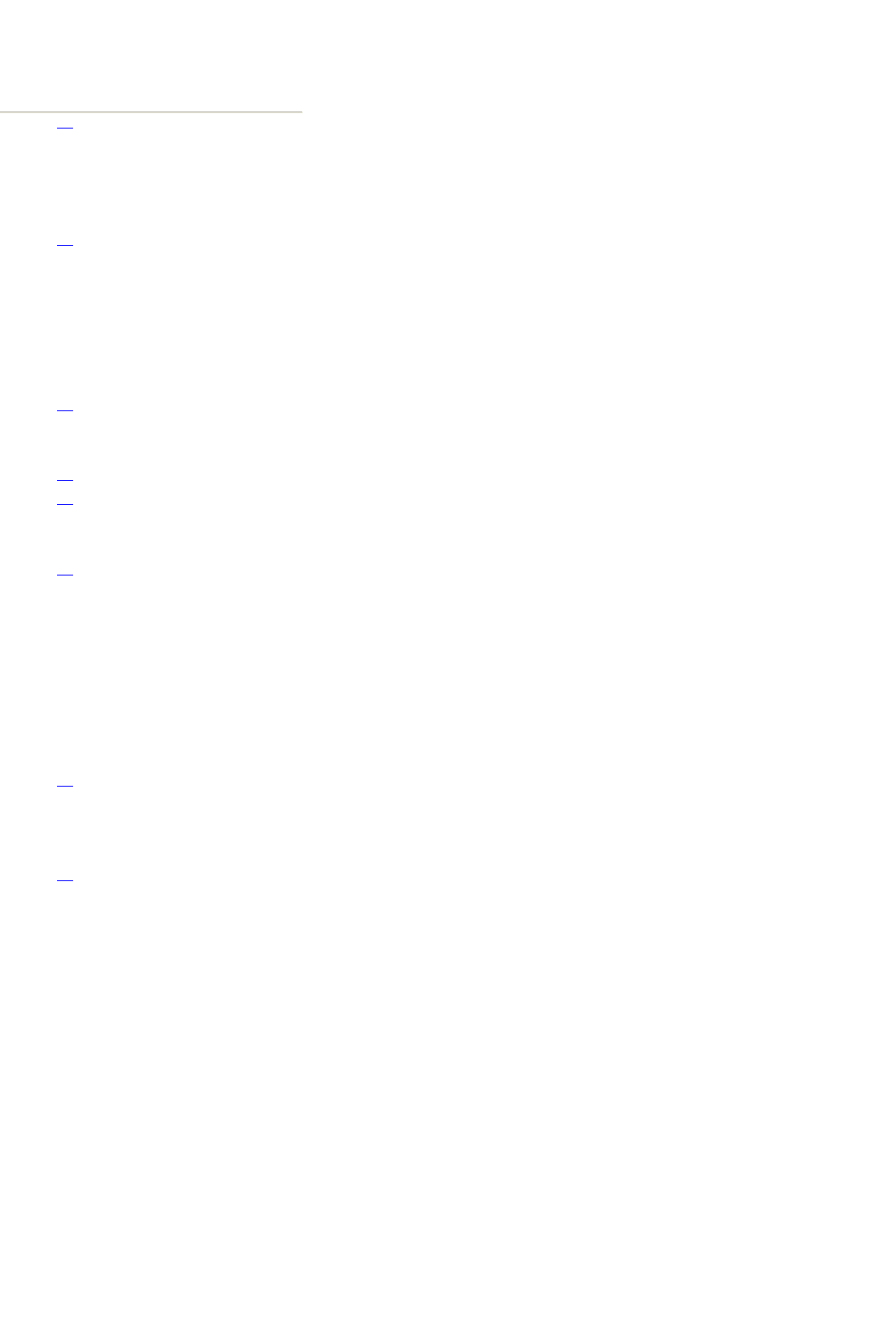
мы переходим к подробному рассмотрению аспектов применения критерия системности
референциальности с точки зрения конвенциональности значений.
[1]
Так же, как в случае с истиной и истинностью, здесь существует различие:
референциальность — свойство языковых выражений иметь успешную референцию. Поэтому
теория референциальности будет, строго говоря, отличаться от конкретных теорий референции,
как их метатеория. В дальнейшем мы не будем акцентироваться на этом различении, но его
следует иметь в виду при обсуждении критериев.
[2]
Концепция интенциональности, о которой здесь идет речь, имеет корни в традиции, идущей
от Ф. Брентано и Э. Гуссерля: "предмет" в этой традиции трактуется весьма отличным от того, как
мы здесь употребляем этот термин, образом. (Например, Серль отличает этот термин
орфографически – пишет его с заглавной буквы.) Поэтому мы не станем здесь дальше углубляться
в особенности интенциональной трактовки сознания – для наших целей вполне достаточно указать
на ее специфический характер. Однако, мы вернемся к рассмотрению концепции значения,
использующей широкое понятие интенциональности, в третьей главе.
[3]
Вероятно, можно сказать, что в этом одно из основных отличий интенционализма Серля от,
скажем, интенционализма Грайса – лежащим в основе значения признается не просто намерение
сообщить нечто, но намерение репрезентировать нечто в сообщении.
[4]
См. Searle J. "Literal Meaning"
[5]
Понимая "аналитическое" скорее в общеэпистемологическом контексте, как показатель
высокой степени устойчивости истинностного значения, его неподверженности ревизиям по
отношению к другим положениям теории, чем в классическом позитивистском смысле.
[6]
Это достаточно наглядно видно на примерах из тех языков, где глаголы существования
являются служебными: когда мы говорим "the table", то можно считать, что в отношении
установления референции мы тем самым говорим "There is a table (and this table is...)" — что
выглядит меньшей натяжкой, чем признать, что когда мы говорим "стол", то можно считать, что в
отношении установления референции мы тем самым говорим "есть стол (и он такой-то…)".
Однако после небольшого размышления становится ясным, что дело здесь не в том, каким именно
образом грамматическая структура языка помогает нам эксплицировать логическую структуру
пропозиций: речь идет не о той или иной интерпретации квантора существования, но о состоянии
до всякой возможной интерпретации.
[7]
Truth-value gap мы переводим как "истинностный провал" или "неопределяемость
истинностного значения", т.е. истинность таких пропозиций вообще не может быть определена, в
отличие от пропозиций, чье истинностное значение не определено (indeterminate), но может быть
определено.
[8]
Можно трактовать "обозначение" как указание на предмет посредством референциального термина,
что равнозначно употреблению термина в качестве имени. Так, в теории референции Крипке для
обозначения посредством референциального термина необходима только каузальная связь предыдущего и
последующего употребления термина и, по предположению, достаточна интенция употреблять термин как
имя этого референта, а не чего-то другого. С этой точки зрения, сама референциальность термина (понятая
каузально) есть необходимое условие обозначения: такое различие, на вид несущественное, может быть,
имеет смысл провести хотя бы в силу того, что оно соответствует различению между двумя типами
пресуппозиций для теорий референции – есть ли референция нечто обнаруживаемое или нечто
устанавливаемое. Обнаруживаемое в свете этого различия – характер обозначения (предмет, условия,
причины), устанавливаемое – референция (условие и отчасти причина обозначения). Обозначение в этом
смысле можно отличить от референциального значения именно как нечто обнаруживаемое от того, что
устанавливается, чтобы подчеркнуть различие между условиями обнаружения референции, ее
определения и условиями ее установления. Это, тем не менее, не означает сведения обозначения к
указанию посредством термина, поскольку предмет указания и (определяемый) предмет обозначения
вполне могут различаться, как в случае – "Взгляни-ка, Черчилль!" при указании на человека, похожего на
Черчилля. При этом референтом имени "Черчилль", опять же может быть не тот индивид, которого имеет
интенцию или привычку обозначать этим словом указывающий в своем идиолекте. Имеет смысл различать
референцию и обозначение как действие и его результат; и как одно действие может иметь различные
результаты, так одна референция может приводить к разным типам обозначения. Можно говорить о
каузальной связи между устанавливающим референцию именованием (первокрещением) и современным
употреблением, поскольку хотя каузальная связь и соединяет индивидуальные (идиолектные) и
употребления, но первейшая ее функция – сохранять первоначальную референцию, а стало быть, отсылать
(Крипке использует выражение "go back") к самому референту. Это в общем соответствует тому, как мы

выше употребляли "обозначает": в отличие от требования к референции, для того, чтобы обозначать что-
либо термином (или термину), последнему не обязательно быть референциальным, т.е. его значение не
обязательно должно конституироваться его референцией – оно, например, может конституироваться
интенцией.
[9]
Ср. E. Husserl, Phenomenology and the Foundations of the Sciences.
[10]
Kripke S. Naming and Necessity. - In Semantics of Natural Language, eds. D. Davidson and G.
Harman (Dordrech t: Reidel, 1972).
[11]
Evans G. "The Causal Theory of Names" — Aristotelian Society: Supplementary Volume, 47
(1973), pp. 187-208.
[12]
Putnam H. "The Meaning of 'Meaning'" in his Philosophical Papers, volume II, Mind, Language
and Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 215-71.
[13]
Brody B. A. "Kripke on Proper Names," in: P. French, T. Uchling and H. Wettstein (eds.),
Minnesota Studies in Philosophy, vol. 2 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1977), 64-69; см.
также Searle J. Intentionality (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), ch. 9.
[14]
Понятно, что, как только устранено слово "Джонс" в моем произнесении "Джонс — убийца", то
больше нельзя будет заменить его на некоторую успешную дескрипцию его каузального происхождения.
Но, возможно, мы могли бы контрфактически заменить имя некоторой дескрипцией, которая заставила бы
меня использовать имя "Джонс", если бы я использовал это имя вместо определенной дескрипции. Таким
образом, для "Джонс" в "Джонс — убийца" можно произвести следующую замену: человек, называние
которого определенным именем привело бы к моему использованию "Джонс" при моем использовании этого
имени вместо этой дескрипции — убийца. Но этот ход влечет за собой все проблемы, связанные с
контрфактуалами, и может нарушить запреты самореференции, необходимые для решения парадокса
лгуна и парадокса Рассела, обращающихся к понятию класса всех классов.
[15]
Такое представление о значении имен собственных могло бы показаться привлекательным
не только менталистам, т.к. оно находит оправдание имеющейся у многих философов интуиции,
что все же есть нечто, что делает имена отличными от определенных дескрипций. Всегда можно
заменить одну определенную дескрипцию на другую синонимичную определенную дескрипцию и
сохранить значение утверждения, в которое они входят. Но если имена выражают мысль
способом, рассмотренным выше, то нельзя заменить имя определенной дескрипцией и сохранить
значение утверждения, в которое входит это имя даже при том, что имя будет иметь значение
определенной дескрипции.
[16]
Fodor J. A Theory of Content, II. In: Fodor J. A Theory of Content and Other Essays (Cambridge
Mass.: The MIT Press, 1992), p.119.
[17]
См.: Wright C. Wittgenstein on the Foundations of Mathematics. Cambridge Mass., 1980.
[18]
Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998.
[19]
См.: P.Forrest. Identity of Indiscernibles // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL:
http://plato.stanford.edu/entries/identity-indiscernible/
[20]
Что не тождественно логическому атомизму Рассела — хотя между ними, разумеется,
много общего.
[21]
"Слово и объект", §12.
[22]
Дэвидсон распространяет это положение на все повседневное общение, рассматривая его
как феномен того, что он называет радикальной интерпретацией: в этой модели для достижения
взаимопонимания, в частности – для установления синонимий даже в рамках одного и того же
языка (между индивидуальными идиолектами) требуется привлечение так называемого принципа
снисходительности (principle of charity), действие которого и обеспечивает кажимость плавности
коммуникации.
[23]
Молекуляризм связывают чаще всего со взглядами Даммита, однако они вряд ли помогут
нам при объяснении референциальности, поэтому дальнейшее употребление термина
"молекуляристский" свободно от подобных коннотаций — в частности, верификационистских.
[24]
См.: Лебедев М.В. Эмпиричность научной теории. Идеи Канта в аналитической философии
науки. — В кн.: Трансцендентальная антропология и логика. Калининград, 2000.
[25]
См. Fodor J., LePore E. Holism: A Shopper's Guide. Blackwell, Ох. - Cambridge Mass., 1992.
Ch.1.
[26]
См. Perry J. "Fodor and Lepore on Holism" — Philosophical Studies, 1994, pp. 123-138.
[27]
Block N. "Holism, Hyper-analyticity and Hyper-compositionality" — Mind and Language, 1993,
v.8, N.1, pp. 1-27.
[28]
См.: Bradley F. Essays on Truth and Reality. Oxford University Press, 1914. P.213.
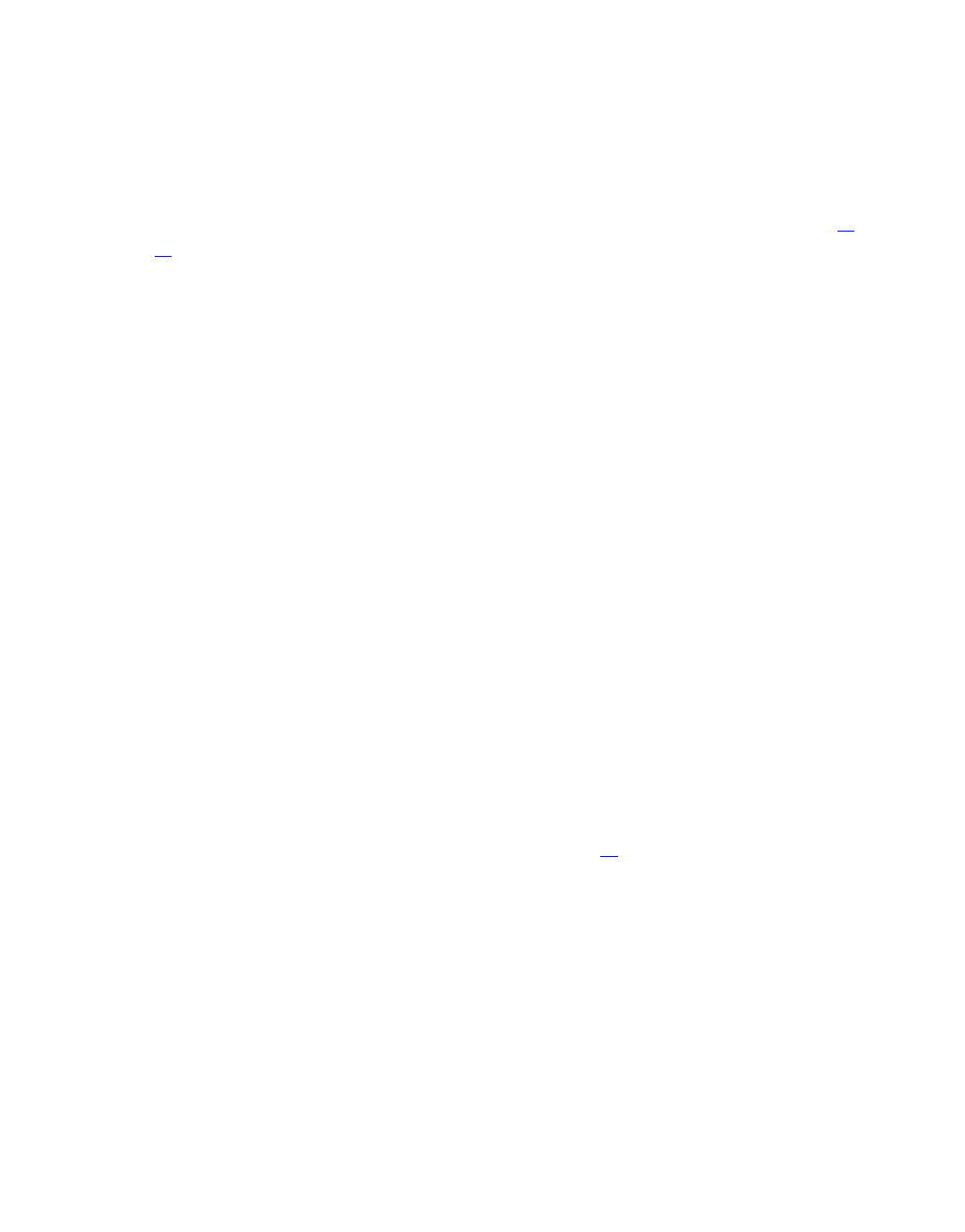
3. Референция и конвенция
В этой главе мы проанализируем конвенциональные условия референции, а затем попытаемся
дать им каузальное объяснение.
3.1. Достаточность условий референциальности
Обсуждение, предпринятое в предыдущих главах, подводит нас к принятию следующих
положений:
1) (минимальная) задача теории референции — дать онтологически нейтральный
[1]
и
нециркулярный
[2]
критерий референциальности в терминах необходимых и достаточных условий,
2) ни один из рассмотренных критериев не может считаться адекватным согласно пункту 1),
3) критерий поддержки системой является объемлющим. Но можно ли говорить о нем как о
достаточном условии референции?
Рассмотрим, каким требованиям должна отвечать и какой вид должна в соответствии с этими
требованиями иметь такая система, формулировка критерия в терминах которой позволила бы
ответить на поставленный в пункте 3) вопрос положительно.
3.1.1 Референция как способ употребления
Первое, от чего так или иначе приходится отталкиваться в вопросе о референции — это роль и
границы влияния двух элементов, непосредственнейшим образом помогающих в решении
повседневных коммуникативных задач, связанных с успешными указаниями, упоминаниями,
иденитфикациями, определениями объектов этих и других подобных действий и т.д. Речь идет об
определенных дескрипциях и демонстративных акта или остенсии.
Так, Куайн полагает, что на первоначальных этапах освоения языка основополагающую роль
играет обучение посредством остенсии. Он принимает Юмово объяснение опредмечивания
восприятий, согласно которому люди сопоставляют сходные по содержанию восприятия и,
принимая сходство за тождество, объединяют их в предметное единство как нечто тождественное.
Принцип тождества, по Куайну, играет определяющую роль в формировании референтов
единичных терминов из множеств остенсивных событий: указывая на разные пространственно-
временные фрагменты реальности и сопровождая эти указания произнесением одного и того же
названия, обучающий таким образом утверждает тождество этих фрагментов и, тем самым,
создает у обучаемого предпосылки к тому, чтобы объединить их с помощью индукции в некое
предметное единство — референт соответствующего термина
[3]
. Остенсия — прямое указание на
что-то — сама по себе не референциальна, или, лучше сказать — она протореференциальна:
остенсивно выделяется некий фрагмент реальности, с весьма нечеткими границами; предмет же
указания определяется концептуально, т.е., если следовать модели Куайна, это должен быть
результат обучения по схеме остенсия + тождество + индукция. В контексте настоящего
рассмотрения важно, что для того, чтобы такая модель обучения интерпретациям могла работать,
язык, в котором референции связаны с употреблением определенных терминов, охватывающим
множества остенсивных событий, уже должен существовать в целостном виде. В этом смысле
(хотя, возможно, только в этом) оправдано утверждать, что референция как характеристика
единичных терминов, а не переменных, первична.
Ситуация обучающего отличается от ситуации обучаемого посредством остенсий тем, что
обучение употреблению новых терминов может не требовать от него применения остенсивной
схемы — оно может осуществляться, как всякое обучение фрагментам языка на более поздних
стадиях, посредством определений, т.е. языковых выражений, чьи значения известны, дающих,
будучи поставлены в соответствие незнакомому термину, представление о референте последнего.

Главная проблема с дескриптивистским объяснением референции, как уже было отмечено —
недостаточность ни одного дескриптивного целого для полноценной индивидуации референта. То
же самое относится и к остенсивной индивидуации: сама по себе она не гарантирует
согласованной индивидуации (т.е. такой, что оба указывающих указывают на один объект, а не
всего лишь на один фрагмент окружающего пространства, который может быть для каждого из
них по разному предметно структурирован), а стало быть — устойчивости референции.
Идея, что нечто может быть связано с терминами отношением референции, только если
отвечает определенным характеристикам или комплексам характеристик, схватываемым
дескрипциями или семействами дескрипций, предполагает, что некоторые предложения
тождества, в которых связка ‘есть’ стоит между соответствующими терминами и дескриптивными
комплексами (определенными дескрипциями или семействами дескрипций), должны быть в
каком-либо смысле необходимо истинными. Но какие именно? Как это установить, если
большинство таких связей устанавливаются на основе эмпирического знания о вещах, а идея
аналитичности утратила свою респектабельность? Концепция С. Крипке и близкие ей по духу, за
которыми закрепилось название каузальных теорий референции, относятся к числу теорий,
которые, будучи, с одной стороны, теориями референции в означенном выше смысле, с другой
стороны, представляют собой, как мы увидели, альтернативу дескриптивным теориям референции.
Единство и единственность референции имен (к которым Крипке причисляет собственные имена и
термины естественных родов) обеспечивается, согласно этой концепции, как уже указывалось, не
тем, что обозначаемые объекты удовлетворяют каким-либо дескрипциям или семействам
дескрипций — такого соответствия может вовсе не быть или оно может указывать на другой
референт — а тем, что имя, как имя данной индивидуальной сущности, передается от
употребляющего к употребляющему в коммуникации, каждая новая связь в которой
предполагается как сохраняющая референцию. Таким образом, независимо от того, что какой-либо
произносящий имя ‘Юрий Гагарин’ знает о человеке, с которым это имя связано каузально, т.е.
независимо от того, какие дескрипции он связывает с его употреблением, он указывает,
употребляя это имя как имя, на Юрия Гагарина, если каждый новый получатель этого имени в
коммуникативной "цепи", включая последнего, употреблял или употребляет его с намерением
делать это с той референцией, с какой его употреблял тот, от кого это имя получено "по цепи" —
выучено в качестве имени.
Однако, и этот критерий, как мы видели, не является достаточным сам по себе; по крайней
мере, это может означать, что из признания важности каузального критерия для референции не
должен непременно следовать отказ считать дескрипции потенциально конститутивными для
референции при определенных условиях. С другой стороны, постольку, поскольку как остенсия,
так и дескрипции, могут играть конститутивную роль в основании каузальной цепи (при
назначении термина именем чего-то), они в этом смысле, хоть опосредованно, но конститутивны
для референции — хотя мало что говорит в пользу того, что первичная связь такого вида должна
сохраняться (транслироваться) каузальной цепью.
Другой тип концепции значения, в рамках которой могут строиться теории референции,
предлагает понимать значение как функцию от способов употребления языковых знаков и
выражений. В последних при таком подходе оказываются важными исключительно их
функциональные характеристики: способность быть средствами решения задач
(коммуникативного характера), достижения целей, овладения ситуацией и т.д. С концепциями
такого рода особенно хорошо согласуется нежелание строить обсуждение семантических вопросов
в терминах значений и отказ от понятия значения в пользу понятия значимости
[4]
, в том числе
референциальной. Назовем этот подход для краткости прагматическим. Такую позицию в
отношении референции разделяет, например, К. Доннелан (в статье "Референция и определенные
дескрипции"). Согласно его подходу, референциальность — это характеристика не выражений
языка, а определенных способов употреблять их; противоположную ей характеристику,
предполагающую de dicto интерпретацию, Доннелан назвал атрибутивностью
[5]
. Доннелан
рассматривает, как употребляются определенные дескрипции, но его аргументы могут быть
применимы и к употреблению имен. Говорящий, употребляющий в утверждении определенную
дескрипцию атрибутивно, утверждает, по его мнению, нечто о ком бы то ни было или о чем бы то
ни было, кто или что удовлетворяет данной дескрипции. (Имя, конечно, в этом смысле не может
употребляться атрибутивно, если не признавать за ним никакого значимого дескриптивного
содержания, но атрибутивность или, по крайней мере, не референциальность имени при таком его

употреблении может во всяком случае пониматься как упоминание чего бы то ни было, что может
называться этим именем.) Говорящий же, употребляющий в утверждении определенную
дескрипцию референциально, употребляет ее для того, чтобы подтолкнуть своих слушателей к
пониманию того, о ком или о чем он говорит, и утверждает нечто именно об этой личности или
вещи
[6]
.
"При референциальном употреблении определенная дескрипция есть просто один из
инструментов для производства определенной работы — привлечения внимания к личности или
вещи — и в общем любой другой инструмент для производства этой же самой работы, другая
дескрипция или имя, сделают это с тем же успехом"
[7]
.
Критериями различения между двумя указанными контекстами употребления определенных
дескрипций должны быть, по видимому, определенные существенные для этих контекстов
обстоятельства. Примеры, которые приводит Доннелан, иллюстрируют, какого они должны быть
рода, или, иначе, что надо знать о говорящем, чтобы утверждать, что он употребляет
определенную дескрипцию референциально или атрибутивно. Так, если некто, хорошо знавший
покойного Смита, произносит высказывание ‘Убийца Смита невменяем’ (4), находясь под
сильным впечатлением от картины злодейского преступления, но не зная, кто именно его
совершил, мы вправе будем заключить, что здесь выражение ‘убийца Смита’ употреблено
атрибутивно. Нам для этого достаточно знать о говорящем все вышеперечисленное; более того,
вероятно, нам достаточно всего лишь знать о говорящем, что он не знает и не предполагает, кто
именно убил Смита. Конечно, наблюдатель не может быть абсолютно уверен, что в момент
произнесения фразы у говорящего не мелькнуло подозрение относительно личности убийцы и что
соответствующая дескрипция не была употреблена именно с целью указания на него, даже если
исходное намерение, мотивировавшее произнесение фразы было атрибутивным. (Мгновение
спустя, быть может, подозрения рассеялись и как у говорящего, так и у наблюдателя благодаря
этому сохранилась иллюзия атрибутивности употребления дескрипции, что впоследствии может
быть установлено из ответа "Никого конкретного" на вопрос "Кого вы имеете в виду?".) Но в
принципе мы вправе любой случай употребления определенных дескрипций оценивать, исходя из
презумпции нереференциальности.
Настоящие трудности возникают при определении условий референциальности терминов, в
частности — определенных дескрипций — на основании контекста их употребления; случай,
который для нас как раз представляет первейший интерес. Доннелан так описывает
обстоятельства, в соответствии с которыми выражение ‘убийца Смита’ должно быть понято
референциально: некий Джонс обвинен в убийстве Смита и посажен на скамью подсудимых,
обсуждается странное поведение Джонса во время процесса и в ходе этого обсуждения звучит
рассматриваемая фраза. Здесь перечислены внешние обстоятельства: то, что Джонсу вменяется в
вину убийство Смита, есть общепризнанный факт, а не частное предположение высказывающего
фразу; наконец, сама фраза включена в разговор, который уже ведется, по общему же мнению, о
Джонсе. Действительно, подобные обстоятельства вполне могут подтолкнуть наблюдателя к
предположению и даже уверить его в том, что рассматриваемая дескрипция, будучи
интегрирована в подобный разговор, употреблена референциально. Но этого не достаточно, если
требуется объяснить, как возможно референциальное употребление термина; существенным
обстоятельством здесь оказывается мотив или намерение говорящего. Но если так, то
прагматическая теория референции, очевидно, должна включать в себя элементы
интенциональной концепции значения.
Предположим, что фразу, содержащую дескрипцию ‘убийца Смита’ произносит человек,
который, так же, как и все, верит в виновность Джонса, но не хочет, чтобы его обвинили: как мы
должны рассудить в таком случае — употребляет он соответствующую дескрипцию для того,
чтобы в очередной раз указать на Джонса или же с целью привлечь внимание или даже намекнуть
на некоторые индивидуальные черты, которым явно должен отвечать убийца Смита, но, похоже,
не отвечает Джонс? Такой человек может даже ответить на вопрос "Кого вы имели в виду? Кто
именно безумен?" ответить "Джонс, конечно, его я имел в виду", а потом добавить "Если, конечно,
он — убийца" (возможно, так тихо, что его никто не услышит, или вовсе "про себя"). Если мы
принимаем в качестве критериев референциальности термина обстоятельства упомянутых типов,
конституирующие непосредственный ситуативный контекст его употребления, то, в том случае,
когда мы знаем или предполагаем, что у говорящего, например, двойственное отношение к
индивиду, признанному в контексте разговора референтом термина (о чем говорящий также

должен знать), мы должны принять дополнительную гипотезу, касающуюся тех взглядов и
предубеждений, на основании которых данное выражение было употреблено в данном контексте
— и не столько то, что у говорящего имеются такие-то взгляды, сколько, что именно они, а не
какие-то другие его верования и убеждения (относящиеся к делу), были подлинным мотивом
данного произнесения определенной дескрипции (и термина вообще). Причем этот критерий
может постулироваться как более или менее независимый от релевантности индивидуальных
мотивов, интенций или установок (как это еще часто называют) ситуации произнесения.
Доннелан эксплицитно привлекает интенциональный критерий, согласно которому
референциальность или атрибутивность определенной дескрипции есть функция интенций
говорящего в конкретном случае
[8]
. Но для того, чтобы можно было говорить хотя бы просто о
влиянии на характер значимости термина или чего угодно, понятого как инструмент решения
релевантных ситуации задач, таких обстоятельств, как индивидуальные мотивы или установки
агента употребления термина (или, шире, использования данного инструмента), очевидно,
необходимо, чтобы между этими обстоятельствами и употреблением термина (или, по другому,
произнесением его токена) было установлено какое-то достаточно прочное соответствие. Иначе
затруднительно будет осмысленно говорить даже о способе употребления как о чем-то
сравнительно устойчивом на множестве ситуаций постановки задач и выбора средств их решения.
Очевидно, осознание (что бы под этим не подразумевалось в отсутствие общепринятой концепции
сознания) ситуативной цели и представление о релевантных ее достижению средствах должны
также быть частью интенциональной составляющей употребления термина. Однако, мы можем
продолжать сомневаться в том, насколько, в случае, когда речь идет об интенции указать на
объект, индивидуальные представленния о цели и о средствах ее достижения хорошо
скоординированы; ведь если нет, мы вполне можем, и оправданно, усомниться в том, насколько
факт употребления термина с интенцией указать на тот или иной объект позволяет считать
указание успешным или, иначе, состоявшимся, а употребление термина, соответственно,
референциальным — даже если под употреблением с интенцией мы понимаем нечто достаточно
строгое, вроде действительной мотивированности данного произнесения токена данным и никаким
другим интенционально-пропозициональным комплексом
[9]
. Уже так называемый здравый смысл
подсказывает, что следующие случаи вряд ли равноценны в отношении обоснованности наших
выводов относительно характера значимости токенов, основанных на интенциональном критерии.
Если известно, что агент лично знаком с Джонсом или знает о нем достаточно, чтобы
индивидуировать его в соответствующей ситуации, то мы с куда большей легкостью согласимся
считать его интенцию указать на Джонса достаточным основанием для вывода о референциальной
значимости имени или определенной дескрипции, котороую ему вздумается с этой целью
употребить (даже если она мало согласуется с тем, что другие, действительные или
потенциальные, участники коммуникации привычно используют для указания на Джонса), чем в
том случае, когда степень осведомленности агента относительно объекта предполагаемой
референции не известна и, тем более, когда она не может быть установлена. Здесь, правда, можно
аргументировать сохранения интенционального критерия отказом считать для агента возможным
делать что-то с интенцией указать на Джонса, если он не в достаточной степени осведомлен
относительно того, кто такой Джонс. В этом случае, однако, вопрос о границах достаточности
такого знания, как будет далее показано, прямо ведет к объяснению, не нуждающемуся в
интенциональном критерии. С другой стороны, если все остальные участники коммуникации
привычно связывают некий термин с одним объектом, а агент употребляет его для указания на
другой, то тот же здравый смысл подсказывает усомниться в том, что такое указание может быть
успешным, что такая индивидуальная интенция, иначе говоря, вообще выполнима, если только
агентом или кем-то еще не проведена предварительная работа по разъяснению другим участникам
коммуникации характера употребления данным агентом данного термина.
Критика концепции интенциональности не является нашей задачей в этой работе; однако,
далее, пожалуй, осмысленно было бы чуть подробнее остановиться на обсуждении вопроса о том,
как интенциональное объяснение референции может зависеть от объяснения, не предполагающего
с необходимостью использование понятий индивидуальных мотивов, ментальных причин,
интенциональности и им подобных, и, соответственно, как прагматическая теория референции
может не быть итенциональной.

3.1.2 Интенциональные условия референции
Различаются интенциональные объяснения двух основных видов: телеологическое и
каузальное. При каузальной интерпретации, одна из наиболее влятельных версий которой в
современной философии представлена теорией ментальных причин Д. Дэвидсона
[10]
, поведение
агента (в том числе, разумеется, вербальное) можно считать интенциональным если и только если
оно вызвано теми установками (в терминологии Дэвидсона) агента, которые являются
основаниями этого его поведения (могут быть приведены в качестве таковых). Факт
действительной мотивированности агента соответствующим интенционально-пропозициональным
комплексом — существенная компонента объяснения при таком подходе. Просто привести те или
иные интенциональные основания для трактовки, скажем, произнесения токена как нацеленного
на указание, согласно Дэвидсону и другим защитникам каузально-интенционального подхода —
недостаточно для того, чтобы объяснить это вербальное поведение интенционально; это только
позволяет рационализовать его, т.е. сопоставить с наличными интерпретативными схемами. Но
для того, чтобы можно было говорить об интенциях, желаниях, волениях, полаганиях и др. как о
причинах рационального поведения, они должны полагаться имеющими форму событий —
ментальных событий — посколько только события, согласно Дэвидсону, могут быть в
оригинальном смысле быть причинами и следствиями. Связь между причинами и их следствиями
устанавливается номически, т.е. посредством законов; и необходимость этой связи, следовательно,
зависит от того в каком смысле необходимыми признаются соответствующие законы или
законоподобные утверждения. При телеологическом подходе к построению интенционального
объяснения, значительнейший вклад в разработку которого внес Г. Х. фон Вригт, существенной
признается только логическая связь междуописаниями действий и интенциональных
характеристик, соответственно. Телеологическое интенциональное объяснение, согласно фон
Вригту, имеет форму так называемого практического силлогизма:
"С настоящего момента А (агент) намеревается осуществить р во время t.
С настоящего момента А считает, что если он ен совершит а не позднее, чем во время t’, он не
сможет осуществить р во время t.
Следовательно, не позднее, чем когда, по его мнению, наступило время t’, А принимается за
совершение а, если он не забывает о времени или не сталкивается с препятствием."
[11]
Мы не можем, согласно фон Вригту, утверждая посылки практического силлогизма, отрицать
его следствие
[12]
; только все целиком это рассуждение может быть ложным относительно агента.
Этот тип объяснения может действительно казаться недостаточным в том смысле, что
относительно конретных случаев мы можем не иметь средств выяснить насколько наше
формально правильное рассуждение объясняет поведение агента в данный момент. Если так, то
указание на действительную мотивированность соответствующего поведения агента
обозначенными в посылках интенционально-пропозициональными характеристиками может
выглядеть адекватным дополнением практического рассуждения до подлинного объяснения.
Между тем, определить какие-либо две вещи как причину и ее следствие, в конечном счете,
означает описать их как причину и следствие, соответственно. Но описания ментальных
характеристик как событий не свободны от использования терминов действия (например, ‘хочет
открыть окно’). Между тем, описание событий в терминах причинности, если причинность
истолкована в духе Юма — а именно так толкуют ее Дэвидсон и другие защитники каузального
интенционального объяснения — предполагает, что между причинами и следствиями не должно
быть логической зависимости. Отсюда — так называемый аргумент логической связи. Согласно
этому аргументу, поскольку ментальные характеристики не могут быть описаны как причины и
следствия без привлечения терминов действий, то их каузальные характеристики оказываются
зависимыми от концептуальных или, иначе, логических связей между соответствующими
дескрипциями. Если так, то связи между релевантными ментальными характеристиками и
поведением, в том числе вербальным, не могут быть в Юмовом смысле каузальными
[13]
. Ответ
защитников каузального подхода, прежде всего Дэвидсона, состоит в указании на то, что не
следует путать отношения между событиями с отношениями между их дескрипциями, и в
утверждении, что тот факт, что две дескрипции логически зависимы
[14]
, может не исключать
возможности для соответствующих событий, удовлетворяющих этим дескрипциям, быть
каузально связанными. Между тем, с точки зрения его телеологической интерпретации, вывод о
том, что поведение и ментальные события, как события, но не как дескрипции, могут быть связаны
каузально, если и может быть признан, то все равно может быть использован для подтверждения

того, что, что бы ни происходило внутри агента на каузальном уровне, только логические
отношения между дескрипциями конститутивны для интенционального объяснения.
Как защитники, так и противники каузальной концепции действия согласны в том, что
события должны подпадать под строгие детерминистсике законы для того, чтобы считаться
каузально связанными. Но существуют серьезные сомнения в отношении того, способна ли
психология продуцировать такие законы. Так, Дэвидсон полагает, что устанавливать причинные
отношения способна только физика, поскольку она — единственный источник номологий
требуемого вида. Раз так, то ментальные события, чтобы удовлетворять каузальным дескрипциям,
должны быть, согласно Дэвидсону, тождественны физическим событиям
[15]
. Релевантные события
— процессы в мозгу, описываемые в терминах нейрофизиологии. Таким образом, в той мере, в
какой нейрофизиология сводима к физике, между процессами в мозгу и поведением (телесными
движениями) могут устанавливаться каузальные отношения. Но на чем может основываться
отождествление процессов в мозгу или каких-угодно физически описываемых событий, которые
только могут быть признаны каузально релевантными, с психическими или ментальными
событиями? Естественное предложение — допустить существование или возможносить так
называемых покрывающих (covering) психофизических законов, которые номически связывали бы
ментальные характеристики с физическими или, иначе говоря, обеспечивали бы переводимость
всех ментальных предикатов на язык физики. Это было бы, однако, весьма сильным допущением,
поскольку сама возможность таких законов вызывает большие сомнения; так, Дэвидсон считает,
что подобные обобщения, нацеленные на редукцию психологии в целом к физике, не могут быть
признаны законами в строгом смысле
[16]
. У идеи покрывающих психофизических законов есть как
противники, так и защитники; последним важно отстаивать его, поскольку они считают, что иначе
невозможно будет отстоять и психофизическое тождество в объеме, необходимом для каузального
объяснения действий. Противники этого взгляда, в свою очередь, полагают, что отказ от идеи
психофизических покрывающих законов должен влечь за собой и несостоятельность объяснения
действий в терминах ментальных причин. Дэвидсон, очевидно, не разделяет ни одну из позиций,
считая, что идея тождества физических и психических событий не так сильно зависит от
возможности установления психофизических законов, чтобы отказ от второй с необходимостью
влек за собой отказ от первой. С его точки зрения, все события — физические, и любое ментальное
событие может быть описано как физическое. Для того, чтобы утверждать это, не обязательно
предполагать соответствующие психофизические законы. Ментальные и физические
характеристики атрибутируются с точки зрения различных концептуальных схем; перевод одной
на язык другой невозможен вследствие неопределенности перевода. Поэтому психическое не
сводимо к физическому: отношение между этими характеристиками, согласно Дэвидсону, такое
же, как, например, между семантическими характеристиками и синтаксическими — отношение
нерудуктивной зависимости (supervenience). Оно предполагает, что:
"…не может быть двух событий, подобных во всех физических отношениях, но
различающихся в некотором ментальном отношении, или что объект не может измениться в
некотором ментальном отношении, не изменившись в некотором физическом отношении"
[17]
.
Заметим, что рассматриваемые подходы — как телеологический, так и каузальный —
разрабытывают интенциональные объяснения действий; существенным аспектом этой задачи
является построение критерия отличия рационального поведения от так называемого простого
поведения, куда относят разного рода рефлекторные движения, конвульсии, тики, мышечные
сокращения и так называемые непроизвольные движения, в том числе и вербальные — стоны,
вскрикивания, вздохи, бормотания и т.д. Собственно объяснение действий, однако, не является
здесь предметом нашего рассмотрения; эти подходы интересуют нас лишь постольку, поскольку
они проливают свет на предпосылки интенционального объяснения в его применении к вопросу о
референции. Для нас важно показать, что даже в том случае, когда теория референции строится на
прагматических основаниях — когда референциальная значимость термина берется как функция
от способов его употребления — она может быть построена без ссылок на интенциональность.
Описать поведение интенционально, с точки зрения телеологической интерпретации, значит
охарактеризовать его как действие, и наоборот; очевидно, что при таком подходе просто
невозможно спутать действие с простым поведением. Интенциональность, с этой точки зрения не
есть ментальный акт или переживание, не есть нечто отдельное от поведения и, в то же время, не
есть нечто, что можно обнаружить исследуя поведение агента в данный момент времени.
Интенциональность, как структура соответствий между описаниями действий и интенционально-
