Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева
Подождите немного. Документ загружается.

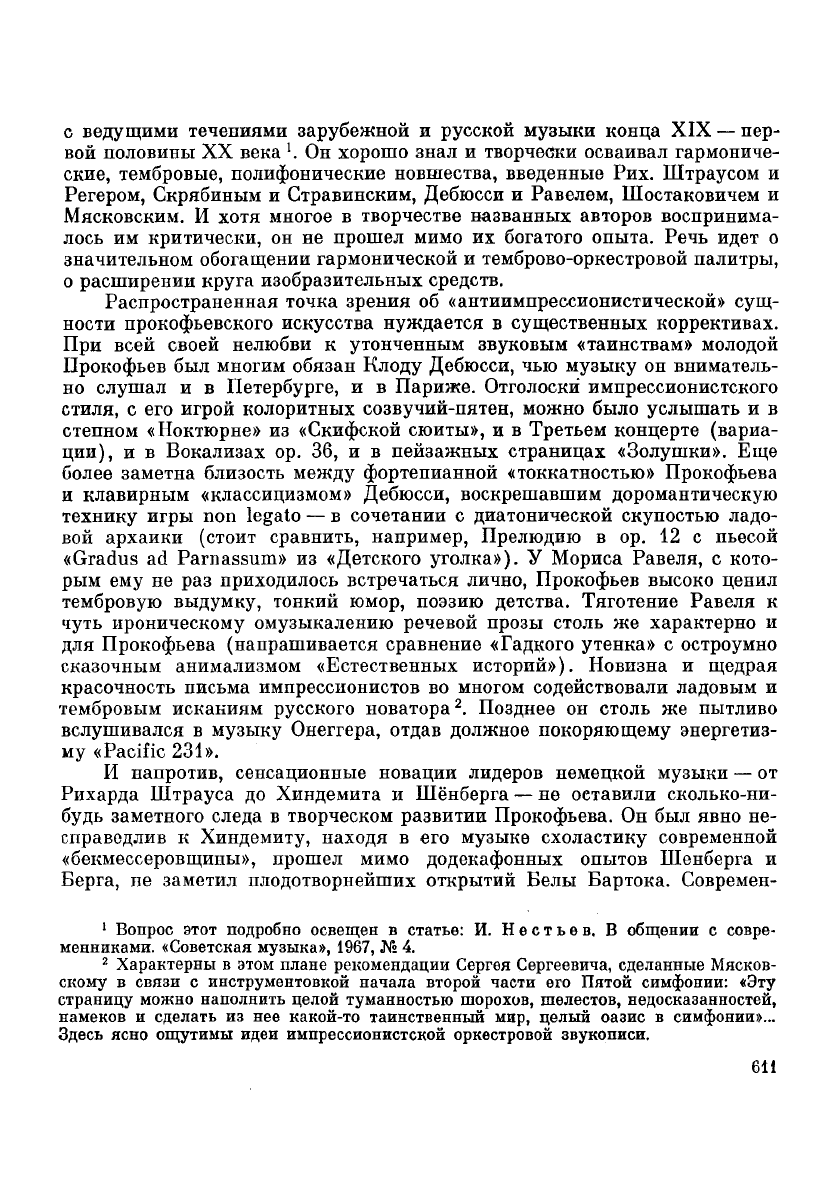
с ведущими течениями зарубежной и русской музыки конца XIX — пер-
вой половины XX века Он хорошо знал и творчески осваивал гармониче-
ские, тембровые, полифонические новшества, введенные Рих. Штраусом и
Регером, Скрябиным и Стравинским, Дебюсси и Равелем, Шостаковичем и
Мясковским. И хотя многое в творчестве названных авторов воспринима-
лось им критически, он не прошел мимо их богатого опыта. Речь идет о
значительном обогащении гармонической и темброво-оркестровой палитры,
о расширении круга изобразительных средств.
Распространенная точка зрения об «антиимпрессионистической» сущ-
ности прокофьевского искусства нуждается в существенных коррективах.
При всей своей нелюбви к утонченным звуковым «таинствам» молодой
Прокофьев был многим обязан Клоду Дебюсси, чью музыку он вниматель-
но слушал и в Петербурге, и в Париже. Отголоски импрессионистского
стиля, с его игрой колоритных созвучий-пятен, можно было услышать и в
степном «Ноктюрне» из «Скифской сюиты», и в Третьем концерте (вариа-
ции), и в Вокализах ор. 36, и в пейзажных страницах «Золушки». Еще
более заметна близость между фортепианной «токкатностью» Прокофьева
и клавирным «классицизмом» Дебюсси, воскрешавшим доромантическую
технику игры поп legato — в сочетании с диатонической скупостью ладо-
вой архаики (стоит сравнить, например. Прелюдию в ор. 12 с пьесой
«Gradus ad Parnassum» из «Детского уголка»). У Мориса Равеля, с кото-
рым ему не раз приходилось встречаться лично, Прокофьев высоко ценил
тембровую выдумку, тонкий юмор, поэзию детства. Тяготение Равеля к
чуть ироническому омузыкалению речевой прозы столь же характерно и
для Прокофьева (напрашивается сравнение «Гадкого утенка» с остроумно
сказочным анимализмом «Естественных историй»). Новизна и щедрая
красочность письма импрессионистов во многом содействовали ладовым и
тембровым исканиям русского новатора Позднее он столь же пытливо
вслушивался в музыку Онеггера, отдав должное покоряющему энергетиз-
му «Pacific 231».
И напротив, сенсационные новации лидеров немецкой музыки — от
Рихарда Штрауса до Хиндемита и Шёнберга — не оставили сколько-ни-
будь заметного следа в творческом развитии Прокофьева. Он был явно не-
справедлив к Хиндемиту, находя в его музыке схоластику современной
«бекмессеровщины», прошел мимо додекафонных опытов Шенберга и
Берга, не заметил плодотворнейших открытий Белы Бартока. Современ-
' Вопрос этот подробно освещен в статье: И. Нестьев. В общении с совре-
менниками. «Советская музыка», 1967, № 4.
2 Характерны в этом плане рекомендации Сергея Сергеевича, сделанные Мясков-
скому в связи с инструментовкой начала второй части его Пятой симфонии: «Эту
страницу можно наполнить целой туманностью шорохов, шелестов, недосказанностей,
намеков и сделать из нее какой-то таинственный мир, целый оазис в симфонии»...
Здесь ясно ощутимы идеи импрессионистской оркестровой звукописи.
611:
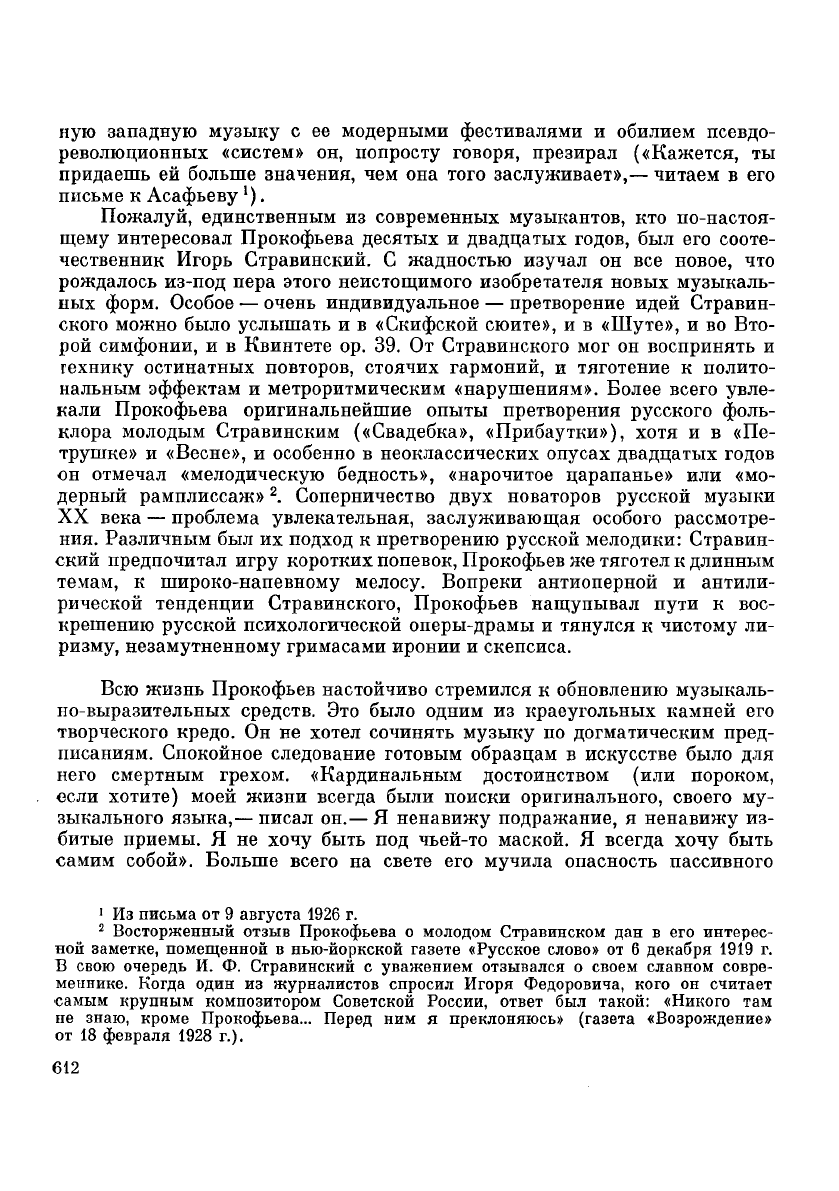
ную западную музыку с ее модерными фестивалями и обилием псевдо-
революционных «систем» он, попросту говоря, презирал («Кажется, ты
придаешь ей больше значения, чем она того заслуживает»,— читаем в его
письме к Асафьеву ').
Пожалуй, единственным из современных музыкантов, кто по-настоя-
щему интересовал Прокофьева десятых и двадцатых годов, был его сооте-
чественник Игорь Стравинский. С жадностью изучал он все новое, что
рождалось из-под пера этого неистощимого изобретателя новых музыкаль-
ных форм. Особое — очень индивидуальное — претворение идей Стравин-
ского можно было услышать и в «Скифской сюите», и в «Шуте», и во Вто-
рой симфонии, и в Квинтете ор. 39. От Стравинского мог он воспринять и
технику остинатных повторов, стоячих гармоний, и тяготение к полито-
нальным эффектам и метроритмическим «нарушениям». Более всего увле-
кали Прокофьева оригинальнейшие опыты претворения русского фоль-
клора молодым Стравинским («Свадебка», «Прибаутки»), хотя и в «Пе-
трушке» и «Весне», и особенно в неоклассических опусах двадцатых годов
он отмечал «мелодическую бедность», «нарочитое царапанье» или «мо-
дерный рамплиссаж» Соперничество двух новаторов русской музыки
XX века — проблема увлекательная, заслуживающая особого рассмотре-
ния. Различным был их подход к претворению русской мелодики: Стравин-
ский предпочитал игру коротких попевок, Прокофьев же тяготел к длинным
темам, к широко-напевному мелосу. Вопреки антиоперной и антили-
рической тенденции Стравинского, Прокофьев нащупывал пути к вос-
крешению русской психологической оперы-драмы и тянулся к чистому ли-
ризму, незамутненному гримасами иронии и скепсиса.
Всю жизнь Прокофьев настойчиво стремился к обновлению музыкаль-
но-выразительных средств. Это было одним из краеугольных камней его
творческого кредо. Он не хотел сочинять музыку по догматическим пред-
писаниям. Спокойное следование готовым образцам в искусстве было для
него смертным грехом. «Кардинальным достоинством (или пороком,
если хотите) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего му-
зыкального языка,— писал он.— Я ненавижу подражание, я ненавижу из-
битые приемы. Я не хочу быть под чьей-то маской. Я всегда хочу быть
самим собой». Больше всего на свете его мучила опасность пассивного
• Из письма от 9 августа 1926 г.
^ Восторженный отзыв Прокофьева о молодом Стравинском дан в его интерес-
ной заметке, помещенной в нью-йоркской газете «Русское слово» от 6 декабря 1919 г.
В свою очередь И. Ф. Стравинский с уважением отзывался о своем славном совре-
меннике. Когда один из журналистов спросил Игоря Федоровича, кого он считает
самым крупным композитором Советской России, ответ был такой: «Никого там
не знаю, кроме Прокофьева... Перед ним я преклоняюсь» (газета «Возрождение»
от 18 февраля 1928 г.).
612:
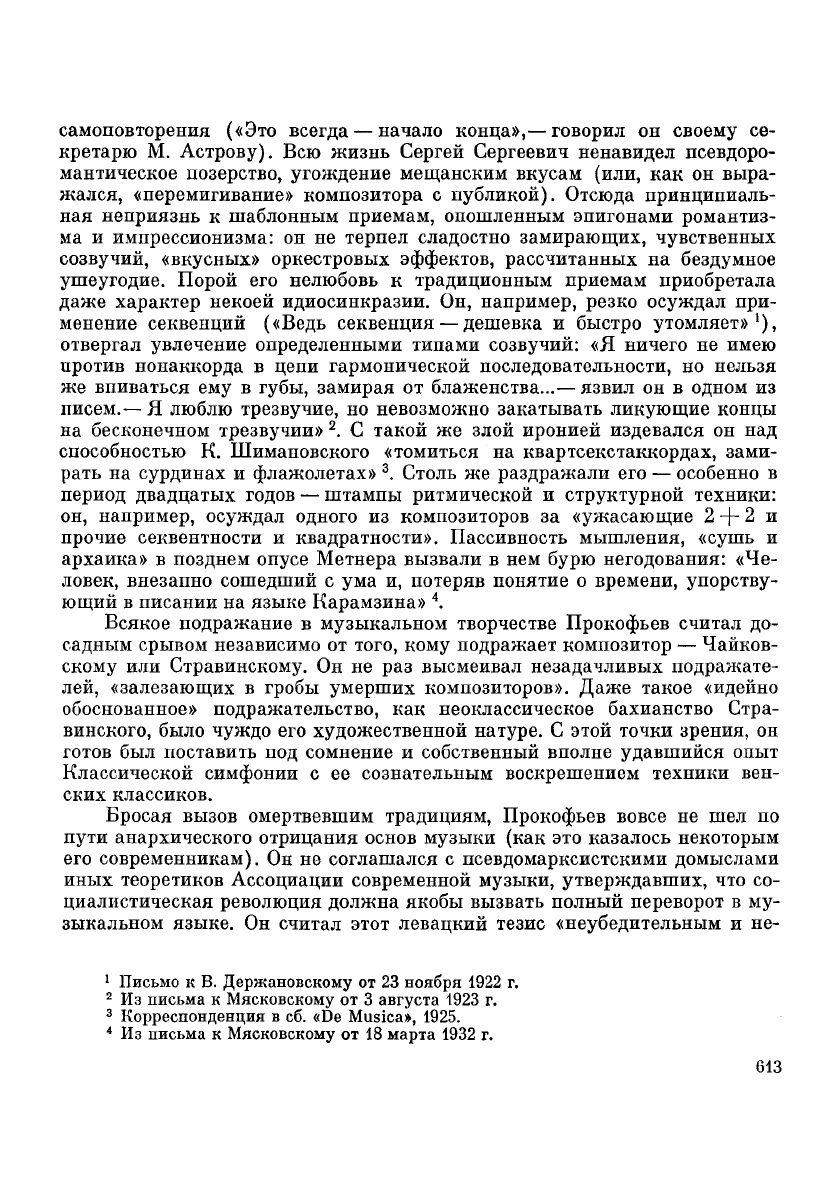
самоповторения («Это всегда — начало конца»,—говорил он своему се-
кретарю М. Астрову). Всю жизнь Сергей Сергеевич ненавидел псевдоро-
мантическое позерство, угождение мещанским вкусам (или, как он выра-
жался, «перемигивание» композитора с публикой). Отсюда принципиаль-
ная неприязнь к шаблонным приемам, опошленным эпигонами романтиз-
ма и импрессионизма: он не терпел сладостно замирающих, чувственных
созвучий, «вкусных» оркестровых эффектов, рассчитанных на бездумное
ушеугодие. Порой его нелюбовь к традиционным приемам приобретала
даже характер некоей идиосинкразии. Он, например, резко осуждал при-
менение секвенций («Ведь секвенция — дешевка и быстро утомляет»'),
отвергал увлечение определенными типами созвучий: «Я ничего не имею
против нонаккорда в цепи гармонической последовательности, но нельзя
же впиваться ему в губы, замирая от блаженства...— язвил он в одном из
писем.— Я люблю трезвучие, по невозможно закатывать ликующие концы
на бесконечном трезвучии» С такой же злой иронией издевался он над
способностью К. Шимановского «томиться па квартсекстаккордах, зами-
рать на сурдинах и флажолетах» Столь же раздражали его — особенно в
период двадцатых годов — штампы ритмической и структурной техники:
он, например, осуждал одного из композиторов за «ужасающие 2 + 2 и
прочие секвептности и квадратности». Пассивность мышления, «сушь и
архаика» в позднем опусе Метнера вызвали в нем бурю негодования: «Че-
ловек, внезапно сошедший с ума и, потеряв понятие о времени, упорству-
ющий в писании на языке Карамзина»
Всякое подражание в музыкальном творчестве Прокофьев считал до-
садным срывом независимо от того, кому подражает композитор — Чайков-
скому или Стравинскому. Он не раз высмеивал незадачливых подражате-
лей, «залезающих в гробы умерших композиторов». Даже такое «идейно
обоснованное» подражательство, как неоклассическое бахианство Стра-
винского, было чуждо его художественной натуре. С этой точки зрения, он
готов был поставить под сомнение и собственный вполне удавшийся опыт
Классической симфонии с ее сознательным воскрешением техники вен-
ских классиков.
Бросая вызов омертвевшим традициям, Прокофьев вовсе не шел по
пути анархического отрицания основ музыки (как это казалось некоторым
его современникам). Он не соглашался с псевдомарксистскими домыслами
иных теоретиков Ассоциации современной музыки, утверждавших, что со-
циалистическая революция должна якобы вызвать полный переворот в му-
зыкальном языке. Он считал этот левацкий тезис «неубедительным и не-
' Письмо к В. Держановскому от 23 ноября 1922 г.
2 Из письма к Мясковскому от 3 августа 1923 г.
® Корреспонденция в сб. «De Musica», 1925.
^ Из письма к Мясковскому от 18 марта 1932 г.
613:
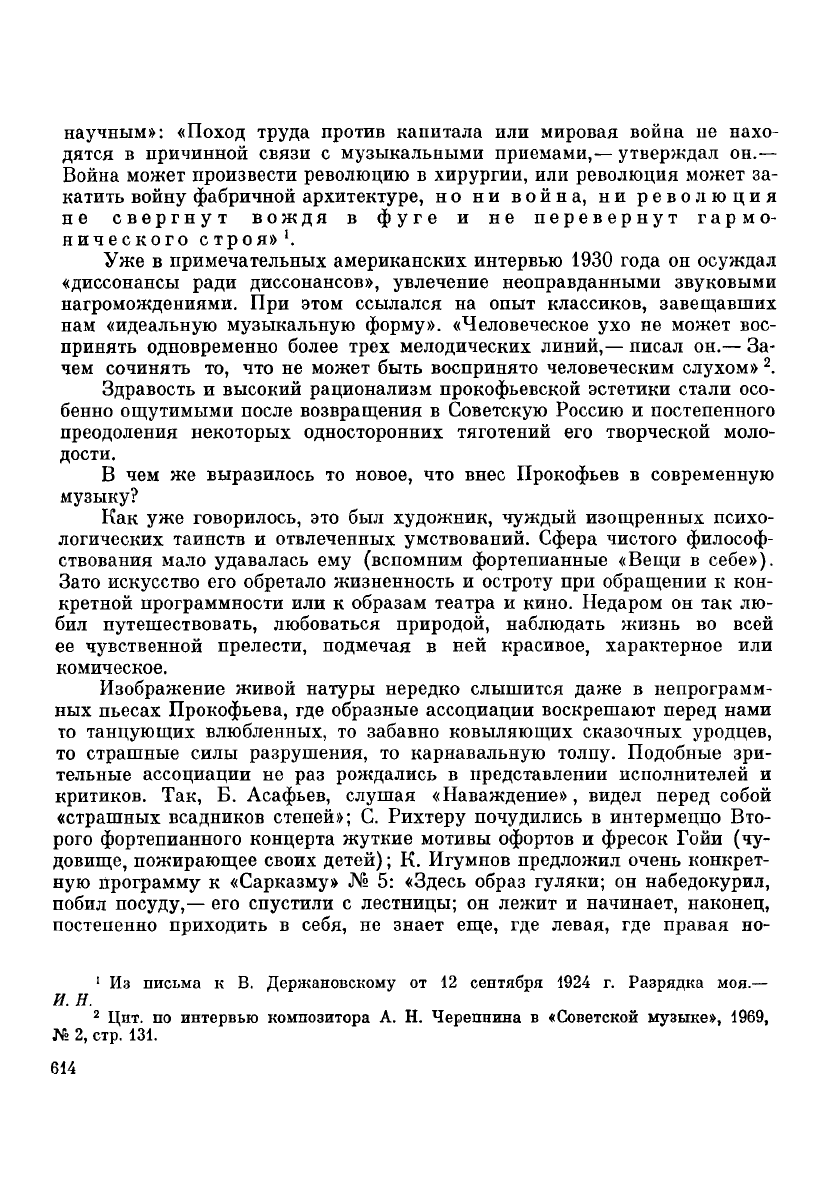
научным»: «Поход труда против капитала или мировая война не нахо-
дятся в причинной связи с музыкальными приемами,— утверждал он.—
Война может произвести революцию в хирургии, или революция может за-
катить войну фабричной архитектуре, но ни война, ни революция
не свергнут вождя в фуге и не перевернут гармо-
нического строя»'.
Уже в примечательных американских интервью 1930 года он осуждал
«диссонансы ради диссонансов», увлечение неоправданными звуковыми
нагромождениями. При этом ссылался на опыт классиков, завещавших
нам «идеальную музыкальную форму». «Человеческое ухо не может вос-
принять одновременно более трех мелодических линий,— писал он.— За-
чем сочинять то, что не может быть воспринято человеческим слухом»
Здравость и высокий рационализм прокофьевской эстетики стали осо-
бенно ощутимыми после возвращения в Советскую Россию и постепенного
преодоления некоторых односторонних тяготений его творческой моло-
дости.
В чем же выразилось то новое, что внес Прокофьев в современную
музыку?
Как уже говорилось, это был художник, чуждый изощренных психо-
логических таинств и отвлеченных умствований. Сфера чистого философ-
ствования мало удавалась ему (вспомним фортепианные «Вещи в себе»).
Зато искусство его обретало жизненность и остроту при обращении к кон-
кретной программности или к образам театра и кино. Недаром он так лю-
бил путешествовать, любоваться природой, наблюдать жизнь во всей
ее чувственной прелести, подмечая в ней красивое, характерное или
комическое.
Изображение живой натуры нередко слышится даже в непрограмм-
ных пьесах Прокофьева, где образные ассоциации воскрешают перед нами
то танцующих влюбленных, то забавно ковыляющих сказочных уродцев,
то страшные силы разрушения, то карнавальную толпу. Подобные зри-
тельные ассоциации не раз рождались в представлении исполнителей и
критиков. Так, Б. Асафьев, слушая «Наваждение», видел перед собой
«страшных всадников степей»; С. Рихтеру почудились в интермеццо Вто-
рого фортепианного концерта жуткие мотивы офортов и фресок Гойи (чу-
довище, пожирающее своих детей); К. Игумнов предложил очень конкрет-
ную программу к «Сарказму» № 5: «Здесь образ гуляки; он набедокурил,
побил посуду,— его спустили с лестницы; он лежит и начинает, наконец,
постепенно приходить в себя, не знает еще, где левая, где правая но-
' Из письма к В. Держановскому от 12 сентября 1924 г. Разрядка моя.—
И.Н.
^ Цит. по интервью композитора А. Н. Черепнина в «Советской музыке», 1969,
№ 2, стр. 131.
614:
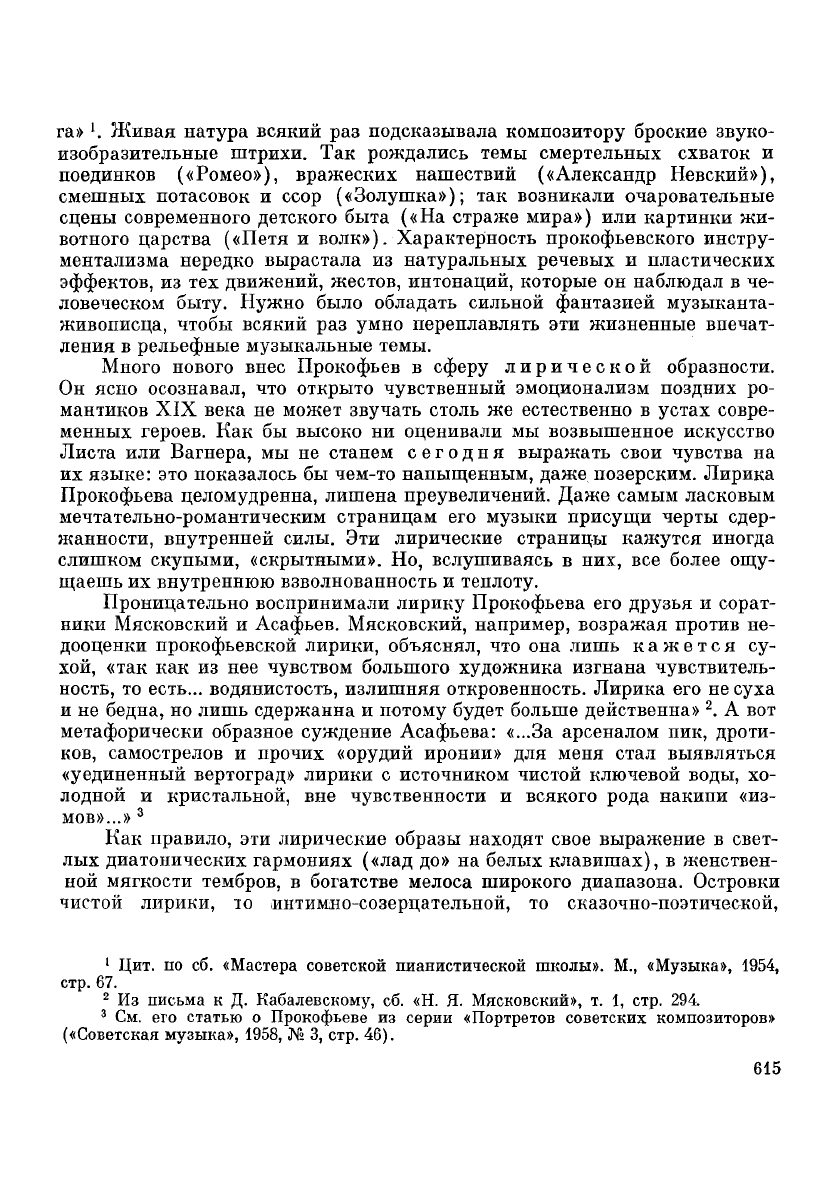
га» Живая натура всякий раз подсказывала композитору броские звуко-
изобразительные штрихи. Так рождались темы смертельных схваток и
поединков («Ромео»), вражеских нашествий («Александр Невский»),
смешных потасовок и ссор («Золушка»); так возникали очаровательные
сцены современного детского быта («На страже мира») или картинки жи-
вотного царства («Петя и волк»). Характерность прокофьевского инстру-
ментализма нередко вырастала из натуральных речевых и пластических
эффектов, из тех движений, жестов, интонаций, которые он наблюдал в че-
ловеческом быту. Нужно было обладать сильной фантазией музыканта-
живописца, чтобы всякий раз умно переплавлять эти жизненные впечат-
ления в рельефные музыкальные темы.
Много нового внес Прокофьев в сферу лирической образности.
Он ясно осознавал, что открыто чувственный эмоционализм поздних ро-
мантиков XIX века не может звучать столь же естественно в устах совре-
менных героев. Как бы высоко ни оценивали мы возвышенное искусство
Листа или Вагнера, мы не станем сегодня выражать свои чувства на
их языке: это показалось бы чем-то напыщенным, даже позерским. Лирика
Прокофьева целомудренна, лишена преувеличений. Даже самым ласковым
мечтательно-романтическим страницам его музыки присущи черты сдер-
жанности, внутренней силы. Эти лирические страницы кажутся иногда
слишком скупыми, «скрытными». Но, вслушиваясь в них, все более ощу-
щаешь их внутреннюю взволнованность и теплоту.
Проницательно воспринимали лирику Прокофьева его друзья и сорат-
ники Мясковский и Асафьев. Мясковский, например, возражая против не-
дооценки прокофьевской лирики, объяснял, что она .чишь кажется су-
хой, «так как из нее чувством большого художника изгнана чувствитель-
ность, то есть... водянистость, излишняя откровенность. Лирика его не суха
и не бедна, но лишь сдержанна и потому будет больше действенна» А вот
метафорически образное суждение Асафьева: «...За арсеналом пик, дроти-
ков, самострелов и прочих «орудий иронии» для меня стал выявляться
«уединенный вертоград» лирики с источником чистой ключевой воды, хо-
лодной и кристальной, вне чувственности и всякого рода накипи «из-
мов»...» ^
Как правило, эти лирические образы находят свое выражение в свет-
лых диатонических гармониях («лад до» на белых клавишах), в женствен-
ной мягкости тембров, в богатстве мелоса широкого диапазона. Островки
чистой лирики, то интимно-созерцательной, то сказочно-поэтической.
' Цит. по сб. «Мастера советской пианистической школы». М., «Музыка», 1954,
стр. 67.
2 Из письма к Д. Кабалевскому, сб. «Н. Я. Мясковский», т. 1, стр. 294
' См. его статью о Прокофьеве из серии «Портретов советских композиторов»
(«Советская музыка», 1958, № 3, стр. 46).
615:
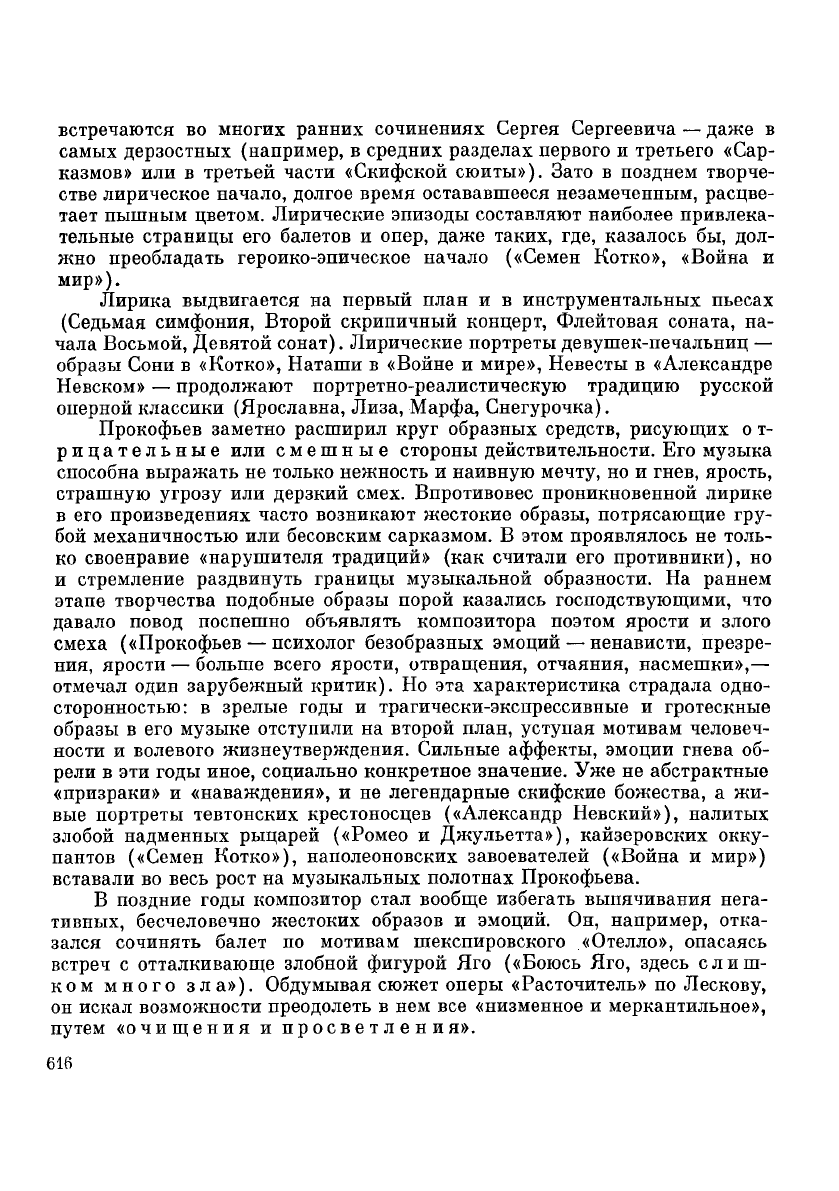
встречаются во многих ранних сочинениях Сергея Сергеевича — даже в
самых дерзостных (например, в средних разделах первого и третьего «Сар-
казмов» или в третьей части «Скифской сюиты»). Зато в позднем творче-
стве лирическое начало, долгое время остававшееся незамеченным, расцве-
тает пышным цветом. Лирические эпизоды составляют наиболее привлека-
тельные страницы его балетов и опер, даже таких, где, казалось бы, дол-
жно преобладать героико-эпическое начало («Семен Котко», «Война и
мир»).
Лирика выдвигается на первый план и в инструментальных пьесах
(Седьмая симфония. Второй скрипичный концерт. Флейтовая соната, на-
чала Восьмой, Девятой сонат). Лирические портреты девушек-печальниц —
образы Сони в «Котко», Наташи в «Войне и мире». Невесты в «Александре
Невском» — продолжают портретно-реалистическую традицию русской
оперной классики (Ярославна, Лиза, Марфа, Снегурочка).
Прокофьев заметно расширил круг образных средств, рисующих о т-
рицательные или смешные стороны действительности. Его музыка
способна выражать не только нежность и наивную мечту, но и гнев, ярость,
страшную угрозу или дерзкий смех. Впротивовес проникновенной лирике
в его произведениях часто возникают жестокие образы, потрясающие гру-
бой механичностью или бесовским сарказмом. В этом проявлялось не толь-
ко своенравие «нарушителя традиций» (как считали его противники), но
и стремление раздвинуть границы музыкальной образности. На раннем
этапе творчества подобные образы порой казались господствующими, что
давало повод поспешно объявлять композитора поэтом ярости и злого
смеха («Прокофьев — психолог безобразных эмоций — ненависти, презре-
ния, ярости — больше всего ярости, отвращения, отчаяния, насмешки»,—
отмечал один зарубежный критик). Но эта характеристика страдала одно-
сторонностью: в зрелые годы и трагически-экспрессивные и гротескные
образы в его музыке отступили на второй план, уступая мотивам человеч-
ности и волевого жизнеутверждепия. Сильные аффекты, эмоции гнева об-
рели в эти годы иное, социально конкретное значение. Уже не абстрактные
«призраки» и «наваждения», и не легендарные скифские божества, а жи-
вые портреты тевтонских крестоносцев («Александр Невский»), налитых
злобой надменных рыцарей («Ромео и Джульетта»), кайзеровских окку-
пантов («Семен Котко»), наполеоновских завоевателей («Война и мир»)
вставали во весь рост на музыкальных полотнах Прокофьева.
В поздние годы композитор стал вообще избегать выпячивания нега-
тивных, бесчеловечно жестоких образов и эмоций. Он, например, отка-
зался сочинять балет по мотивам шекспировского «Отелло», опасаясь
встреч с отталкивающе злобной фигурой Яго («Боюсь Яго, здесь слиш-
ком много зла»). Обдумывая сюжет оперы «Расточитель» по Лескову,
он искал возможности преодолеть в нем все «низменное и меркантильное»,
путем «очищения и просветления».
616:
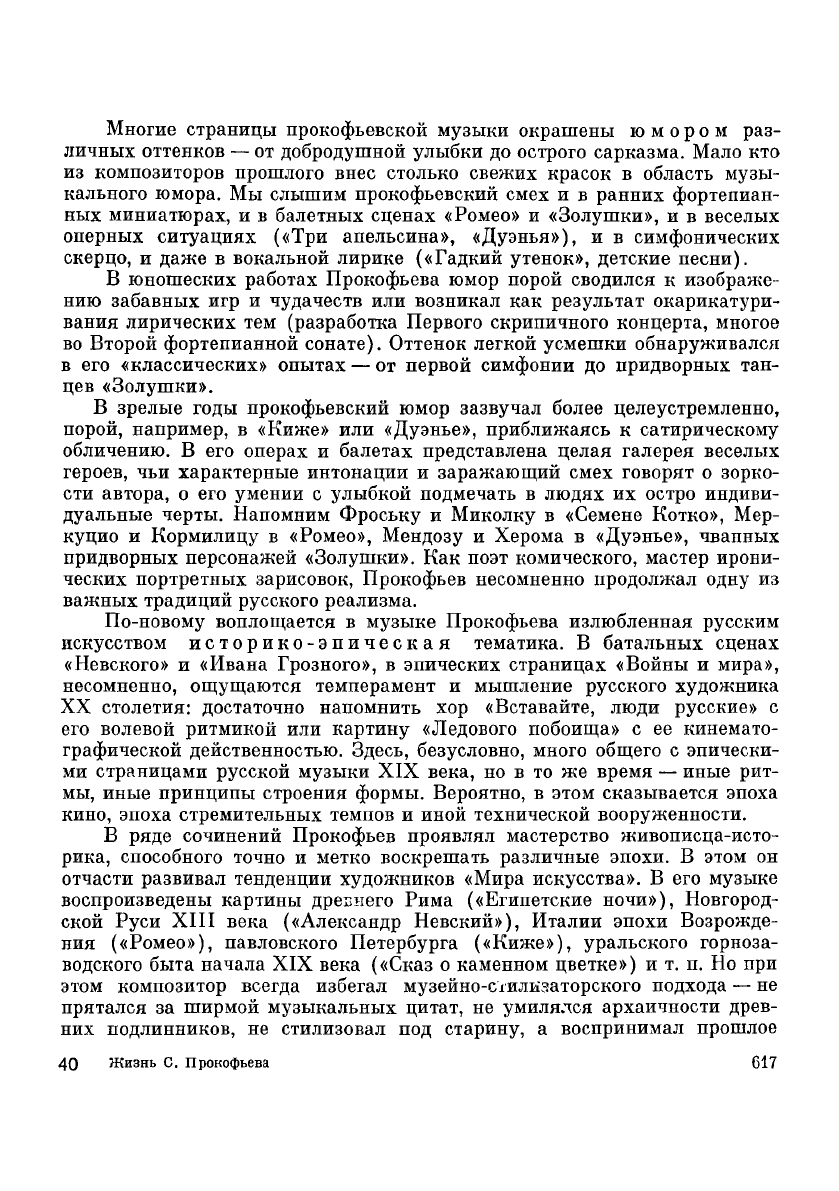
Многие страницы прокофьевской музыки окрашены юмором раз-
личных оттенков — от добродушной улыбки до острого сарказма. Мало кто
из композиторов прошлого внес столько свежих красок в область музы-
кального юмора. Мы слышим прокофьевский смех и в ранних фортепиан-
ных миниатюрах, и в балетных сценах «Ромео» и «Золушки», и в веселых
оперных ситуациях («Три апельсина», «Дуэнья»), и в симфонических
скерцо, и даже в вокальной лирике («Гадкий утенок», детские песни).
В юношеских работах Прокофьева юмор порой сводился к изображе-
нию забавных игр и чудачеств или возникал как результат окарикатури-
вания лирических тем (разработка Первого скрипичного концерта, многое
во Второй фортепианной сонате). Оттенок легкой усмешки обнаруживался
в его «классических» опытах — от первой симфонии до придворных тан-
цев «Золушки».
В зрелые годы прокофьевский юмор зазвучал более целеустремленно,
порой, например, в «Киже» или «Дуэнье», приближаясь к сатирическому
обличению. В его онерах и балетах представлена целая галерея веселых
героев, чьи характерные интонации и заражающий смех говорят о зорко-
сти автора, о его умении с улыбкой подмечать в людях их остро индиви-
дуальные черты. Напомним Фроську и Миколку в «Семене Котко», Мер-
куцио и Кормилицу в «Ромео», Мендозу и Херома в «Дуэнье», чванных
придворных персонажей «Золушки». Как поэт комического, мастер ирони-
ческих портретных зарисовок, Прокофьев несомненно продолжал одну из
важных традиций русского реализма.
По-новому воплощается в музыке Прокофьева излюбленная русским
искусством историко-эпическая тематика. В батальных сценах
«Невского» и «Ивана Грозного», в эпических страницах «Войны и мира»,
несомненно, ощущаются темперамент и мышление русского художника
XX столетия: достаточно напомнить хор «Вставайте, люди русские» с
его волевой ритмикой или картину «Ледового побоища» с ее кинемато-
графической действенностью. Здесь, безусловно, много общего с эпически-
ми страницами русской музыки XIX века, но в то же время — иные рит-
мы, иные принципы строения формы. Вероятно, в этом сказывается эпоха
кино, эпоха стремительных темпов и иной технической вооруженности.
В ряде сочинений Прокофьев проявлял мастерство живописца-исто-
рика, способного точно и метко воскрешать различные эпохи. В этом он
отчасти развивал тенденции художников «Мира искусства». В его музыке
воспроизведены картины древнего Рима («Египетские ночи»), Новгород-
ской Руси XIII века («Александр Невский»), Италии эпохи Возрожде-
ния («Ромео»), павловского Петербурга («Киже»), уральского горноза-
водского быта начала XIX века («Сказ о каменном цветке») и т. п. Но при
этом композитор всегда избегал музейно-сгилкзаторского подхода — не
прятался за ширмой музыкальных цитат, не умилялся архаичности древ-
них подлинников, не стилизовал под старину, а воспринимал прошлое
40 Жизнь с. Прокофьева 617
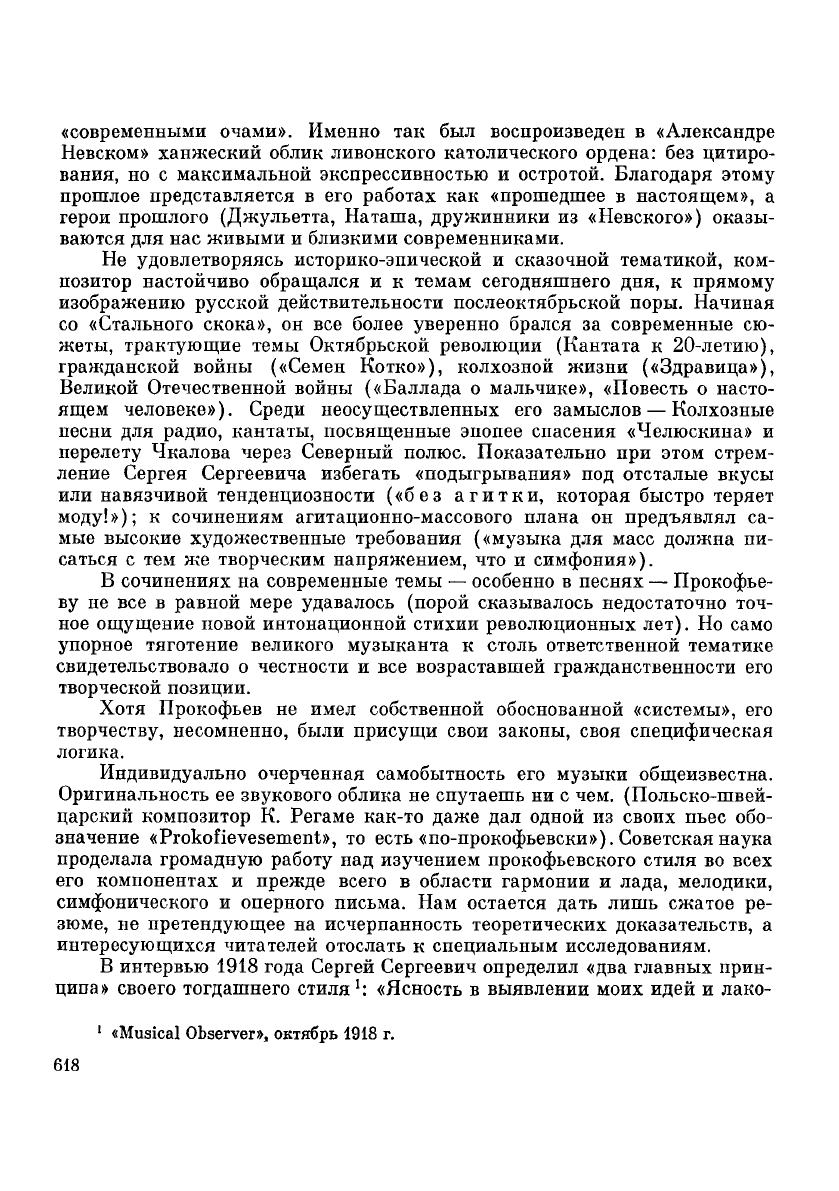
«современными очами». Именно так был воспроизведен в «Александре
Невском» ханжеский облик ливонского католического ордена: без цитиро-
вания, но с максимальной экспрессивностью и остротой. Благодаря этому
прошлое представляется в его работах как «прошедшее в настоящем», а
герои прошлого (Джульетта, Наташа, дружинники из «Невского») оказы-
ваются для нас живыми и близкими современниками.
Не удовлетворяясь историко-эпической и сказочной тематикой, ком-
позитор настойчиво обраш;ался и к темам сегодняшнего дня, к прямому
изображению русской действительности послеоктябрьской поры. Начиная
со «Стального скока», он все более уверенно брался за современные сю-
жеты, трактующие темы Октябрьской революции (Кантата к 20-летию),
гражданской войны («Семен Котко»), колхозной жизни («Здравица»),
Великой Отечественной войны («Баллада о мальчике», «Повесть о насто-
ящем человеке»). Среди неосуществленных его замыслов — Колхозные
песни для радио, кантаты, посвященные эпопее спасения «Челюскина» и
перелету Чкалова через Северный полюс. Показательно при этом стрем-
ление Сергея Сергеевича избегать «подыгрывания» под отсталые вкусы
или навязчивой тенденциозности («без агитки, которая быстро теряет
моду!»); к сочинениям агитационно-массового плана он предъявлял са-
мые высокие художественные требования («музыка для масс должна пи-
саться с тем же творческим напряжением, что и симфония»).
В сочинениях на современные темы — особенно в песнях — Прокофье-
ву не все в равной мере удавалось (порой сказывалось недостаточно точ-
ное ощущение повой интонационной стихии революционных лет). Но само
упорное тяготение великого музыканта к столь ответственной тематике
свидетельствовало о честности и все возраставшей гражданственности его
творческой позиции.
Хотя Прокофьев не имел собственной обоснованной «системы», его
творчеству, несомненно, были присущи свои законы, своя специфическая
логика.
Индивидуально очерченная самобытность его музыки общеизвестна.
Оригинальность ее звукового облика не спутаешь ни с чем. (Польско-швей-
царский композитор К. Регаме как-то даже дал одной из своих пьес обо-
значение «Prokofievesement», то есть «по-прокофьевски»). Советская наука
проделала громадную работу над изучением прокофьевского стиля во всех
его компонентах и прежде всего в области гармонии и лада, мелодики,
симфонического и оперного письма. Нам остается дать лишь сжатое ре-
зюме, не претендующее на исчерпанность теоретических доказательств, а
интересующихся читателей отослать к специальным исследованиям.
В интервью 1918 года Сергей Сергеевич определил «два главных прин-
ципа» своего тогдашнего стиля «Ясность в выявлении моих идей и лако-
' «Musical Observer», октябрь 1918 г.
618:
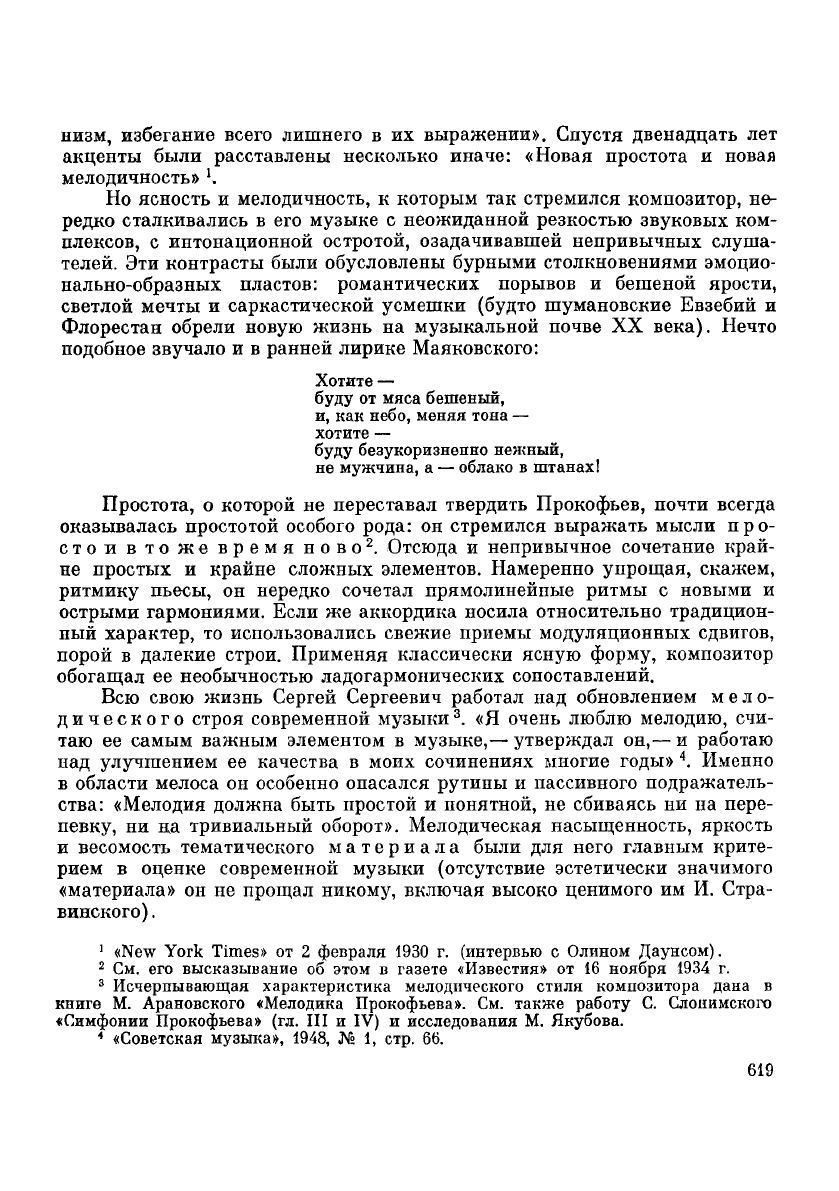
низм, избегание всего лишнего в их выражении». Спустя двенадцать лет
акценты были расставлены несколько иначе: «Новая простота и новая
мелодичность»
Но ясность и мелодичность, к которым так стремился композитор, не-
редко сталкивались в его музыке с неожиданной резкостью звуковых ком-
плексов, с интонационной остротой, озадачивавшей непривычных слуша-
телей. Эти контрасты были обусловлены бурными столкновениями эмоцио-
нально-образных пластов: романтических порывов и бешеной ярости,
светлой мечты и саркастической усмешки (будто шумановские Евзебий и
Флорестан обрели новую жизнь на музыкальной почве XX века). Нечто
подобное звучало и в ранней лирике Маяковского:
Хотите —
буду от мяса бешеный,
и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!
Простота, о которой не переставал твердить Прокофьев, почти всегда
оказывалась простотой особого рода: он стремился выражать мысли про-
стои в то же время новоОтсюда и непривычное сочетание край-
не простых и крайне сложных элементов. Намеренно упрош;ая, скажем,
ритмику пьесы, он нередко сочетал прямолинейные ритмы с новыми и
острыми гармониями. Если же аккордика носила относительно традицион-
ный характер, то использовались свежие приемы модуляционных сдвигов,
порой в далекие строи. Применяя классически ясную форму, композитор
обогащал ее необычностью ладогармонических сопоставлений.
Всю свою жизнь Сергей Сергеевич работал над обновлением мело-
дического строя современной музыки «Я очень люблю мелодию, счи-
таю ее самым важным элементом в музыке,— утверждал он,— и работаю
над улучшением ее качества в моих сочинениях многие годы»Именно
в области мелоса он особенно опасался рутины и пассивного подражатель-
ства: «Мелодия должна быть простой и понятной, не сбиваясь ни на пере-
певку, ни на тривиальный оборот». Мелодическая насыш;енность, яркость
и весомость тематического материала были для него главным крите-
рием в оценке современной музыки (отсутствие эстетически значимого
«материала» он не прощал никому, включая высоко ценимого им И. Стра-
винского) .
' «New York Times» от 2 февраля 1930 г. (интервью с Олином Даунсом).
2 См. его высказывание об этом в газете «Известия» от 16 ноября 1934 г.
^ Исчерпывающая характеристика мелодического стиля композитора дана в
книге М. Арановского «Мелодика Прокофьева». См. также работу С. Слонимского
«Симфонии Прокофьева» (гл. III и IV) и исследования М. Якубова.
* «Советская музыка», 1948, № 1, стр. 66.
619:
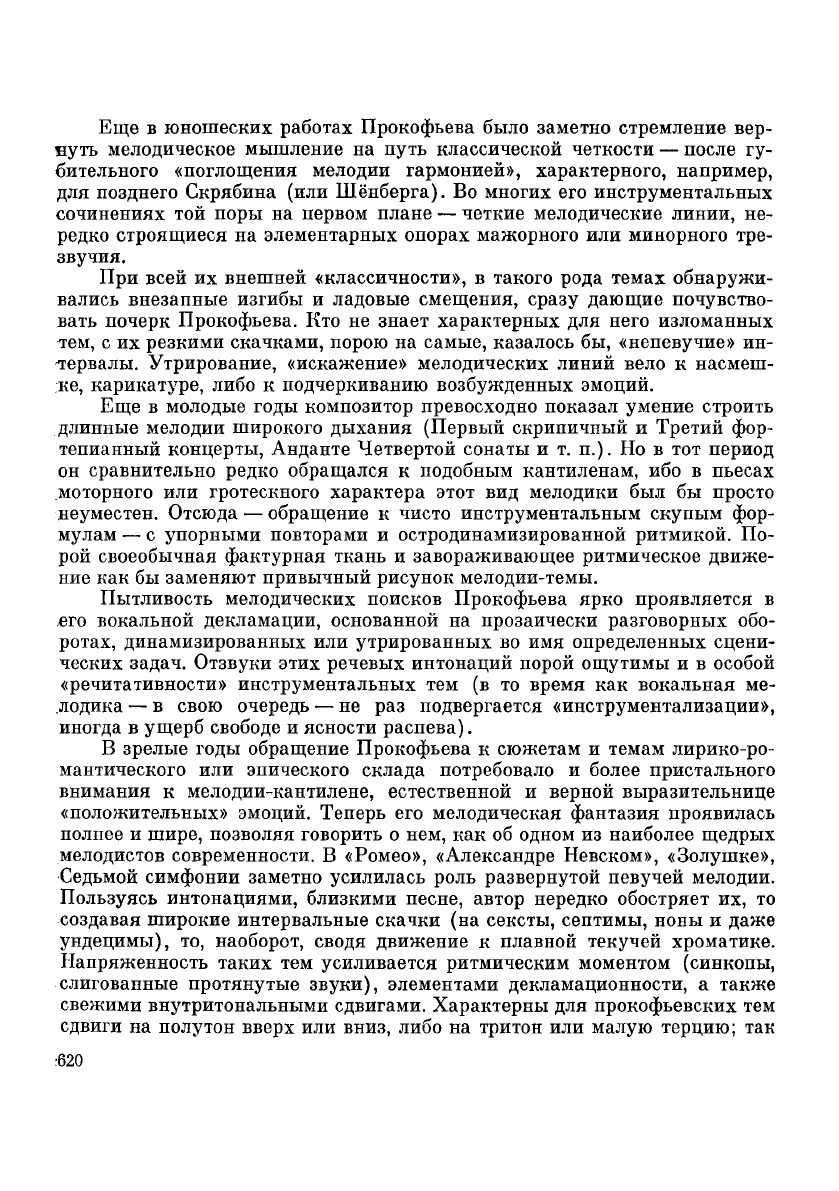
Еще в юношеских работах Прокофьева было заметно стремление вер-
нуть мелодическое мышление на нуть классической четкости — после гу-
бительного «ноглош;ения мелодии гармонией», характерного, например,
для позднего Скрябина (или Шёнберга). Во многих его инструментальных
сочинениях той поры на первом плане — четкие мелодические линии, не-
редко строящиеся на элементарных опорах мажорного или минорного тре-
звучия.
При всей их внешней «классичности», в такого рода темах обнаружи-
вались внезапные изгибы и ладовые смещения, сразу дающие почувство-
вать почерк Прокофьева. Кто не знает характерных для него изломанных
тем, с их резкими скачками, порою на самые, казалось бы, «непевучие» ин-
тервалы. Утрирование, «искажение» мелодических линий вело к насмеш-
ке, карикатуре, либо к подчеркиванию возбужденных эмоций.
Еще в молодые годы композитор превосходно показал умение строить
длинные мелодии широкого дыхания (Первый скрипичный и Третий фор-
тепианный концерты. Анданте Четвертой сонаты и т. п.). По в тот период
он сравнительно редко обращался к подобным кантиленам, ибо в пьесах
моторного или гротескного характера этот вид мелодики был бы просто
неуместен. Отсюда — обращение к чисто инструментальным скупым фор-
мулам — с упорными повторами и остродинамизированной ритмикой. По-
рой своеобычная фактурная ткань и завораживающее ритмическое движе-
ние как бы заменяют привычный рисунок мелодии-темы.
Пытливость мелодических поисков Прокофьева ярко проявляется в
его вокальной декламации, основанной на прозаически разговорных обо-
ротах, динамизированных или утрированных во имя определенных сцени-
ческих задач. Отзвуки этих речевых интонаций порой ощутимы и в особой
«речитативности» инструментальных тем (в то время как вокальная ме-
.лодика — в свою очередь — не раз подвергается «инструментализации»,
иногда в ущерб свободе и ясности распева).
В зрелые годы обращение Прокофьева к сюжетам и темам лирико-ро-
мантического или эпического склада потребовало и более пристального
внимания к мелодии-кантилене, естественной и верной выразительнице
«положительных» эмоций. Теперь его мелодическая фантазия проявилась
полнее и шире, позволяя говорить о нем, как об одном из наиболее щедрых
мелодистов современности. В «Ромео», «Александре Невском», «Золушке»,
Седьмой симфонии заметно усилилась роль развернутой певучей мелодии.
Пользуясь интонациями, близкими песне, автор нередко обостряет их, то
создавая широкие интервальные скачки (на сексты, септимы, ноны и даже
ундецимы), то, наоборот, сводя движение к плавной текучей хроматике.
Напряженность таких тем усиливается ритмическим моментом (синкопы,
слигованные протянутые звуки), элементами декламационности, а также
свежими внутритональными сдвигами. Характерны для прокофьевских тем
сдвиги на полутон вверх или вниз, либо на тритон или малую терцию; так
:620
