Равич-Щербо И.В. Психогенетика
Подождите немного. Документ загружается.

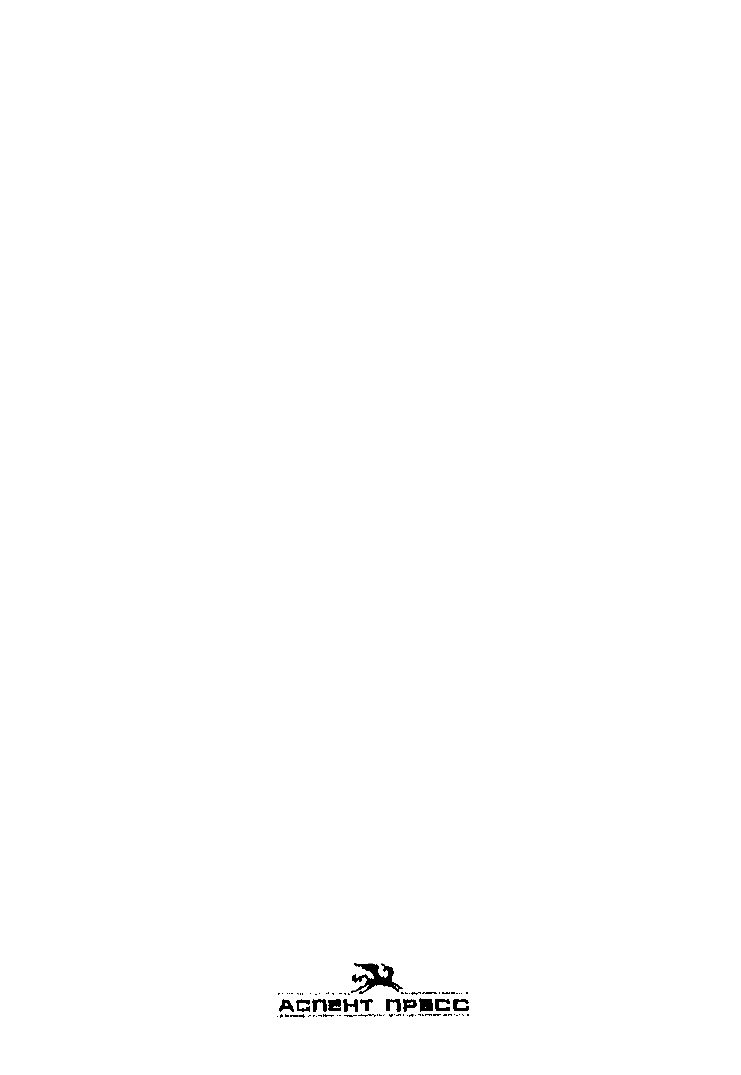
И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина,
Е. Л. Григоренко
ПСИХОГЕНЕТИКА
Под редакцией
И. В. Равич-Щербо
Рекомендовано Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности и направлению
«Психология»
Москва
2000

УДК 159.9
ББК88
Р 12
Федеральная программа
книгоиздания России
Рецензенты:
канд. психол. наук
С.А. Исайчев,
доктор биол. наук
И.И. Полетаева
Равич-Щербо И. В. и др.
Р12
Психогенетика, Учебник/И. В. Равич-Щербо, Т. М. Ма-
рютина, Е. Л. Григоренко. Под ред. И. В. Равич-Щербо —
М.; Аспект Пресс, 2000,- 447 с.
ISBN 5-7567-0232-6
Первый на русском языке учебник по психогенетике для студентов
университетов и пединститутов. В доступной и систематизированной фор-
ме излагаются необходимые базовые сведения по общей генетике, эмпи-
рическим и математическим методам современной психогенетики, соот-
ношению генетических и средовых детерминант в межиндивидуальной ва-
риативности когнитивных функций, динамических характеристик психики
и движений, психофизиологических признаков, в нормальном и отклоня-
ющемся индивидуальном развитии. Коротко излагается история психоге-
нетики за рубежом и в России. В приложении дана программа курса лек-
ций по психогенетике.
УДК 159.9
ББК88
ISBN 5-7567-0232-6
© «Аспект Пресс», 1999, 2000

ОТ АВТОРОВ
Еще не так давно потребности в учебнике по психогенетике у нас не
существовало: такой курс не читали, он не входил в учебные планы. Объяс-
нялось это, вероятнее всего, доминировавшим убеждением в «социаль-
ной природе психики человека», распространявшимся и на историческое
возникновение человеческой психики, и на происхождение индивиду-
ально-психологических различий. И если в частых дебатах о «биологичес-
ком и социальном в человеке» физиологические основы этих различий
все же обсуждались, то постановка вопроса об их наследственных детер-
минантах, казалось, в корне противоречила этому убеждению, считалась
принципиально неверной. Исключением был лишь факультет психологии
МГУ, где с 1982 г. на кафедре общей психологии читается спецкурс «Пси-
хогенетика».
Сейчас ситуация принципиально изменилась: расширяется круг ис-
следователей, работающих в этой области, и, главное, Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
психогенетика включена и число базовых дисциплин при подготовке про-
фессионалов-психологов. Все это говорит о том, что психогенетика как
самостоятельная область знаний успешно развивается и, хотелось бы ве-
рить, будет привлекать к себе все новые молодые силы. Для них — этот
первый на русском языке, учебник.
Создание такого учебника для гуманитариев оказалось гораздо более
трудной задачей, чем представлялось авторам вначале. Трудности связаны,
прежде всего, с междисциплинарным характером психогенетики; именно
это обстоятельство поставило перед нами ряд вопросов,
Можно было идти двумя путями: ограничиться изложением только
данных самой психогенетики, вне контекста обшей генетики, нейрофи-
зиологии и т.д., либо — за счет некоторого сокращения собственно пси-
хологической части — дать и основные сведения по смежным (а точнее —
«материнским») дисциплинам, без знания которых эмпирический мате-
риал психогенетики не может быть правильно понят. Мы выбрали второй
из этих путей.
Еще одна трудность заключалась в выборе материала для изложения.
Дело в том, что различные психологические и психофизиологические
признаки исследованы в психогенетике с разной полнотой: огромный
массив работ по генетике интеллекта несопоставим с очень небольшим,
часто измеряемым единицами, количеством исследований, например,
моторики, психофизиологических и некоторых других функций. Степень
3

обобщенности и надежности результатов в этих случаях, конечно, разная.
Надо ли излагать в учебнике интересные, но единичные работы, в кото-
рых авторы пока могут скорее поставить задачу, чем решить ее?
Таких вопросов было множество, мы обсуждали их и между собой, и
с коллегами, работающими в других областях психологии, и в конце кон-
цов сочли, что информация, расширяющая научный кругозор, должна
быть включена в учебник, став легко доступной каждому, кто захочет
вникнуть в проблему чуть глубже стандартной программы.
Учитывая, что учебник предназначается главным образом студентам-
психологам, многие собственно психологические вопросы, важные для
оценки надежности полученных в психогенетике данных и их адекватной
интерпретации, здесь лишь кратко обозначаются. Предполагается, что до
курса психогенетики студенты прослушали лекции по общей и возраст-
ной психологии, психодиагностике, статистике, знакомы с проблемой
психологической индивидуальности.
Нам хотелось, чтобы учебник не только давал знания начинающим
психологам, но и побуждал их к размышлению, сопоставлению, анализу
данных. Естественно, первый опыт чреват многими недостатками. Мы бу-
дем рады получить отклики, замечания, пожелания.
Главы написаны: Е.Л. Григоренко — I-VI, VIII, XIX; Т.М. Марюти-
ной — XII-XVIII; И.В. Равич-Щербо — остальные главы. Предисловие,
Введение, Заключение, Общая редакция — И.В. Равич-Щербо. Приятный
долг авторов учебника — поблагодарить доктора биологических наук
В.И. Трубникова за детальную консультацию и редактирование статисти-
ческой главы; наших рецензентов доктора биологических паук И. И. Поле-
таеву и кандидата психологических паук С.А. Исайчева — за тщательный
анализ текста и конструктивные предложения, которые мы постарались
учесть при окончательной доработке текста. Авторы признательны Инсти-
туту «Открытое общество» за поддержку и включение учебника в про-
грамму «Высшее образование».
В качестве приложения к данному учебнику публикуется программа
курса «Психогенетика» для вузов. Программа составлена И.В. Равич-Щер-
бо с учетом многолетнего опыта преподавания психогенетики в вузах
Москвы и других городов России. Она выдержала конкурс, проводивший-
ся в 1998 г. Институтом «Открытое общество».

ПРЕДИСЛОВИЕ
Определение области: о чем этот учебник?
Психогенетика — междисциплинарная область знаний, пограничная
между психологией (точнее, дифференциальной психологией) и генети-
кой; предметом ее исследований являются относительная роль и взаимо-
действие факторов наследственности и среды в формировании индивиду-
альных различий по психологическим и психофизиологическим призна-
кам. В последние годы в сферу психогенетических исследований включается
и индивидуальное развитие: и механизмы перехода с этапа на этап, и
индивидуальные траектории развития.
В западной литературе для обозначения этой научной дисциплины
обычно используется термин «генетика поведения» (behavioral genetics).
Однако в русской терминологии он представляется неадекватным (во вся-
ком случае, применительно к человеку). И вот почему.
В отечественной психологии понимание термина «поведение» изме-
нялось, и достаточно сильно. У Л.С. Выготского «развитие поведения» —
фактически синоним «психического развития», и, следовательно, для него
справедливы закономерности, установленные для конкретных психичес-
ких функций. Однако в последующие годы «поведение» стало пониматься
более узко, скорее как обозначение некоторых внешних форм, внешних
проявлений человеческой активности, имеющих личностно-обществен-
ную мотивацию.
С.Л. Рубинштейн еще в 1946 г. писал, сопоставляя понятия «деятель-
ность» и «поведение», что именно тогда, когда мотивация деятельности
перемещается из сферы вещной, предметной, в сферу личностно-обще-
ственных отношений и получает в действиях человека ведущее значение,
«деятельность человека приобретает новый специфический аспект. Она
становится поведением в том особом смысле, который это слово имеет,
когда по-русски говорят о поведении человека. Оно коренным образом
отлично от «поведения» как термина бихевиористской психологии, со-
храняющегося в этом значении в зоопсихологии. Поведение человека зак-
лючает в себе в качестве определяющего момента отношение к мораль-
ным нормам» [133; с. 537].
Б.Г. Ананьев вопрос о соотношении «поведения» и «деятельности»
рассматривал в ином аспекте, а именно с точки зрения того, какое из
этих двух понятий является более общим, родовым. Он полагал, что его
решение может быть разным в зависимости от ракурса изучения челове-
ка. Например, при исследовании личности и ее структуры более широ-
ким должно приниматься понятие поведения, а деятельность и ее виды
5
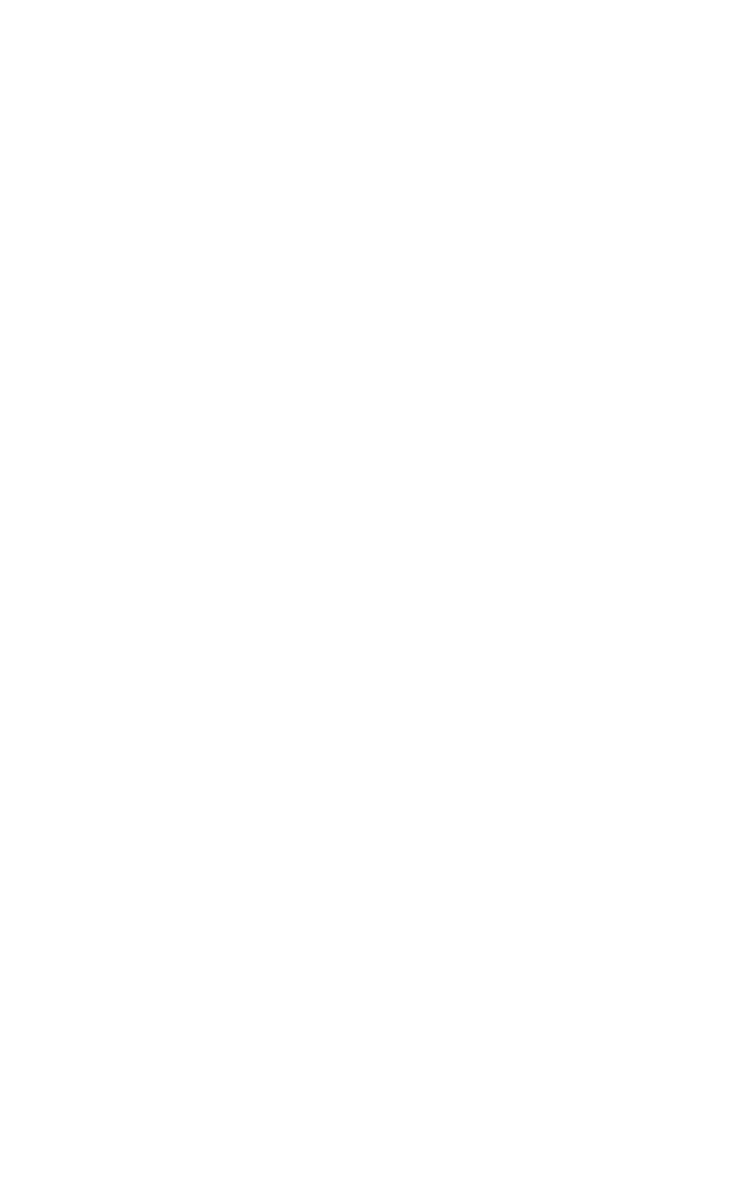
(например, профессиональная и т.д.) в этом случае являются частными
понятиями. Тогда личность становится субъектом поведения, «посред-
ством которого реализуется потребность в определенных объект-ситуа-
циях» [4. Т. 1; с. 160].
Д.Н. Узнадзе предложил классификацию форм поведения, в которую
входят такие формы, как труд, игра, художественное творчество и т.д.
В вышедшем совсем недавно «Психологическом словаре» (М., 1996)
мы найдем следующее определение: «Поведение — извне наблюдаемая
двигательная активность живых существ, включающая моменты непод-
вижности, исполнительное звено высшего уровня взаимодействия целос-
тного организма с окружающей природой» [129; с. 264]. Столь широкое
определение справедливо и для поведения животных. Но дальше читаем:
«Поведение человека всегда общественно обусловлено и обретает харак-
теристики социальной, коллективной, целеполагающей, произвольной и
созидающей деятельности. На уровне общественно-детерминированной
деятельности человека термин П. обозначает также действия человека по
отношению к обществу, др. людям и предметному миру, рассматривае-
мые со стороны их регуляции общественными нормами нравственности и
права» [там же].
Наверное, такая жесткая связь поведения именно с двигательной ак-
тивностью и ограничение среды природой может вызвать возражения
(и справедливые). Обратимся к другому словарю и увидим несколько иное
определение: «Поведение — присущее живым существам взаимодействие
с окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной)
или внутренней (психической) активностью... П. человека трактуется как
имеющая природные предпосылки, но в своей основе социально обус-
ловленная, опосредствованная языком и другими знаково-смысловыми
системами деятельность, типичной формой которой является труд, а ат-
рибутом — общение» [85; с. 244],
Согласно С.Л. Рубинштейну, «единицей» поведения является посту-
пок, как «единицей» деятельности вообще — действие. При этом посту-
пок — лишь такое действие человека, «в котором ведущее значение имеет
сознательное отношение человека к другим людям..., к нормам обще-
ственной морали» [133. Т, II; с. 9].
С этим определением согласуются и более поздние, например, имею-
щиеся в психологических словарях последних лет: единицы поведения —
поступки, под которыми разумеется «социально оцениваемый акт пове-
дения, побуждаемый осознанными мотивами... П. как элемент поведения
подчинен мотивам и целям человека» [128; с. 269]; «поступок — личност-
но-осмысленное, лично сконструированное и лично реализованное по-
ведение (действие или бездействие)»... [129; с. 276].
Существуют и другие определения термина «поведение», другие под-
ходы к его анализу [96, 171, 179]. Однако никогда в это понятие не вклю-
чаются, например, баллы IQ, объем памяти, особенности внимания и
т.п. (не говоря уже о психофизиологических признаках), т.е. все те харак-
теристики индивидуальности, ее отдельных уровней и подструктур, кото-
рые исследует «генетика поведения» (behavioral genetics).
6

Неопределенность термина хорошо видна в некоторых определениях этой
области знаний. Так, в предисловии к книге «Генетика поведения и эволю-
ция», в которой есть и большие главы о психических функциях человека,
Е.Н. Панов пишет, что генетика поведения — область знаний, оформившаяся
«на пересечении таких дисциплин, как собственно генетика, биология разви-
тия и комплекс наук о поведении, включающий психологию, этологию и эко-
логическую физиологию. Задачей этого нового направления стало изучение
онтогенеза
обширного класса
биологических
(курсив наш. —
И.Р.-Щ.)
функ-
ций организма, именуемых «поведением» и обеспечивающих по существу дву-
стороннюю связь между индивидуумом и окружающей его экологической и
социальной средой, Глобальность этой задачи уже сама по себе явилась
причиной того, что в сферу интересов генетики поведения вскоре оказались
втянутыми столь далекие друг от друга разделы науки и практики, как эндок-
ринология и психиатрия, биохимия и педагогика, нейрофизиология и лингви-
стика, антропология и селекция сельскохозяйственных животных» [177; с. 5],
Сами авторы пишут: «В качестве поведения мы будем рассматривать любые
формы активности, проявляемой организмом как единым целым по отноше-
нию к окружающей среде и условиям его существования» [там же; с. 10].
Таким образом, в одну науку — генетику поведения — включаются и педагоги-
ка, и сельскохозяйственная селекция, и многое другое. Это возможно в двух
случаях; либо когда термин «генетика поведения» трактуется как более ши-
рокий, родовой по отношению к «психогенетике», либо когда полагают, что,
поскольку механизмы генетической передачи едины для всего живого, изуче-
ние генетики признаков, относящихся к столь разным областям, может быть
объединено в одну науку.
Это верно, если исследователь решает генетические задачи, такие, напри-
мер, как тип наследования признака, локализация генов, ответственных за его
проявление, и т.п. Но подобное объединение едва ли правильно, когда реша-
ются психологические проблемы, связанные со структурой человеческой ин-
дивидуальности, этиологией индивидуальных различий, типологией индиви-
дуального развития.
Генетика поведения животных дает убедительную эволюционную ос-
нову для постановки вопроса о роли генотипа и среды в изменчивости
психологических черт человека. Однако ясно, что простой перенос на че-
ловека данных, полученных при изучении животных, невозможен хотя
бы по трем основным причинам. Во-первых, высшие психические функ-
ции человека имеют совершенно иное содержание, иные механизмы, чем
«одноименные» поведенческие признаки у животных; научение, реше-
ние задач, адаптивное поведение и т.д. у человека — не то же самое, что у
животных. Например, обучение у человека не тождественно образованию
простых условно-рефлекторных связей у животного, поэтому возможность
выведения «чистых линий» лабораторных животных по обучаемости сама
по себе не означает генетическую обусловленность обучения у человека.
Во-вторых, наличие у человека социальной преемственности, «програм-
мы социального наследования» [50] меняет и способы передачи некото-
рых психологических признаков из поколения в поколение. Наконец,
в-третьих, для диагностики и измерения многих признаков у человека
используются совсем иные, чем у животных, техники, адресованные к
другим, иногда вообще отсутствующим у животных системам, уровням
7

управления и интеграции. Ясно, например, что произвольные движения
человека, осуществляемые по речевой инструкции и, соответственно, по
законам осознанной произвольной саморегуляции, не имеют полных ана-
логов в движениях животного. А это означает, в свою очередь, что даже
если будет доказана генетическая обусловленность двигательного науче-
ния у человека, она может относиться к иной, по существу, функции,
нежели двигательное поведение животных.
Все это говорит о том, что роль наследственных и средовых детерми-
нант в фенотипической вариативности психологических и психофизио-
логических функций человека должна быть специальным предметом ис-
следования, хотя есть целый ряд задач, надежно решаемых только в рабо-
те с животными, где возможны любые формы эксперимента. Вот почему,
не отрицая необходимости и продуктивности генетических исследований
поведения животных, тогда, когда речь идет о человеке, правильнее обо-
значать эту область термином «психологическая генетика» («психогенети-
ка»)*, т.е. «генетика психологических признаков». Диагностируя те или
иные психологические особенности в их внешних, поведенческих прояв-
лениях (иного способа просто нет), мы всегда полагаем объектом генети-
ческого исследования саму эту особенность как присущую человеку чер-
ту, а не разнообразные формы се реализации во внешнем поведении. Тер-
мин же «генетика поведения» целесообразно оставить за изучением
поведения животных.
В зарубежной литературе этот вопрос тоже вставал. В 1951 г. К. Холл,
отмечая, что, как система знаний о наследственности психологических
признаков, психогенетика — пока скорее обещание, чем реальность, писал:
«Настоящая генетика поведения все же должна возникнуть, поскольку
психологи все шире используют в своих исследованиях методы современ-
ной генетики, а генетики все более регулярно занимаются проблемами
поведения. Эта многообещающая тенденция в конце концов приведет к
созданию и определит общие черты промежуточной науки — психогене-
тики» [164; с. 405]. Психогенетика, продолжал он, «может оказаться ис-
ключительно ценной для освещения динамики поведения» [там же; с. 434],
т.е. психогенетические подходы могут быть средством, необходимым для
понимания человеческого поведения.
В немецкой литературе, когда речь идет о человеке, чаще использует-
ся термин «психогенетика» (Psychogеnetik), а термин «генетика поведе-
ния» (Verhaltensgenetik) относится главным образом к исследованию жи-
вотных. Как пишет видный немецкий психогенетик Ф. Вайс, несмотря на
существование и других обозначений этой области знаний, с конца 70-х го-
дов профессиональным психологическим сообществом было принято
«короткое и ясное обозначение — "психогенетика"» [448; с. 9].
* Существуют аналогичным способом образованные понятия «медицинская
генетика», «фармакогенетика» и т.д. Вместе с тем близкий термин «генетическая
психология», прочно связанный с именем Ж. Пиаже, относится к онтогенезу пси-
хики и образован от слова«генезис», а не «генетика». Об этом также иногда напо-
минают зарубежные исследователи [см., напр., 448].
8

Перечень работ, в которых так или иначе обсуждается вопрос о тер-
минологии, можно продолжить. Однако для нас сейчас важен сам факт
его обсуждении, ибо он свидетельствует о профессионально строгом под-
ходе к используемой терминологии вообще и о необходимости точного
употребления каждого из этих двух понятий — в частности. Правда, суще-
ствует и другая точка зрения. Например, В. Томпсон и Г. Уайльд — авторы
одного из больших обзоров, принимая термин «генетика поведения» не
только в силу личных предпочтений, но и потому, что именно так была
озаглавлена первая работа, суммировавшая всю эмпирику этой области
исследований (и тем самым давшая термину «права гражданства»), пола-
гают, что разница рассматриваемых терминов не столь велика, чтобы ее
обсуждать [425]. Так ли это?
Думается, не так. Помимо того, что четкое определение и дифферен-
циация терминов в науке необходимы всегда, в данном случае смешение
понятий чревато не только методологическими, но и мировоззренчески-
ми, нравственными ошибками. Это — не спор о словах. Ведь если мы
принимаем термин «генетика поведения», то объектом генетического
анализа должен стать поступок, т.е. (как следует из его определения) со-
циально оцениваемый акт, Тогда мы неизбежно допускаем возможность
наследуемости индивидуальных убеждений, мотивов, ценностных ориен-
тации и т.д. — всего того, что движет поступками, т.е. поведением челове-
ка. Методологически это неверно: все, что знает психологическая наука о
структуре личности, личностных чертах и их генезисе, противоречит та-
кой постановке вопроса. Это противоречит и знаниям современной гене-
тики, ибо в пределах нормы нет социально «хороших» и социально «пло-
хих» генов, но есть индивидуальный генотип, определяющий те или иные
(социально индифферентные!) индивидуальные особенности, чьи разви-
тие и реализация направляются, канализируются той средой, с которой
данный человек взаимодействует. Вот почему одна и та же генетически
заданная черта может, в зависимости от мотивов деятельности, получить
и положительный, и отрицательный социальный смысл. Именно поэтому
обозначение области знаний в данном случае содержательно важно. Пото-
му и учебник, который вы держите в руках, называется «Психогенети-
ка», и речь в нем будет идти о факторах, формирующих межиндивидуаль-
ную вариативность конкретных психологических черт, а не человеческих
поступков и поведения.
В связи с этим следует сказать несколько слов о генетической нейро-
и психофизиологии. Хотя исследования биоэлектрической активности
мозга, функций вегетативной нервной системы, гормональной системы
и т.д. непосредственно в систему психологических знаний не входят, они
являются необходимым звеном и в понимании человеческой индивиду-
альности, и в общей логике психогенетического исследования. Путь от
гена к психологическому признаку лежит через морфофункциональный
уровень; иначе говоря, в геноме человека закодирован не «интеллект в
столько-то баллов», а такие морфофункциональные особенности орга-
низма (в большинстве своем нам еще не известные), которые вместе со
средовыми влияниями и создают все разнообразие интеллектов, темпе-
раментов и т.д. «Поскольку организм и активен, и реактивен, важность
9

генных элементов в организации поведенческого паттерна покоится па
взаимодействии органической структуры и психологической функции в
течение жизни индивидуума. Нет поведения без организма; нет организма
без генотипа и нет физиологической адаптации без непрерывной и пол-
ностью интегрированной генной активности» [302; с. 344].
Несмотря на давность, эти слова верны и сейчас, и именно эта логи-
ка определяет особое место генетической психофизиологии в общей струк-
туре психогенетических исследований. Парадокс заключается в том, что,
несмотря на общепризнанность данного положения, соответствующих
исследовательских программ в мире — единицы, количество работ по
генетике нейро- и психофизиологических признаков несопоставимо мало
по сравнению с психологическими. Имеющиеся в этой области данные
изложены в четвертом разделе и главе XVIII пятого раздела.
План учебника продиктован тем, что он предназначается студентам
небиологических специальностей — будущим психологам, педагогам. Этим
же определяется и некоторая диспропорция частей: детальное изложение
общих генетических закономерностей и столь же детальный рассказ о ней-
ро- и психофизиологии самих по себе, с одной стороны, и достаточно
сжатый анализ собственно психологических признаков — с другой.
Вначале, во Введении, коротко показано место психогенетики в ис-
следованиях индивидуальности человека, дана краткая история психоге-
нетических исследований, в том числе и
РОССИИ
. В главах I—VI изложены
основные сведения современной генетики о механизмах наследственной
передачи и наиболее общих правилах, которым она подчиняется. В главе VI
приводятся данные относительно воздействия различных компонентой
среды — проблемы, которой в последние 10-15 лет генетики уделяют
больше внимания. В главах VII-VIII рассматриваются методы психогене-
тики и математические способы оценки доли генетических и средовых
влияний в общей дисперсии признака. В главах IX-XVI излагаются эмпи-
рические данные, касающиеся изменчивости показателей интеллекта и
других когнитивных признаков, темперамента, моторики, психофизио-
логических функций. Главы XVII-XIX посвящены одной из новых облас-
тей — психогенетике индивидуального развития, в том числе его девиан-
тных форм.
Наконец, в Заключении подводятся итоги, в частности, формулиру-
ются общие выводы о том, что же в целом означают результаты, полу-
ченные психогенетикой; что она даст для фундаментальных психологи-
ческих исследований и для решения прикладных задач; в чем заключа-
ются, по мнению авторов учебника, наиболее актуальные задачи этой
отросли знаний.
И последнее. В силу того, что общий список цитируемой и упоминае-
мой литературы к данному учебнику достаточно обширен, мы сочли воз-
можным не давать списки литературы, рекомендуемой для особого изуче-
ния, к каждой главе, а просто выделили ее жирным шрифтом в общем
списке.
10
