Равич-Щербо И.В. Психогенетика
Подождите немного. Документ загружается.

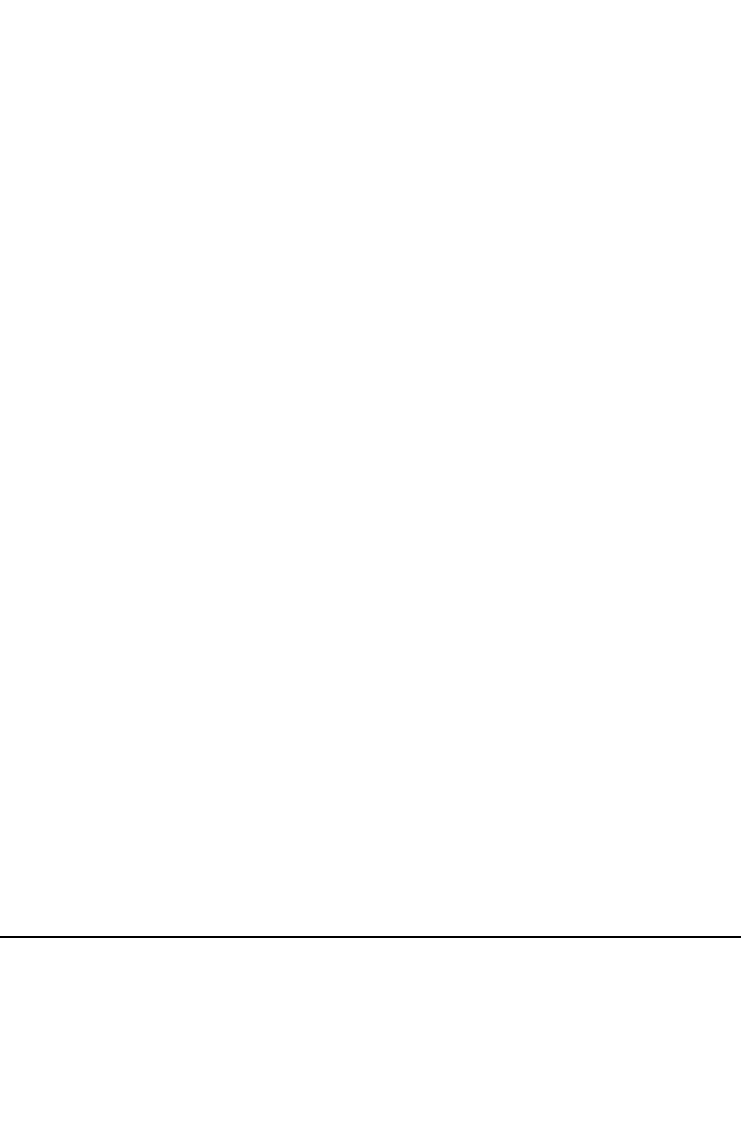
Достоинства человека как генетического объекта автор усматри-
вал в следующем:
— в почти полном отсутствии естественного отбора, что должно
привести к «огромному накоплению» менделирующих признаков;
— в возможности относительно точно изучать генетику психичес-
ких особенностей, главным образом психических аномалий;
— в гораздо большей изученности физиологии и морфологии;
поскольку даже «идеальное фенотипическое сходство признаков не
гарантирует их генетической идентичности», такая изученность по-
зволяет более надежно идентифицировать изучаемые признаки. Более
того, «физиологические и морфологические различия могут получить
подтверждение со стороны этого (генетического. —
И. Р.-Щ.)
анали-
за, и таким образом дифференциация признаков в значительной мере
облегчается» [92; с. 275]*. Хорошее знание физиологии объекта «под-
сказывает и курс искания механики развития признака, его феноге-
неза», т.е. решается «проблема осуществления признака» [там же].
Помимо всего этого, такие исследования имеют большое значе-
ние для новой главы биологии — геногеографии. Есть и многие другие
преимущества антропогенетики, но особо автор остановился на од-
ном, а именно на «тех возможностях, которые доставляет изучение
близнячества» [92; с. 277].
Далее С.Г. Левит проанализировал преимущества близнецового
метода по сравнению с генеалогическим и статистическим. Они зак-
лючаются, в частности, в том, что близнецы — своего рода «чистая
линия»**, и потому исследование их имеет «чрезвычайно важное» зна-
чение при изучении характера реакции организма на внешние воз-
действия (т.е. намечен метод контрольного близнеца). Понятно, что
генеалогический метод для таких задач непригоден.
Дальнейшие исследования, по мнению автора, могут касаться та-
ких кардинальной важности проблем, как воспитание, психогенети-
ка и т.д. «В первую очередь, — подчеркивает он, — надлежит при этом
поставить вопрос о соотносительной роли в соответствующей реак-
ции организма генотипа и среды и о тех воздействиях, которые по-
требуется применить для получения желательного эффекта» [92; с. 280].
Примером таких задач может служить тестирование в психотехнике:
что оно вскрывает — природную одаренность или приобретенный опыт
испытуемого? Другой пример. Испытание разных педагогических при-
емов: если обучать близнецов разными методами, то можно узнать,
* Здесь впервые высказана мысль о том, что генетическое исследование мо-
жет стать инструментом анализа структуры изучаемого признака. Для психологии
это особенно продуктивный, а иногда и единственный способ познания некото-
рых психологических закономерностей.
** Линии лабораторных животных, получаемые путем скрещивания близко-
родственных особей.
41
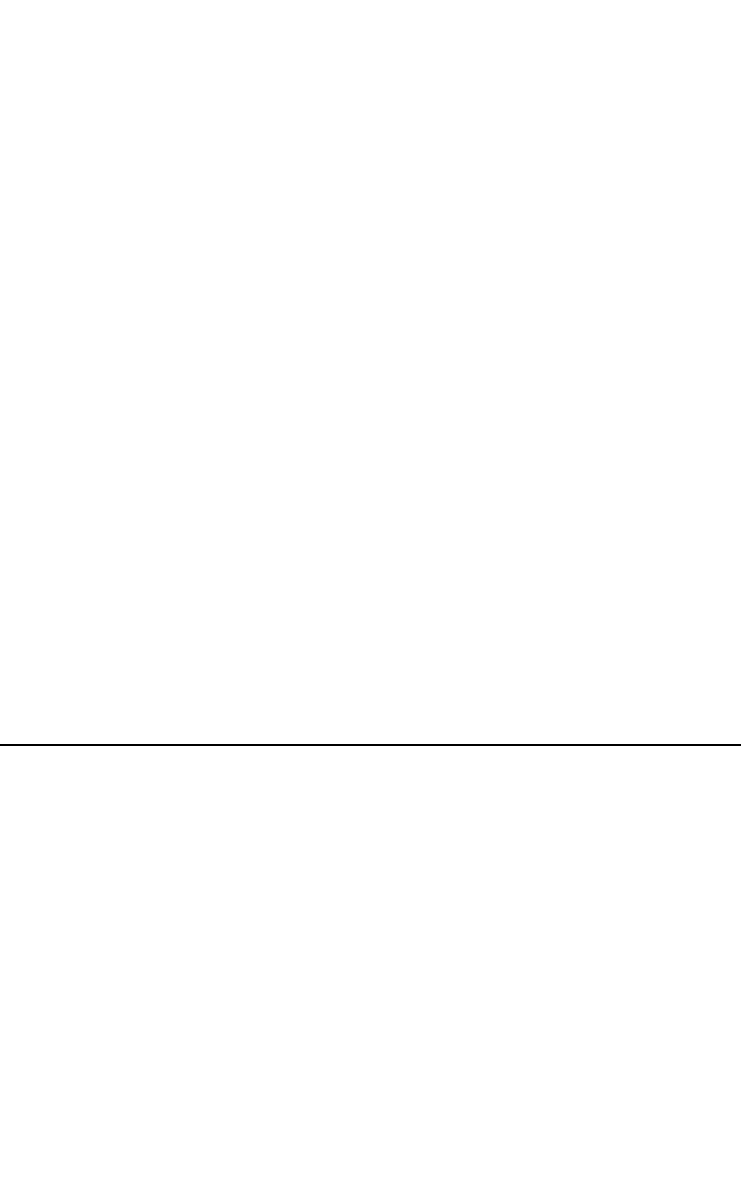
какой из них эффективнее. Поэтому одну из задач института С. Г. Ле-
вит видел во всестороннем развитии близнецового метода, предпола-
гая при этом, что работа с близнецами будет «бессрочной» — от рож-
дения до смерти, и изучаться будут все доступные исследованию при-
знаки. Согласно С.Г. Левиту, такая работа началась в 1929 г.*.
К моменту написания статьи «в активе» были 124 пары близне-
цов**, работал коллектив из врачей всех специальностей; в перспек-
тиве имелось в виду включение в работу психологов, антропологов,
психотехников, педагогов, педологов, создание близнецовых ясель и
детского сада. Была разработана регистрационная карта, которая рас-
сылалась по роддомам (она приведена в статье). Отмечался и недоста-
ток близнецового метода — трудность накопления большого материала.
Близнецовым исследованиям анатомии, физиологии, патологии
и — меньше — психологии полностью посвящен том III «Трудов»
института (1934). К тому времени обследованием было охвачено около
700 пар близнецов. Возник вопрос: как должно развиваться исследова-
ние дальше, после того как установлена соотносительная роль на-
следственности и среды в изменчивости признака? Данному вопросу
была посвящена статья С.Г. Левита, открывавшая том [93]. Ее основ-
ной смысл заключался в следующем.
Первое, чего не хватает существующим исследованиям, — это
учета возрастных различий,
поскольку одна и та же внутрипарная раз-
ность в различных возрастах должна расцениваться по-разному. Реше-
ние данной проблемы может быть статистическим (но с довольно
большой ошибкой) и экспериментальным, при котором один и тот
же признак изучается для каждой возрастной группы отдельно. Разли-
чия возрастов по соотношению гено- и паратипических факторов могут
определяться двумя причинами: различиями в генном комплексе,
обусловливающем данный признак, и большими возможностями па-
ратипических воздействий в более старшем возрасте. Поэтому в ин-
* Первое в России исследование методом близнецов провел д-р В.Н. Вайн-
берг в Детской профилактической амбулатории Московско-Курской железной
дороги в 1927/28 и 1928/29 учебных годах. Оно было посвящено поиску причин
именно индивидуальных различий (а не родовых характеристик) интеллекта,
содержало достаточно полный и детальный разбор зарубежных исследований и
отражало вполне соответствующий сегодняшним воззрениям взгляд на механиз-
мы передачи генетических влияний на поведение (только через субстратный,
морфофункциональный уровень). Однако собственно экспериментальная часть
базировалась на изучении всего 2 пар близнецов — сирот из детских домов,
причем за первой из них наблюдения велись в течение 3 лет (6-7—8 лет), за
второй — 2 года (8-9 лет). Вызывает удивление результат наблюдений — абсо-
лютное внутрипарное тождество всех полученных величин. В перспективе, по
словам автора, предполагалось исследование разлученных близнецов, но даль-
нейших публикаций, очевидно, не было.
* * В 1936 г. изучались уже 1350 пар; как заметил С.Г. Левит, «это, по-видимо-
му, рекордное число».
42
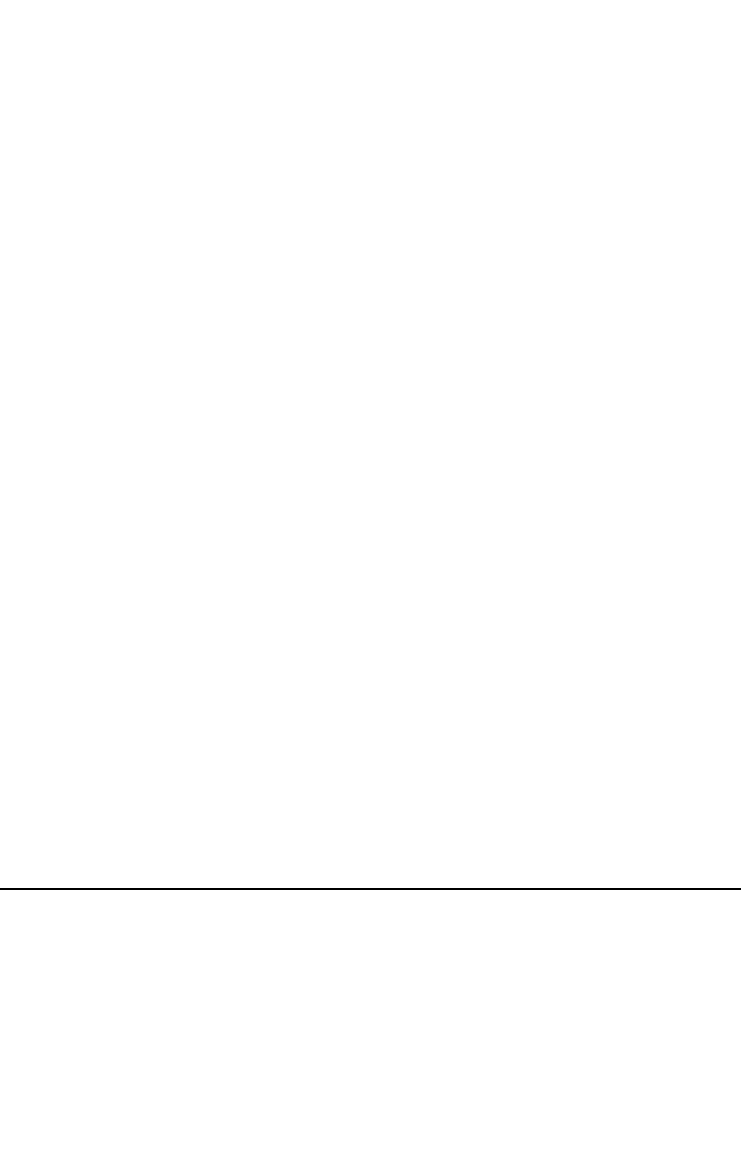
ституте были начаты исследования близнецов двух возрастных групп —
1-3 года и 8—10 лет.
Второе, на что следует обратить внимание, — это
фактор среды,
т.е. необходимо учитывать конкретные среды, социальный статус, суб-
культуру и т.д., поскольку соотносительная роль двух факторов в этих
случаях может быть различной. Кроме того, близнецовый метод по-
зволяет установить, какие именно факторы среды ответственны за
появление того или иного признака.
Наконец, близнецовый метод может быть использован «и для диф-
ференциации внешне сходных, но биологически различно детерми-
нированных признаков» [с. 9]. Применительно к качественным, аль-
тернативным признакам эту задачу успешно решает генеалогический
метод; близнецовый дает возможность изучать и количественные при-
знаки. По признанию С.Г. Левита, особенно многообещающими по-
добного рода исследования должны были стать для психологии [с. 10],
и тогда же по инициативе А. Р. Лурия такие исследования начались
(работа А.Н. Миреновой в том же томе).
Но и этим не исчерпываются возможности близнецового метода.
Он позволяет экономно изучить корреляцию признаков и функций,
получить сведения о сравнительной эффективности разных типов воз-
действий (в том числе педагогических) и, что особенно ценно, о
длительности эффекта того или иного воздействия.
В институте к тому времени была начата работа по всем этим на-
правлениям. Основные ее результаты были опубликованы в 1936 г. в
четвертом, последнем томе «Трудов», теперь уже Медико-генетичес-
кого института им. A.M. Горького. Судя по данным, содержащимся, в
частности, в статье С.Г. Левита, исследованиями, проводившимися в
институте, были охвачены уже 1350 пар близнецов; использовались и
развивались три основных метода: клинико-генеалогический, патоло-
гический, близнецовый, и соответственно три основных области ис-
следований: патология, биология и психология. Близнецы использо-
вались — «впервые в науке» — для изучения физиологической корре-
ляции признаков у человека и для оценки целесообразности того или
иного терапевтического или педагогического воздействия.
Но одновременно, по мере накопления экспериментальных дан-
ных, использования новых генетико-статистических методов*, росло
* Правда, С.Г. Левит одновременно отметил отставание «по линии математи-
ческой генетики». В какой-то степени это замечание было правильным, а в какой-
то — нет. Действительно, работы Р. Фишера, оказавшие огромное влияние па
развитие генетики, у нас не были достаточно ассимилированы (во всяком случае,
в исследованиях психологических признаков). Но вместе с тем разработанный в
том же институте М.В. Игнатьевым (с учетом работ Р. Фишера) статистический
аппарат для оценки доли наследственности и двух типов средовых воздействий
используется в почти неизменном виде и по сей день. В частности, он предложил
различать «сводящую» и «разводящую» среду вместо терминологически неудачных
43

и понимание ограничений этого метода (и способов обработки полу-
чаемых результатов), преодолеть которые можно привлечением дру-
гих категорий родственников, каких-либо групп населения, живущих
в одних и тех же условиях, и т.д. Эти суммировавшие и обозначавшие
перспективу работы С.Г. Левита существенно отличны от всего пре-
дыдущего. Думается, не будет преувеличением сказать, что именно
они, вместе с экспериментальными исследованиями этого институ-
та, положили начало науки психогенетики в России.
Обратимся к экспериментальным исследованиям. Наиболее систе-
матических и психологически содержательных исследований было два:
одно — начатое по инициативе А.Р. Лурия (о чем писал С.Г. Левит) и
представленное в то время четырьмя публикациями — А.Н. Миреновой;
ее и В.Н. Колбановского [116], А.Р. Лурия и А.Н. Миреновой [100, 101],
а также примыкавшей к ним по общей исследовательской идеологии
работой А.Н. Миреновой [115], и еще одной поздней публикацией
А.Р. Лурия [99]; второе — работой М.С. Лебединского [91], тоже вы-
полненной в кабинете психологии Медико-биологического института.
Целью первой группы работ было выяснение тренируемости ком-
бинаторных функций ребенка, влияние их тренировки на другие пси-
хические процессы, устойчивость полученных эффектов.
В экспериментах участвовали 5 пар МЗ близнецов 5-5,5 лет. Использо-
вался метод контрольного близнеца, при котором близнецы одной пары ре-
шали одну и ту же задачу в несколько разных условиях. Конкретно детям
предлагалось воспроизвести постройку из кубиков, сделанную эксперимен-
татором, но одному из них эта постройка предъявлялась, оклеенная бумагой.
В результате один близнец видел все кубики, из которых состоит образец, и
мог просто копировать его (элементный метод), второй же должен был сам
понять, из каких частей состоит заданная постройка, и методом проб и оши-
бок воспроизвести ее (метод моделей).
Каждому ребенку давалось 12 заданий возрастающей сложности, трени-
ровка длилась 2 месяца. Затем экспериментаторы проверяли, насколько и
как меняются и сама конструктивная (точнее, «конструкторская») деятель-
ность ребенка, и стоящие за ней перцептивные и мыслительные (сейчас мы
бы сказали — регуляторные) функции, и, кроме того, насколько стабильны
полученные изменения. Повторная диагностика производилась дважды —
через 3 месяца после конца обучения и через 1,5 года (в этом контроле
участвовали только три пары).
К сожалению, здесь нет возможности детально пересказывать со-
держание этих работ, хотя они заслуживают большого внимания имен-
«внутрисемейных» и «межсемейных» факторов среды [64]. Однако в литературе, в
том числе психогенетической, надолго укоренилась именно вторая пара понятий,
психологически бессодержательная. И только в последние годы появились терми-
ны «общая» и «индивидуальная» среда, «разделенная» и «неразделенная» и т.д.,
по смыслу идентичные предложенным М.В. Игнатьевым. К сожалению, все это
происходит фактически без упоминания его имени.
44

но потому, что они очень психологичны: речь в них идет не просто о
констатации генетических и средовых влияний в отдельном признаке
(не это было основной задачей), а обо всей психологической структу-
ре некоторой деятельности и даже о поведении ребенка [напр., 115].
Общие же результаты суммированы в последнем сообщении [101] и
сводятся к следующему:
— тренировка методом поэлементного копирования не давала за-
метного развития конструктивной деятельности ребенка и мало пере-
страивала его перцептивные процессы;
— противоположный метод, метод моделей, наоборот, существен-
но менял и конструктивные операции, и воспринимающую деятель-
ность. При этом шла перестройка не только тех перцептивных дей-
ствий, которые были включены в тренируемую деятельность, но и
тех, которым дети непосредственно не обучались;
— изменилось даже понимание «речевых и логических отноше-
ний».
Иначе говоря, «в результате обучения у детей был вызван не толь-
ко навык к конструктивной деятельности, но и глубокая перестройка
лежащих за этим навыком психологических функций» [101; с. 488].
Контроль, проводившийся через 1,5 года, дал особенно интерес-
ные результаты.
Сами по себе конструктивные навыки обнаружили тенденцию к
угасанию, различие же в «скрытых за этим навыком
психологических
операциях
обнаруживает значительно большую устойчивость» [с. 504]*.
Отсюда следовал практический вывод о необходимости изменения
существовавших в детских садах того времени конструктивных игр.
Дополнительно к этому в работе А.Н. Миреновой [115] было пока-
зано, что элементарные двигательные действия и более сложные, име-
ющие дело со сложными координациями, протекающими либо в на-
глядном поле, либо по внутренней схеме, имеют и разную степень
гено- и паратипической обусловленности, и разную податливость тре-
нировке**.
Последняя работа (хронологически одна из первых, 1932), на ко-
торой необходимо остановиться, — работа М.С. Лебединского [91],
сопровожденная комментарием редакции журнала о том, что ряд его
положений и выводов она считает спорными. По существу же это, по-
видимому, первая отечественная работа с определенным психологи-
ческим контекстом, содержащая анализ и общей методологии, и конк-
* Интересно, что одна пара, которая квалифицировалась как особо одарен-
ная и для которой все обучение было слишком легким, не дала заметных разли-
чий нигде.
** В этой работе использован обычный вариант близнецового метода — срав-
нение внутрипарного сходства ОБ (4 пары) и ДБ (6 пар) 4-4,5 лет.
45

ретных методов психологического исследования. Только в ней мы нахо-
дим и обзор проведенных к тому времени близнецовых исследований.
Эта работа имеет вполне очевидную направленность, ибо в ней
продемонстрированы все ограничения близнецового метода вообще и
применительно к психологическим признакам в частности. Автор дей-
ствительно подметил многие существенные моменты, обсуждаемые и
сейчас.
В первом же параграфе статьи «Наследственность в психологии»
автор пишет, что это — один из наиболее серьезных вопросов науч-
ной психологии и, не имея четкого ответа на него, «нельзя всерьез
решать многих других вопросов теоретической или прикладной пси-
хологии»; что «редко можно встретить работу, более или менее широ-
ко ставящую проблемы идеологии, где мельком, походя, не встреча-
лась бы и попытка ответа на вопрос, которому посвящена настоя-
щая... статья» [91; с. 163].
Его собственное исследование охватывает довольно большую вы-
борку — 52 пары ОБ и 38 пар ДБ; возрастной диапазон, по-видимо-
му, — от 6 до 47 лет*. Диагностировался очень широкий спектр психо-
логических признаков — интеллектуальных, характерологических, дви-
гательных, непосредственных и опосредованных. Среди методик есть
и стандартизованные тесты, и клиническое наблюдение. Не все 90 пар
изучались с помощью всех методик — в каждой возрастной подгруппе
использовались диагностические приемы, адекватные возрасту,
Общие выводы делятся на две части; одна — о разрешающей спо-
собности близнецового метода, другая — о гено- и паратипической
обусловленности психологических признаков. Коротко эти выводы
таковы:
□ при использовании близнецового метода надо иметь в виду,
что внутриутробное развитие может создать различия у ОБ**. Впро-
чем, то же справедливо и для ДЗ близнецов;
□ обстоятельства внутриутробной жизни отражаются и на после-
дующем развитии, что осложняет использование метода;
□ для членов одной пары, особенно ДБ, средовые влияния не
настолько одинаковы, как постулируется методом, что осложняет его
применение еще больше;
□ однако все это не означает, что для психологии исследования
близнецов нецелесообразны; возникают новые задачи: задача иссле-
* Автор не сообщает формальные характеристики выборки; возрастной диа-
пазон «вычисляется» по описанным случаям и субгруппам.
* * М.С. Лебединский противопоставляет это обычным утверждениям об иден-
тичности ОБ, что неправильно, так как в последнем случае речь идет о генетичес-
кой идентичности, которую внутриутробная (и любая другая обычная) среда не
изменяет. Неравные условия эмбрионального развития могут создавать у МЗ близ-
нецов физиологическое, но не генетическое несходство.
46

дования гено- и паратипических влияний остается, только в несколь-
ко иной постановке. Эта постановка заключается в переходе к вопросу
«о роли биологического (в более широком смысле слова) вообще в
развитии психики и его взаимоотношениях с социальным» [91; с. 202].
Изучение наследственных влияний возможно «при правильном пони-
мании генотипа» [там же]. В некоторых случаях полезно объединение с
другими методами, прежде всего — с семейным;
□ для генетического исследования целесообразно брать наиболее
четко очерченные индивидуальные черты, в частности специальную
одаренность;
□ вместе с тем исследование близнецов дает исключительно бла-
гоприятную возможность для изучения других важных психологичес-
ких проблем.
Относительно же гено- и паратипических влияний на признаки,
исследованных в данной работе, выводы, как пишет автор, лишь
«скромные и предварительные»:
□ в целом сходство ОБ выше, чем ДБ, но не настолько, как во
многих других исследованиях;
□ близнецы (и ОБ, и ДБ) вообще внутрипарно очень похожи,
что говорит в основном о решающей роли социальной среды в фор-
мировании психики;
□ исследование, не охватывающее широкий спектр психических
функций, в частности тех, которые возникают лишь в процессе раз-
вития, «не обнаруживает и вовсе» большего сходства ОБ*, что в свою
очередь «показывает, как вооружает социальная среда психику чело-
века» [91; с. 204];
□ с возрастом по одним функциям близнецы сближаются, по
другим их различие увеличивается. Более благоприятные условия спо-
собствуют повышению сходства близнецов, особенно по интеллекту,
по которому меняется и сравнительное сходство ОБ и РБ: у малень-
ких (особенно трехлетних) различия между ними выражены сильнее;
□ по соотношению гено- и паратипических влияний характер и
историка не отличаются от интеллекта. Двигательный тренаж под-
твердил эффективность даже кратковременного педагогического вме-
шательства.
И, наконец, общий вывод о том, что все сказанное «полезно для
научной критики тех заблуждений и извращений», которые есть в
научной литературе.
Вероятно, правильно будет сказать, что эта работа М.С. Лебединс-
кого вместе с другими, упоминавшимися нами ранее исследованиями
Медико-генетического института были очень хорошим началом со-
держательных психогенетических исследований в России. Трагические
* Вывод сформулирован нечетко и в принципе даже противоречит подходу
автора.
47
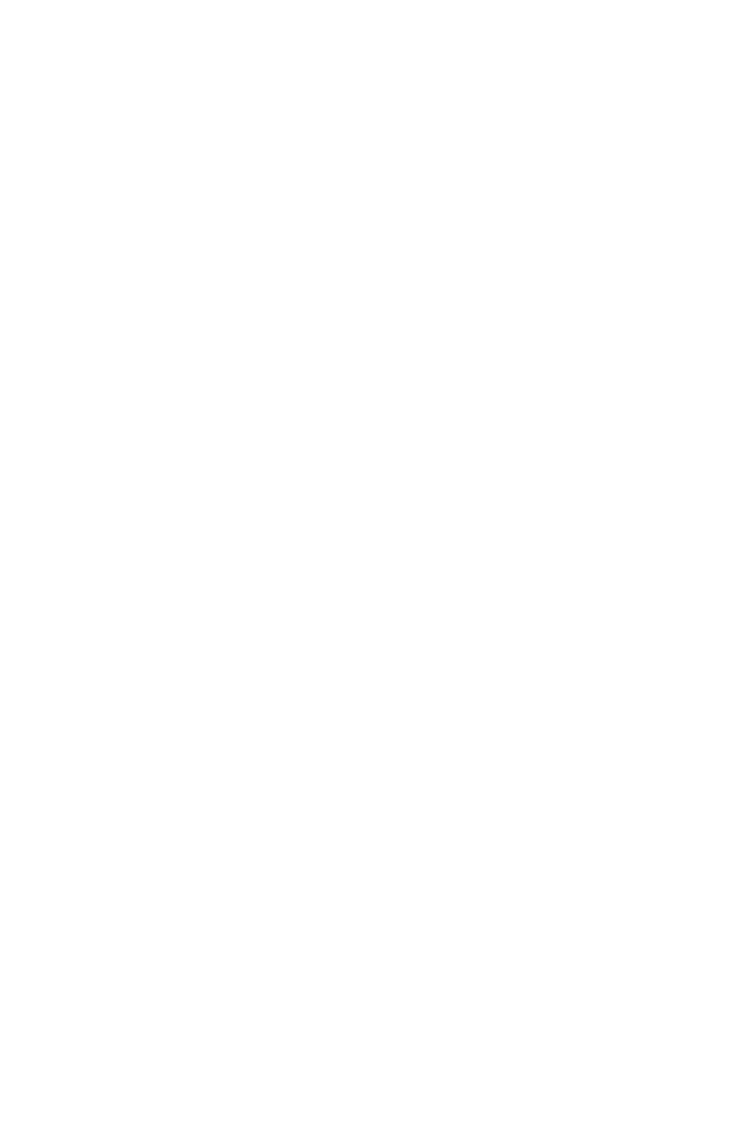
30-е годы оборвали их на много лет, и второе дыхание генетика поведе-
ния получила в нашей стране только в конце 60-х — начале 70-х годов,
Однако нельзя не обратить внимание и на своеобразные ограни-
ченности научного мировоззрения исследователей того времени. В этом
смысле бросаются в глаза две особенности: во-первых, не рефлекси-
ровалось различие двух проблем — причин межиндивидуальной вари-
ативности и формирования функции как таковой, и, во-вторых, им-
плицитно предполагалось, что изменяемость функции (особенно в
результате целенаправленных педагогических воздействий) свидетель-
ствует в пользу ее средового происхождения. С этим связано и убежде-
ние в том, что функции более высокого (по психологической струк-
туре) порядка, появляющиеся в онтогенезе относительно поздно,
должны сильнее зависеть от средовых влияний, т.е. опять-таки лучше
поддаваться тренировке, изменению, чем более «простые» функции.
Очень четко это обнаруживается, например, даже в позиции
Л.С. Выготского, который в 1931 г. писал: «Самые высокие моторные
функции наиболее воспитуемые,
потому что
(курсив наш. —
И. Р.-Щ.)
они не являются филогенетическими, а приобретаются в онтогенезе»
[31. Т. V; с. 133], «... функции «А» (высшие психические функции)...
мало зависят от наследственности, а, следовательно, зависят от опре-
деленных условий воспитания, от социальной среды». Они же оказы-
ваются и «более воспитуемыми» по сравнению с функциями «В», т.е.
элементарными, которые «наследственно более обусловлены» [там же].
Или: «...чем элементарнее и, следовательно, биологически более не-
посредственно обусловлена данная функция, тем больше она усколь-
зает от направляющего воздействия воспитания» [там же; с. 291].
Однако у Л.С. Выготского мы находим и мысли, весьма созвучные
современным, относящимся, в частности, к проблеме темперамента
и характера [там же; с. 137-150] и, главное, к индивидуальному раз-
витию. «Развитие — не простая функция, полностью определяемая
икс-единицами наследственности плюс игрек-единицами среды. Это
исторический комплекс, отображающий на каждой данной ступени
заключенное в нем прошлое. Другими словами, искусственный дуа-
лизм среды и наследственности уводит нас на ложный путь, он засло-
няет от нас тот факт, что развитие есть непрерывный самообусловли-
вающий процесс, а не марионетка, управляемая дерганием двух ни-
ток» [там же; с. 308]. При этом он подчеркивал, что генотипические
факторы должны исследоваться в единстве со средовыми, но после-
дние «не могут быть просто свалены в кучу путем беспорядочного
перечисления, исследователь должен представить их как структурное
целое, сконструированное с точки зрения развития ребенка» [там же;
с. 307-308].
Трагические события 30-х годов — ликвидация педологии, прида-
вавшей наследственности немалое значение, разгром генетики — пре-
рвали в нашей стране так интересно начинавшиеся психогенетичес-
48

кие исследования. Сама постановка вопроса о генетическом контроле
высших психических функций стала считаться не только неверной,
но и «реакционной». На несколько десятилетий отечественная психо-
генетика практически перестала существовать [125; 170; 280]. Правда,
появлялись отдельные работы, посвященные либо соматическим и
физиологическим признакам, либо патологии, либо самим близне-
цам. Среди них выделяется серия работ И.И. Канаева по генетике выс-
шей нервной деятельности, завершившаяся книгой «Близнецы» [69],
которая, как пишет в предисловии сам автор, явилась первой попыт-
кой «составить на русском языке краткий обзор огромного материала
по изучению близнецов»; книга А.Р. Лурия и Ф.Я. Юдович «Речь и
развитие психических процессов у ребенка» [102]. В 1962 г. в журнале
«Вопросы психологии» была опубликована статья А.Р. Лурия «Об из-
менчивости психических функций в процессе развития ребенка», на-
писанная по материалам, полученным им еще в 30-х годах в Медико-
генетическом институте. Опираясь на концепцию Л.С. Выготского, он
формулировал эвристичную гипотезу о том, что по мере развития
психические функции меняют механизмы своей реализации и тем
самым — свою связь с генотипом.
Этим почти исчерпывается перечень работ, посвященных генети-
ке индивидуально-психологических особенностей человека и опубли-
кованных у нас с конца 30-х до начала 70-х годов. Восстановление
систематических исследований по психогенетике можно датировать
концом 1972 г. Тогда в Институте общей и педагогической психоло-
гии Академии педагогических наук СССР на базе лаборатории диф-
ференциальной психофизиологии, которой многие годы руководил
выдающийся отечественный ученый Б.М. Теплов, а после его смер-
ти — его талантливый ученик В.Д. Небылицын, была создана первая
лаборатория, специальной задачей которой стало изучение наслед-
ственных основ индивидуально-психологических и психофизиологи-
ческих различий (до 1993 г. ею заведовала И.В. Равич-Щербо)*. В пер-
вые годы в центре внимания лаборатории находилась проблема этио-
логии свойств нервной системы [97], в дальнейшем основными
объектами исследования стали психофизиологические признаки (ЭЭГ,
ВП разных модальностей) и психогенетика индивидуального разви-
тия. Этим коллективом была издана, впервые на русском языке, дос-
таточно полная сводка современных работ по психогенетике [132],
опубликовано много статей в
ведущих научных журналах, издан но-
вый сборник экспериментальных работ под названием «Генетика по-
ведения: количественный анализ психологических и психофизиоло-
гических признаков в онтогенезе» (ред. С.Б. Малых, 1995), вышла книга
* Название лаборатории, как и название института, менялось. Сейчас это
лаборатория возрастной психогенетики Психологического института Российской
Академии Образования.
4-1432
49

М.С. Егоровой «Генетика поведения: психологический аспект» [57], в
которой, тоже впервые на русском языке, дан анализ современных
подходов к исследованию среды; недавно вышел труд С.Б. Малыха,
М.С. Егоровой, Т.А. Мешковой «Основы психогенетики» [106).
Ассимилируя содержательные подходы, которые, как уже отме-
чалось, сложились в отечественной науке в 30-х годах, эта группа
исследователей старается не просто регистрировать те или иные ста-
тичные феномены и затем выяснять причины их вариативности, а
пытается вскрыть те общие закономерности, которым подчиняется
динамика генотип-средовых соотношений. Выясняется это и в лабо-
раторном эксперименте (регистрируются, главным образом, психо-
физиологические характеристики), и в лонгитюдном исследовании
когнитивных и динамических характеристик. Оказалось, что межин-
дивидуальная вариативность фенотипически одного и того же при-
знака (например, одного и того же движения) может, как и предпо-
лагал А.Р. Лурия, иметь разные детерминанты при разных психологи-
ческих механизмах реализации признака. Очевидно, этот феномен
проявляется даже в признаках, принадлежащих к так называемому
биологическому уровню в структуре индивидуальности, который ап-
риорно полагается весьма ригидным, генетически заданным: гено-
тип-средовые соотношения в изменчивости зрительных ВП существен-
но меняются в зависимости от семантической структуры стимулов
(при равенстве физических характеристик!). Вероятно, смена механиз-
мов реализации «одноименных» функций, происходящая в онтогене-
зе, ответственна и за возрастную динамику генотип-средовых соотно-
шений (речь об этом пойдет далее).
Все это ставит очень существенный для психогенетики вопрос:
что же представляет собой психологический «признак» как объект
генетического изучения? Очевидно, психолог не может ограничиться
регистрацией только его фенотипического значения (например, ско-
рости реакции), но должен включить в это понятие и те механизмы,
при помощи которых данный «признак» реализуется. Иными слова-
ми, психологический признак — это «событие, а не структура», «опе-
рация, а не свойство». Понимание данной стороны дела необходимо
прежде всего в исследованиях по возрастной психогенетике, посколь-
ку именно с возрастом связано естественное изменение психологи-
ческих механизмов фенотипически неизменной функции. И, кроме
того, может быть, связанные с этим трудности являются причиной
многих расхождений в результатах психогенетических работ?
Вероятно, многое помогли бы понять психогенетические иссле-
дования, выполненные в русле определенной психологической кон-
цепции, которая позволяет содержательно интерпретировать изучае-
мый признак. Одна из очень немногих работ такого рода принадлежит
Н.Ф. Талызиной с сотрудниками [144]. Объектом их исследования стал
внутренний план мыслительной деятельности по П.Я. Гальперину.
50
